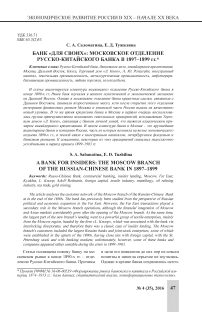Банк "для своих": московское отделение русско-китайского банка в 1897-1899 гг
Автор: Саломатина Софья Александровна, Тужилина Елизавета Дмитриевна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России в XIX - начале XX века
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется клиентура московского отделения Русско-Китайского банка в конце 1890-х гг. Ранее банк изучался в аспекте политической и экономической экспансии на Дальний Восток. Однако в московском отделении банка кредитные сделки, связанные с Дальним Востоком, занимали второстепенное место, хотя после открытия этого отделения интеграция финансовых рынков Москвы и азиатской части России вышла на качественно новый уровень. В то же время кредитами банка в Москве в первую очередь воспользовалась группа преимущественно московских текстильных предприятий, возглавляемая Торговым домом «Л. Кноп», связанная с банком личной унией, что является классическим примером инсайдерского кредитования. В целом клиентура банка в Москве - это крупнейшие акционерные банки и компании России, часть из которых возникла на волне экономического подъема 1890-х гг., в тесной связи с иностранным капиталом, петербургским фондовым и банковым рынками. К сожалению, некоторые из этих предприятий оказались недостаточно устойчивыми в период кризиса 1899-1903 гг.
Русско-китайский банк, банковское дело, инсайдерское кредитование, москва, дальний восток, кяхта, торговый дом "л. кноп", а. ю. ротштейн, иностранный капитал, текстильная промышленность, металлургическая промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, чайная торговля, золотодобыча
Короткий адрес: https://sciup.org/14723827
IDR: 14723827 | УДК: 336.71
Текст научной статьи Банк "для своих": московское отделение русско-китайского банка в 1897-1899 гг
Статья посвящена новому банку на московском рынке в конце 1890-х гг. – отделению Русско-Китайского банка. Причины и цели его появления до сих пор не совсем понятны и никогда серьезно не изучались. Однако в архиве банка сохранились источ- ники, из которых можно выяснить, кого кредитовало данное отделение. Результат данного исследования оказался довольно неожиданным, но только на первый взгляд: наибольшая часть кредитных средств была направлена не на Дальний Восток, а была вложена в основном в московские предприятия группы Торгового дома «Л. Кноп», представители которого входили в руководство банка. В целом, клиентура банка – это яркий список хорошо известных историкам банков, фирм, компаний и предпринимателей 1890-х гг.
Таким образом, данная статья – это не только повод опубликовать выявленные факты, но и проанализировать такие вопросы, как инсайдерское кредитование (кредитование лиц и фирм, близких к банку), монополизм на банковском рынке и элитарность банковской клиентуры Нового времени. С другой стороны, это –, конечно же, сюжет об интеграции финансовых рынков Российской империи, когда Москва в конце 1890-х гг. впервые получила прямой выход на Дальний Восток.
Русско-Китайский банк, как правило, ассоциируется в историографии с дальневосточной экспансией Российской империи. Банк был учрежден в 1895 г. по инициативе С. Ю. Витте при содействии французских капиталов и российского правительства и просуществовал до 1910 г., когда после слияния с Северным банком стал частью Русско-Азиатского банка. Правление Русско-Китайского банка находилось в Санкт-Петербурге, кроме того, в конце 1890-х гг. банк имел обширную сеть отделений на российском Дальнем Востоке (во Владивостоке, Благовещенске, Верхнеудинске, Иркутске, Кяхте, Николаеве и Чите), в Китае, Японии, а также в Париже. В апреле 1897 г. было учреждено московское отделение.
Какую цель преследовало руководство банка, основывая подразделение в Москве? В литературе нет ответа на этот вопрос, потому что Русско-Китайский банк больше изучался как политический проект, а исследования банка как бизнеса не ставили самостоятельной целью изучение московского отделения [9, c. 163–188; 14, c. 571–572, 619–620; 22, c. 293–314]. Однако возможности для изучения этого вопроса имеются: в архиве московского отделения в Центральном государственном архиве Москвы (ЦГА Москвы) хранится вексельная книга за 1899– 1900 гг., содержащая информацию обо всех кредитных сделках отделения за эти годы.
Данные бухгалтерской книги представляют собой табличную структуру, поэтому это готовый материал для реляционной базы данных. Методика работы с бухгалтерскими книгами, используемая в данной работе, впервые опробована О. В. Чистовой [19, c. 315–352]. Данная методика заключается в том, что бухгалтерская книга переводится в формат базы данных. Объем полученной таким образом естественной выборки уточняется через сопоставление архивных данных с цифрами годовых отчетов банков, которые публиковались отдельными брошюрами и до сих пор доступны в крупных библиотеках. Дополнительная информация о клиентах банка (фирмах, компаниях, предпринимателях) выявляется по справочной и научной литературе.
Источником фактов о клиентах банка послужили работы И. И. Левина, В. И. Бовыкина, Ю. А. Петрова [3; 4; 5; 8; 12]. Очень полезными для нашего исследования оказались современные энциклопедии и справочники по экономической истории, истории купечества и предпринимательства, истории Сибири, так как они отражают современные достижения в области изучения данной тематики [2; 7; 20; 21]. В то же время, поскольку клиентами московского отделения Русско-Китайского банка оказался почти исключительно крупный бизнес, важным источником о размере капитала и составе правлений являются дореволюционные справочники по банкам, компаниям и торговым домам [1; 6; 15; 16; 18].
Очень важной для нашего исследования оказалась работа американского эко- номического историка Наоми Ламоро, посвященная феномену «инсайдерского кредитования» в Новой Англии в первой половине XIX в. [23]. Инсайдерское кредитование – это кредитование лиц, фирм, компаний, близких к руководству банка, т. е. связанных с ними деловыми, родственными и другими социальными связями. Таким образом банк решает проблему асимметрии информации, когда кредитовать нужно только надежных клиентов, а проверка кредитоспособности требует времени и затрат. Инсайдерское кредитование отражает определенный уровень экономического развития, когда на рынке есть недостаток капиталов, и имеющихся ресурсов хватает в первую очередь на предприятия учредителей банка. По мере увеличения ресурсов на рынке должна заработать система оценки кредитоспособности неблизких, т. е. малоизвестных, банку заемщиков, которые тоже будут допущены к банковскому кредиту. Концеп- туализация в работе Н. Ламоро оказалась очень ценной для интерпретации результатов анализа клиентской сети московского отделения Русско-Китайского банка.
Статья имеет следующую структуру, кроме введения и заключения: раздел об источниковедческих особенностях и структуре записей в вексельной книге московского отделения за 1899 г., затем следует раздел о клиентах московского отделения.
Таким образом, данная статья заполняет лакуны в истории Русско-Китайского банка, дальневосточной экспансии Российской империи, углубляет наше понимание особенностей московского кредитного рынка в конце 1890-х гг., уточняя детали в истории известных фирм, компаний, предпринимателей, а также некоторые обстоятельства кризиса 1899–1903 гг.
Вексельная книга за 1899 г.
Главным источником нашего исследования является вексельная книга москов-
Таблица 1
Пример записи в вексельной книге за 1899 г.* / An example of record in discount book of 1899
|
Столбец / Column |
Пример заполнения |
|
Месяц / Month |
Октябрь |
|
Число / Date |
11 |
|
Предъявитель / Holder |
Прорубников Ф. Ф. |
|
Где выдан / Place of issue |
Нижегородская ярмарка |
|
Месяц / Month |
Август |
|
Число / Date |
12 |
|
На какой срок / Term |
7 |
|
Векселедатель / Drawer |
Акбердин С. Л. |
|
Приказ / Order |
Прорубников Ф. Ф. |
|
Бланки / Endorsement |
Прорубников Ф. Ф. |
|
Срок / Term |
22 мая |
|
Место платежа / Place of payment |
Москва |
|
Частные суммы / Particular sums |
2 000,00 |
|
Общая сумма / Total sum |
2 000,00 |
|
Примечание / Comment |
* Записи в книге распложены по горизонтали, в табл. 1 запись развернута вертикально для удобства представления данных.
Источник: ЦГА Москвы. – Ф. 265. – Оп. 1. – Д. 55. – Л. 13 об.–14.
ского отделения Русско-Китайского банка за 1899 г. Вексельная книга находится в составе архивного фонда московского отделения в Центральном государственном архиве Москвы (ЦГА Москвы, ф. 265). Сам фонд небольшой, всего 203 единицы хранения за 1898–1917 гг., в основном это циркуляры правления, переписка с другими банками, торгово-промышленными предприятиями по поводу проводимых операций, разные бухгалтерские книги.
Используемая нами вексельная книга – уникальный источник, так как это единственная книга такого типа, сохранившаяся за первые годы деятельности банка (1897–1900 гг.). На обложке указано, что это вексельная книга за 1898–1899 гг., однако на самом деле в нее внесены записи с 14 января 1899 г. по 8 декабря 1901 г., так как книгу заказывали, рассчитывая на больший объем операций, чем получилось в итоге. К тому же далеко не все зарегистрированные в книге операции являются учетом векселей, присутствуют также ссуды под залог товаров, получение платежей по векселям (инкассо) и другие операции. В книге 98 страниц-разворотов, из которых использовано только 76. На этих 76 страницах расположены записи об операциях, пример записи приводится в табл. 1.
Данная запись означает следующее: 2 августа 1899 г. на Нижегородской ярмарке некий С. Л. Акбердин приобрел у Ф. Ф. Прорубникова (крупного кяхтинского чаеторговца) товар на сумму 2 000 рублей (видимо, это и был чай), но расплатился не наличными, а долговым обязательством, т. е. векселем. Прорубников, в свою очередь, 11 октября 1899 г. продал эту долговую расписку банку за наличные (т. е. предъявил к учету, и банк учел вексель, исключив из него сумму, равную учетному проценту), и в итоге Акбердин должен будет уплатить 2 000 руб. банку в Москве 22 мая 1900 г.
Как правило, один предъявитель приносил в банк сразу же большой портфель векселей своих клиентов, поэтому в один день за одним предъявителем записывался целый список векселей и их векселеда- телей. Именно поэтому вексельная книга является источником информации о предпринимательских сетях – предприятиях и их клиентах.
В настоящий момент из всех записей в вексельной книге за 2 года, т. е. за 1899 и 1900 гг., обработаны только все записи (572) за 1899 г. Сумма всех выданных за 1899 г. кредитов составила 4 264 184,54 руб., что является показателем годового оборота.
Операции по учету векселей составляли 96 % всего оборота, однако только 72 % всех сделок в книге (3 053 191,60 руб.) составлял обычный учет векселей клиентов. 24 % всех сделок относятся к переучету векселей (1 031 818,09 руб.). Переучет векселей – это когда банк учитывает вексельный портфель другого банка, это операции межбанковского рынка. Строго говоря, эта операция является переучетом для банка-клиента, а для банка-кредитора, в нашем случае для московского отделения, это обычный учет векселей.
В вексельную книгу были занесены и другие операции, кроме учета векселей, однако в очень незначительном объеме, видимо, чтобы не заводить для этих записей отдельной книги. К таким операциям относились ссуды под залог товаров (175 064,81 руб., или 4 % оборота) и векселя на инкассо (4 110,04 руб., или 0,1 %), т. е. векселя, принятые не для переучета, а для получения платежа; это не кредитная операция, а комиссионная.
По всем косвенным признакам в нашем распоряжении полный комплект записей о кредитных сделках за 1899 г. В московском отделении была всего одна вексельная книга, это следует из факта, что в нее записывали и другие операции, лишь бы не заводить другие бухгалтерские книги. В опубликованном годовом отчете банка за 1899 г., хранящимся в Российской государственной библиотеке (РГБ), данные по московскому отделению приводятся в сумме с данными по санкт-петербургскому правлению, однако для этого хватило только одного раздела «Русские векселя», тогда как в отчете по азиатским отделениям разделов по видам кредита больше, т. е. раздел в отчете означает отдельный комплект бухгалтерских книг в подразделении банка [11, c. 4].
Из каждой записи в книге мы использовали информацию о клиентах (предъявителях, векселедателях, бланконадписателях, т. е. любых других подписях на векселях кроме подписи лица выписавшего вексель (векселедатель) и предъявившего его в банк (предъявитель)), местах выписки векселя и платежа по нему, о сумме учтенных векселей.
Важным этапом работы с источником стали текстологический анализ (расшифровка сокращений, уточнение названий фирм и компаний), а также унификация написания имен, фирм, населенных пунктов.
Для того чтобы выделить операции банка, связанные с Западной Сибирью и Дальним Востоком, в базу данных было добавлено логическое поле, в котором запись «Да» означало, что в записи есть любое упоминание о том, что данная сделка связана с этими регионами, например это могла быть пометка «кяхтинский купец 1-й гильдии» или указано место выписки или платежа по векселю как Владивосток или Иркутск.
Основной метод обработки данных, использованный при работе с базой данных, – группировки: по предъявителям и векселедателям, по типам операций. Суть этой процедуры, заключается в том, что, например, все векселя одного предъявителя, предъявленные в банк в течение года и записанные на разных страницах книги, могут быть при помощи запросов к базе данных сгруппированы таким образом, что в итоге мы получим список всех сделок данного клиента.
Таким образом, вексельная книга – репрезентативный источник о кредитовании в московском отделении в 1899 г. Его источниковедческие особенности отражают реальную бухгалтерскую практику. Информацию данного источника можно легко перегруппировывать, когда она представлена в формате базы данных.
Анализ данных о клиентуре
Далее в статье детализируется информация об учете и переучете векселей, причем основное внимание уделено предъявителям, т. е. тем, кто предъявили векселя в банк для учета (табл. 2). Важно отметить, что предъявитель при учете векселя делал на нем передаточную надпись, передавая тем самым банку право требования платежа по векселю. Это означало, что в соответствии с вексельным правом предъявитель наравне с векселедателем принимает на себя ответственность за платеж по векселю. Практика вексельных операций предопределила, что предъявитель и векселедатель могли быть, во-первых, продавец и покупатель в торговой сделке, а во-вторых, один из владельцев бизнеса и сам бизнес (фирма, компания). В последнем случае подпись владельца бизнеса на векселе является дополнительной гарантией оплаты векселя. Таким образом, архивные записи о вексельных операциях содержат информацию о реальных деловых партнерах или лицах, связанных с определенными бизнесами.
В 1899 г. в московском отделении Русско-Китайского банка было всего 50 предъявителей. В табл. 2 представлены первые 20 из них, на которых приходится 99 % всех кредитных операций. Эти цифры уже сами по себе свидетельствуют об ограниченном круге крупных клиентов. Еще на ранних стадиях обработки данных вексельной книги возникло впечатление, что среди всех предъявителей заметны три ярко выраженные группы, причем эти группы более наглядно представить не числом предъявителей, а суммой учтенных ими векселей, которая в целом составила 4,26 млн руб.
Во-первых, 38,6 % всего предъявитель-ства, или 1,65 млн руб., приходится на торговые фирмы и торгово-промышленные товарищества, связанные с текстильной промышленностью, назовем их условно «Текстильщики». К этой группе относится крупнейший клиент банка, поэтому она будет рассмотрена в первую очередь.
Таблица 2
Клиенты по учету векселей (предъявители)
Московского отделения Русско-Китайского банка за 1899 г. /
Discount customers (holders) of the Moscow branch of the Russo-Chinese Bank
|
№ п/п |
Предъявитель / Holder |
Сумма векселей, тыс. руб. / Discount sum, thousand rubles |
Доля, % / Ratio, % |
|
1 |
Кноп Л., торговый дом (оборудование и сырье для текстильной промышленности) |
1 104,4 |
25,9 |
|
2 |
Русский Торгово-промышленный банк, Московское отделение |
642,6 |
15,1 |
|
3 |
Мамонтов Николай Иванович (Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги) |
500,0 |
11,7 |
|
4 |
Петербургско-Азовский банк, Московское отделение |
389,2 |
9,1 |
|
5 |
Товарищество Высоковской мануфактуры |
322,8 |
7,6 |
|
6 |
Товарищество Даниловской мануфактуры |
201,6 |
4,7 |
|
7 |
Русско-Китайский банк, агентство в Кяхте |
199,0 |
4,7 |
|
8 |
«Мазут», Нефтеперерабатывающее и торговое общество |
163,0 |
3,8 |
|
9 |
Прорубников Ф. Ф. (кяхтинский купец 1 гильдии, чайная и меновая торговля с Китаем) |
115,5 |
2,7 |
|
10 |
«Чурин И. Я. и Ко» (группа торговых и промышленных предприятий в Восточной Сибири) |
103,7 |
2,4 |
|
11 |
Общество Тульских доменных печей (бельгийское АО) |
90,2 |
2,1 |
|
12 |
Товарищество водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П. А. Смирнова в Москве |
85,6 |
2,0 |
|
13 |
Русско-Китайский банк, Иркутское отделение |
64,8 |
1,5 |
|
14 |
Лушников А. М. (кяхтинский купец 1 гильдии, чайная торговля) |
60,0 |
1,4 |
|
15 |
Русско-Китайский банк, Владивостокское отделение |
57,3 |
1,3 |
|
16 |
Готье Л. В., торговый дом (оптовая торговля железом, чугуном и цементом) |
47,0 |
1,1 |
|
17 |
Волжcко-Вишерское горно-металлургическое акционерное общество (французское АО) |
46,9 |
1,1 |
|
18 |
Товарищество мануфактуры «Русакова М. Ф. вдова с сыновьями» |
10,2 |
0,2 |
|
19 |
Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина |
8,1 |
0,2 |
|
20 |
Русско-Китайский банк, агентство в Николаевске-на-Амуре |
8,0 |
0,2 |
|
Итого по 20 предъявителям |
4 220,2 |
99,0 |
|
|
Итого по 50 предъявителям |
4 264,2 |
100,0 |
Во-вторых, 39,1 % векселей, или 1,67 млн руб., предъявили банки, компании и предприниматели, которые хорошо известны в научной литературе в связи с историей кризиса 1899–1903 гг., назо- вем эту группу «Жертвы кризиса 1899– 1903 гг.»
В-третьих, общий объем операций, о которых есть информация, что они связаны с Дальним Востоком, составляет 17,9 %, или 761,4 тыс. руб., причем здесь учитываются все случаи векселедательства и предъявительства в базе данных. В табл. 2 операции только крупнейших предъявителей, относящихся к Дальнему Востоку, составляют 626 тыс. руб. (14,7 %).
В-четвертых, на группу «Другие клиенты» приходится 7,6 % предъявленных векселей, однако и в этой группе есть фирмы, достойные упоминания.
Далее мы подробно остановимся на характеристике каждой группы. По сути, разделение клиентов в данной статье не является полноценной группировкой, которая должна быть сделана по одному критерию, однако такое представление данных позволяет осветить три главных вопроса. Во-первых, какая группа клиентов была наиболее близка к руководству банка? Во-вторых, насколько успешными и устойчивыми были банки и компании, кредитовавшиеся в банке? В-третьих, насколько интенсивно московский рынок начал устанавливать связи с Дальним Востоком после основания отделения банка в Москве?
Текстильщики
Группу клиентов-«текстильщиков» возглавляет Торговый дом «Л. Кноп» [12, с. 24, 39, 116, 119–122,155–156,291, 296, 318–319, 320–321; 20, т. 1, с. 997–1000, 1059–1060; т. 2, с. 384–385]. Это вообще крупнейший клиент московского отделения, получивший по векселям своих клиентов 1,1 млн руб., что составило 25,9 % кредитного оборота в банке за 1899 г. Это была одна из ведущих торговых фирм Российской империи, которая оказывала поставляла оборудование и сырье для текстильных фабрик. Продукция этих многих таких фабрик сбывалась через посредничество Кнопов. Представители фирмы входили в число пайщиков и руководящих органов многих торгово-промышленных предприятий.
Для нашего исследования важно, что Кнопы были связаны личной унией с Русско-Китайским банком. Иван Карлович Прове (1833–1901), родственник Кнопов, совладелец и заведующий делами торго- вого дома в конце 1890-х гг., был членом правления Русско-Китайского банка [6, с. 38; 11, см. подписи на годовом балансе и счете прибылей и убытков]. Для полного учета доли Кнопов в кредитном обороте банка к сумме предъявленных ими векселей нужно добавить вексельные портфели еще двух крупных текстильных предприятий, входивших в группу Кнопов в тот период.
Во-первых, Тов-во Даниловской мануфактуры, с основным капиталом 3 млн руб. [Здесь и далее, если не указано иначе, размер основного капитала приводится по: 1], учло векселей на 202 тыс. руб. В правление товарищества входил Ф. Л. Кноп, племянник И. К. Прове и совладелец торгового дома. Товариществу принадлежала текстильная фабрика полного цикла (от прядильного до набивного производства) в Даниловской слободе на юге близ Москвы, ныне внутри города, а также сеть оптовых складов в различных городах страны, несколько магазинов в Москве и Петербурге [20, т. 1, с. 648].
Во-вторых, к группе Кнопов, также через личную унию с Ф. Л. Кнопом, относилось Т-во Мануфактур Н. Н. Коншина в Серпухове, с основным капиталом 6 млн руб., однако сумма предъявленных векселей в 1899 г. была совсем незначительной, 8,1 тыс. руб., однако ситуация меняется, если далее посмотреть на Коншиных как векселедателей.
Очень интересна структура вексельного портфеля Кнопов, т. е. список их векселедателей, или компаний-должников, покупателей. В этом листе также крупнейшие и широко известные текстильные предприятия Российской империи, о которых можно сказать, что они или входили в группу Кнопов в 1899 г., или же были построены, модернизированы с участием Кнопов, что, как правило, сопровождалось передачей Кнопам какой-либо доли паев предприятия.
К группе Кнопов относятся четыре товарищества – это уже упомянутые мануфактуры Коншина (векселей на 300 тыс. руб.) и
Даниловская мануфактура (100 тыс. руб.), а также Тов-во Кренгольмской мануфактуры (100 тыс. руб.) и Тов-во мануфактур Барановых (100 тыс. руб.). Основной капитал Кренгольмской мануфактуры 6 млн руб., мануфактур Барановых – 2 млн руб.
Далее в этом списке идут три довольно близких Кнопам товарищества, которые формально войдут в их группу чуть позже: Тов-во Богородско-Глуховской мануфактуры (130 тыс. руб.), Тов-во мануфактуры «А. Каретникова и сын» (127 тыс. руб.), Тов-во Садковской мануфактуры И. Демина (100 тыс. руб.). Размер предприятий по основным капиталам был следующим к 1899 г.: Богородско-Глуховская – 6 млн руб., Каретникова – 2,5 млн руб., Садков-ская – 1 млн руб.
В список векселедателей Кнопов входят еще два текстильных товарищества, которые в пределах современных знаний о них можно назвать обычными клиентами: Тов-во мануфактур Г. Разоренова и И. Кокорева (векселей на 100 тыс. руб., основной капитал 2 млн руб.) и Тов-во Пере-славльской мануфактуры (соответственно 47,440 тыс. руб. и 1,5 млн руб.) [2, с. 157; 12, с. 37].
Таким образом, практически весь вексельный портфель Кнопов состоит из векселей близких к ним предприятий. Общая задолженность группы Кнопов банку (Кнопы, Даниловская мануфактура, Коншины) составляет 30,8 % всех кредитов 1899 г. Задолженность Даниловской м-ры в сумме (по предъявительству и по век-селедательству) составляет 302 тыс. руб. Аналогично задолженность Коншиных – 308,1 тыс. руб.
Еще два товарищества, упомянутых в табл. 2, – это Тов-во Высоковской мануфактуры (предъявительство на 323 тыс. руб.) и Тов-во мануфактуры «М. Ф. Русакова вдова с сыновьями» (10 223,72 руб.). Высоковская мануфактура близ подмосковного Клина, с основным капиталом 1,8 млн рублей, ранее, в конце 1870-х гг., была спасена от разорения при непосредственном участии Кно-пов, которые стали пайщиками санирован- ного и модернизированного предприятия [17, с. 19]. О Тов-ве мануфактуры «Русакова М. Ф. вдова с сыновьями» известно совсем немного, это шелковое производство в д. Крупино в Богородском уезде Московской губернии, где были сосредоточены многие текстильные предприятия. На фабрике было занято около 100 рабочих [10].
Итак, текстильная группа клиентов, тесно связанная с Кнопами, в полной мере смогла воспользоваться ресурсами нового банка.
Жертвы кризиса 1899 – 1903 гг.
Перейдем к следующей, очень размытой и условной группе, которую составляют жертвы экономического кризиса 1899– 1903 гг.
Во-первых, к этой группе относится московское отделение Русского Торгово-промышленного банка [8, с. 313, 316–317, 326; 20, т. 2, с. 559–560], предъявившее векселей на 642,5 тыс. руб. К 1899 г. банк, с основным капиталом в 10 млн руб., входил в первую десятку акционерных коммерческих банков Российской империи. Контрольный пакет акций банка находился у семьи фон Дервизов – знаменитых российских железнодорожных подрядчиков, которые использовали ресурсы банка для финансирования учреждаемых ими предприятий и спекуляций на бирже. Банкротство П. П. фон Дервиза летом 1899 г. вызвало «бегство вкладчиков», т. е. массовое изъятие вкладов, с которым удалось справиться благодаря чрезвычайному кредиту Государственного банка Российской империи. В то же время сам по себе Русский Торгово-промышленный банк оказался более-менее здоровым предприятием и в дальнейшем успешно продолжил свою деятельность. Крах фон Дервиза и «бегство вкладчиков» прямо не связаны с кредитованием московского отделения в Русско-Китайском банке, по крайней мере, в пределах наших нынешних знаний об этом эпизоде. Однако стоит обратить внимание, что в течение 1899 г. Русский Торгово-промышленный банк регулярно переучитывает в Москве в Русско-Китайском банке вексельные портфели размером в 10–40 тыс. руб. Векселя в этих портфелях выглядят как реальные торговые сделки клиентов банка. В теории, банк переучитывает, т. е. учитывает в других банках векселя, уже им учтенные, когда испытывает проблемы с ликвидностью (свободной наличностью). По банковским правилам той эпохи прибегать к переучету можно было только, если не хватает наличности для удовлетворения требований вкладчиков, а для получения средств, допустим, для кредитования, переучитывать категорически не рекомендовалось, хотя и законодательно не запрещалось. В любом случае, мы видим, что в 1899 г. рынок сжимается, и у Русского Торгово-промышленного банка есть проблемы с ликвидностью.
Во-вторых, среди предъявителей московского отделения Русско-Китайского банка есть имя Николая Ивановича Мамонтова, члена правления Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги со складочным капиталом 4,3 млн кредитных руб. к началу 1897 г. [16, с. 40]. Судя по всему, это брат Саввы Мамонтова, известного предпринимателя, владельца контрольного пакета общества этой железной дороги. В литературе широко известна история банкротства Саввы Мамонтова, увлекшегося разнообразными промышленными проектами, для финансирования которых он пользовался средствами общества железной дороги. В июле 1899 г. С. И. Мамонтов допустил дефолт по кредиту в 3 млн руб. Петербургскому Международному коммерческому банку, залогом по которому был контрольный пакет Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Сделка между Н. И. Мамонтовым и московским отделением Русско-Китайского банка примечательна в контексте будущего дефолта С. И. Мамонтова. 16 июня 1899 г., т. е. совсем незадолго до банкротства, брат С. И. Мамонтова учел 10 векселей в сумме на 500 тыс. руб. на срок 4 месяца, причем векселя были выписаны в тот же день и векселедателем по ним значилось Обще- ство Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Фактически это задолженность железной дороги при поручительстве, т. е. солидарной ответственности, одного из членов правления [4, с. 128–130, 260].
К этому стоит добавить, что слухи о проблемах С. И. Мамонтова ходили уже давно [4, с. 260]. В Русско-Китайском банке не могли не знать об угрозе дефолта, нависшей над его кредитом в Петербургском Международном коммерческом банке, потому что эти банки связывает личная уния по члену правления и директору Международного банка – А. Ю. Ротштейну, который был и членом правления Русско-Китайского банка [6, с. 38; 11, см. подписи на годовом балансе и счете прибылей и убытков]. С какой целью банки «повесили» на общество железной дороги еще один кредит? Получить контроль над обществом? Был ли это расчет на государственное участие в уплате долгов общества? Какую проблему пытались решить Мамонтовы при помощи 500 тыс. руб., полученных в Москве? В каких еще банках им удалось занять денег накануне банкротства С. И. Мамонтова? На эти вопросы пока нет однозначного ответа.
В-третьих, к переучету векселей в Русско-Китайском банке в Москве в течение 1899 г. активно обращалось московское отделение Петербургско-Азовского коммерческого банка. Итоговая сумма составила 389,2 тыс. руб., причем эти сделки выглядят как переучет реальных торговых векселей. Другими словами, в данном случае мы имеем дело еще с одном банком, испытывавшим проблемы со свободной наличностью. Данный банк был основан в 1888 г., чтобы быть посредником между петербургским рынком и Азовско-Донским коммерческим банком с правлением в Таганроге. Основной капитал к 1 января 1899 г. – 6млнруб. Петербургско-Азовскийбанквхо-дил в группу известного предпринимателя Л. С. Полякова, который фактически обанкротился к 1901 г. Из всех поляковских банков Петербургско-Азовский оказался са- мым неблагополучным, велись переговоры о его слиянии с Азовско-Донским банком, однако в итоге банк был объявлен несостоятельным 26 февраля 1902 г. [4, с. 139; 8, с. 318–319, 328, 336, 342; 12, с. 85–86].
Еще две, в буквальном смысле, «жертвы кризиса» – это бельгийское Общество Тульских доменных печей (векселей на 90,2 тыс. руб.) и французское Волжско-Вишерское Горно-металлургическое акционерное общество (46,9 тыс. руб.). В портфелях обществ векселя знаменитых российских компаний: Общества Пути-ловских заводов, Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода (правления в Санкт-Петербурге) и Товарищества Московского металлургического завода (Завод Ю. П. Гужона). Это вполне объяснимая клиентская сеть: машиностроительные и металлургические заводы покупают продукцию или полуфабрикаты у других металлургических заводов. По капитализации эти предприятия тяжелой промышленности превосходят текстильную группу клиентов Русско-Китайского банка в Москве: Тульские доменные печи 7,5 млн руб., Волго-Вишера 9,375 млн руб., Пути-ловские заводы 9 млн руб., Брянский завод 8 млн руб., завод Гужона 3 млн руб.
Более того, Общества Путиловских и Брянского заводов входят в группу Петербургского Международного коммерческого банка, а о Ю. П. Гужоне В. И. Бовыкин пишет, что во второй половине 1890-х гг. тот попытался стать проводником парижских банков в их вторжении в российскую промышленность. Однако предложенный им Парижско-Нидерландскому банку (PARIBAS) проект Волго-Вишерского общества оказался крупной неудачей и привел французский банк к крупным убыткам [5, с. 19, 114–115].
Что объединяет пять предъявителей, упомянутых в данном разделе, кроме грядущих банкротства или репутационных издержек? Конечно же, возраст, точнее молодость. По сравнению с текстильными товариществами, которые к концу 1890-х гг. уже насчиты- вали по несколько десятков лет, все жертвы кризиса – это банки и компании, основанные в конце 1880-х – 1890-е гг., за исключением железнодорожного общества. В дополнение к этому, клиентов-неудачников отличали тесные связи с иностранным капиталом, петербургским фондовым и банковским рынком.
В результате, с одной стороны, почти 40 % кредитов было выдано бизнесам, у которых в разной степени возникли проблемы с устойчивостью в период начинавшегося кризиса, что ставит вопрос о качестве управления рисками. С другой стороны, важно отметить, что Русско-Китайский банк не стал фигурантом ни одного громкого скандала в связи с кризисом рубежа веков; цепочка перекредитования долгов клиентами всякий раз обрывалась на других банках. Это везение Русско-Китайского банка или умение маневрировать?
Дальневосточная группа клиентов
Русско-Китайский банк создавался как средство экономической и политической экспансии на Дальний Восток, прежде всего в Китай [9, с. 163–188]. Однако московское отделение явно было занято решением проблем в первую очередь московского, петербургского и иностранного бизнеса. Кредитные сделки с участием дальневосточной клиентуры составили в 1899 г. всего 764,1 тыс. руб., или 17,9 % общего оборота кредитной операции.
Рассмотрим структуру дальневосточных кредитных сделок. Самая большая доля, 338,4 тыс. руб., или 44 %, – это вексельные портфели, предъявленные отделениями и агентствами банка, тем самым они брали финансовую ответственность за векселя, учтенные на местах. Технически это тот же переучет, только не между банками, а между подразделениями банка. Примечательно, что наибольшая доля приходится на агентство в Кяхте (199 тыс. руб.), затем с большим отрывом идут Иркутск (64,8 тыс. руб.) и Владивосток (57,3 тыс. руб.), портфели векселей из Николаевска-на-Амуре и Благовещенска пока минимальны (соответственно 8,0 тыс. и 5,1 тыс. руб.).
Кроме дальневосточных подразделений банка к предъявлению в московском отделении был допущен Ф. Ф. Проруб-ников (векселей на 115,5 тыс. руб.). Это купец первой гильдии из Кяхты, который занимался оптовой торговлей чаем и меновой торговлей русскими товарами с Китаем. Бизнес Прорубникова входил в число крупнейших покупателей кяхтинского чая в России, однако основными центрами торговли были Нижегородская и Ирбитская ярмарки, а также Москва. Таким образом, в нашем случае фактически кредитуется московская контора Прорубникова [7, т. 2, с. 716; 21, т. 2, с. 191].
Еще один сибирский клиент – Торговый дом «И. Я. Чурин и Ко» (103 тыс. руб.). Это универсальная фирма, первоначально с главной конторой в Иркутске, вокруг которой объединились многочисленные торговые и промышленные предприятия в Восточной Сибири и Китае. Однако примечательно, что после 1897 г. контора торгового дома уже находилась в Москве [21, т. 2, с. 404]. Векселя, предъявленные торговым домом в Московское отделение Русско-Китайского банка, — это векселя золотопромышленных паевых товариществ: Тов-во «Н. В. Ельцов и В. А. Левашев» в Благовещенске и Амурско-Орельская компания в Николаевске-на-Амуре, причем только в последнем из двух товариществ торговый дом «И. Я. Чурин и Ко» был пайщиком [15, с. 13–14, 121–122].
Еще одна «дальневосточная» позиция в табл. 2 обозначена как «Лушников А. М. (кяхтинский купец 1 гильдии, чайная торговля)» (векселей на 60 тыс. руб.). Однако на самом деле это запись в книге, которую не удалось полностью расшифровать. Фамилия знаменитого купца-миллионера Лушникова, торговавшего чаем по всей Сибири, прочитывается более-менее однозначно, а вот остальные фамилии участников сделки, за которых Лушников, скорее всего, выступил поручителем, непонятны.
К Дальневосточной группе в нашей базе данных отнесены все сделки Товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин
П. А. Смирнова в Москве (основной капитал 3 млн руб.). Из предъявленных в банк документов на 85,6 тыс. руб. на знаменитый товар, отправленный во Владивосток, приходилось 52 тыс. руб., в Порт-Артур 28,7 тыс. руб. и даже 4,9 тыс. руб. в Нагасаки. В данном случае это не векселя, а ссуды под залог документов на товар, находящийся в пути. В доставке были задействованы суда Добровольного флота, подконтрольного правительству судоходного общества.
На остальные «дальневосточные» векселя приходится 58,2 тыс. руб. По большей части это покупатели Даниловской мануфактуры или Коншинских фабрик в азиатской части России.
В итоге, если условно считать векселя Кяхтинского агентства, Прорубникова и Лушникова следствием сделок, имевших «кяхтинское происхождение», получится, что «корнями в Кяхту» уходит почти половина кредитных сделок банка в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Такая география сделок, скорее, отражает «традиционные» каналы торговли с Китаем, а не освоение новых направлений. Транссиб в те годы еще не дошел до Дальнего Востока, Китайско-Восточная железная дорога еще не была построена, поэтому основным торговым путем является именно Кяхта. Доступ к кредиту имеют дальневосточные фирмы с офисами в Москве или ставшие клиентами дальневосточных подразделений банка.
Другие предъявители
Среди других 20 крупнейших клиентов-предъявителей, не вошедших в группы условных «текстильщиков», «жертв кризиса» и дальневосточных сделок, всего две крупные компании, которые хорошо дополняют общую характеристику деятельности московского отделения Русско-Китайского банка.
Во-первых, Нефтеперерабатывающее и торговое общество «Мазут» (основной капитал 6 млн руб., сумма предъявленных векселей 163 тыс. руб.) – это российское предприятие всемирно известного парижского банкирского дома «Братья Ротшиль- ды» (Rothschild frères), созданное в 1898 г. Среди российской группы учредителей общества был Петербургский Международный коммерческий банк. Директор банка А. Ю. Ротштейн возглавил правление общества «Мазут» [5, c. 74–75]. Напомним, что в Русско-Китайском банке Ротштейн – член правления, таким образом, это еще один пример классической личной унии банка и кредитуемого предприятия.
Примечательны векселедатели «Мазута». Это французское Уральско-Волжское металлургическое общество, российское представительство которого находилось в Санкт-Петербурге (основной капитал 25 млн руб.). Общество с 1897 г. строило новый завод в Царицыне. В 1899 г. оно выписало «Мазуту» векселей на 88 тыс. руб. Стоит заметить, что общество не пережило кризиса [3, с. 119]. Второй векселедатель «Мазута» – это Товарищество Русско-Американского нефтяного производства в Москве с основным капиталом всего 375 тыс. руб., сумма выписанных векселей 75 тыс. руб.
Еще один предъявитель из этой группы хорошо вписывается в число клиентов банка, связанных с тяжелой промышленностью, – это Торговый дом «Л. В. Готье», занимавшийся оптовой торговлей железом, железными балками, чугуном (векселей на 47 тыс. руб.). Владелец торгового дома – московский француз, купец 1-й гильдии Лев Владимирович Готье-Дю-файе [18, т. 2, с. 606].
Таким образом, клиентура банка – это крупный бизнес, представленный как старыми текстильными предприятиями группы Кнопов, так и новой тяжелой промышленностью, связанной с иностранным капиталом и петербургским финансовым рынком, пострадавшей в период кризиса 1899–1903 гг. Много средств приходится на межбанковский рынок. Дальний Восток представлен в операциях банка пока преимущественно традиционным кяхтинским направлением и морскими перевозками на Дальневосточное побережье, видимо, с сильной казенной компонентой в этих операциях.
Заключение
В данной работе проанализированы данные о кредитовании клиентов московским отделением Русско-Китайского банка в 1899 г. Это небольшой объем материала, всего 572 записи о кредитных, главным образом, вексельных сделках при суммарном годовом обороте 4,36 млн руб. По опубликованной банковской отчетности, в конце 1890-х гг. общая сумма кредитов Русско-Китайского банка в Санкт-Петербурге и Москве (неразделяемая сумма) составляла не более 3 % кредитного рынка в Москве, если брать только акционерные коммерческие банки [рассчитано по: 13, приложение]. Возникает вопрос, в какой мере исследуемый объем сделок является типичным для своей эпохи?
Для ответа на этот вопрос можно рассуждать следующим образом. Через Русско-Китайский банк в Москву в конце 1890-х гг. пришли новые деньги, в значительной степени иностранные. Кому они достались в виде кредитов? На 37,8 % банк решил проблему оценки заемщиков и формирования клиентской сети через инсайдерское кредитование, выдав кредиты предприятиям, связанным с банком через личные унии членов правления (К. И. Прове и А. Ю. Рот-штейн). 24,2 % кредитных средств забрали другие банки через переучет, т. е. средства отданы на межбанковский рынок, где оценить заемщика проще, чем на клиентском рынке. На Дальнем Востоке ответственность за заемщиков взяли на себя местные подразделения банка (7,9 % всех кредитов). А оставшиеся 30,1 % клиентуры – это тоже очень крупный московский или петербургский бизнес, платежеспособность которого оценивается легче всего.
Среди клиентуры банка выделяется инсайдерская группа Торгового дома «Л. Кноп». В какой мере Кнопы получили свой банк, войдя в правление Русско-Китайского банка? До этого представитель группы (К. И. Прове) входил только в совет Московского Купеческого банка и сам торговый дом являлся членом совета Московского Учетного банка [12, с. 291,
296, 318]. Группа Кнопов входила в число традиционных клиентов старомосковских банков, которые доминировали на рынке Москвы [12]. Неужели группе Кнопов не хватало кредитных средств в Москве? Эта нехватка кредитных средств общая или это предкризисное сжатие денежного рынка? Если предположить, что даже Кнопам, одному из самых статусных московских бизнесов, не хватало средств в Москве в 1890-е гг., то получается, что элитарность клиентуры в других банках тоже довольно высокая. Это и есть предварительный ответ на вопрос о типичности клиентской сети Русско-Китайского банка в Москве.
Вторая ветка инсайдерских контактов была выстроена вокруг группы Санкт-Петербургского Международного банка и его директора А. Ю. Ротштейна, который использовал Русско-Китайский банк для финансирования своей группы. Здесь представлены металлургия, машиностроение, нефтепереработка; здесь много иностранного капитала и новых предприятий, которым тоже не хватало денег в конце 1890-х гг.
В той мере, в какой кризис рубежа веков стал кризисом роста новой промышленности, созданной в 1890-е гг., в той мере это могло коснуться и Русско-Китайского банка в Москве. Среди крупнейших клиентов довольно много жертв наступающего кризиса, однако о серьезных проблемах банка в связи с этим пока неизвестно.
Дальневосточная экспансия из Москвы в 1890-м гг. была еще только в самом начале: в этом регионе еще не введены в эксплуатацию Транссиб и КВЖД, Владивосток доступен только морскими путями, основной канал торговли с Китаем проходит пока через Кяхту.
В то же время важно отметить, что учреждение московского отделения Русско-Китайского банка значительно упростило движение капиталов из богатой Москвы на Дальний Восток. Раньше у Москвы было всего три возможности быть на связи с Азией: во-первых, через отделения Государственного банка; во-вторых, через Московское отделение Русского для внешней торговли банка, имевшего также отделение в Томске; в-третьих, через Нижегородскую и другие ярмарки. Основной российский банк в восточных регионах – Сибирский Торговый банк, не имел отделения в Москве в XIX в.
Приток капитала из Москвы на Дальний Восток проходил по трем схемам. Во-первых, векселя от местных сделок переучитывались в Москве под ответственность подразделений банка. В результате, дальневосточные подразделения получали наличность в обмен на векселя своих клиентов. Во-вторых, три бизнеса из азиатской части России, имевших всероссийскую известность и (или) московский офис (Ф. Ф. Прорубников, «И. Я. Чурин и Ко» и А. М. Лушников) были допущены к прямому предъявлению векселей к учету в Москве, тем самым они тоже получали наличность в обмен на векселя. В-третьих, после появления московского отделения Русско-Китайского банка Даниловская и Коншин-ские мануфактуры получили возможность в Москве учесть векселя своих покупателей из Восточной Сибири и с Дальнего Востока. Таким образом, продажа московских товаров в азиатскую часть России упростилась.
Так какую же цель преследовало руководство Русско-Китайского банка, основывая подразделение в Москве, если судить по реальной клиентской сети 1899 г.? Получается, целью было кредитование крупных фирм и компаний, в разной степени близких к правлению банка. Вопрос о выходе на Дальний Восток был поставлен, но он занял второстепенное место в деятельности московского отделения. Почему вопросы об инсайдерском кредитовании, об элитарности клиентуры, о личной унии банка и предприятия-клиента, о предпринимательских сетях вышли на первый план в наших рассуждениях? Потому что получается, что в условиях Москвы 1890-х гг. эти практики были самыми простыми способами сформировать клиентскую сеть из бизнесов, платежеспособность которых известна банку, и тем самым с наименьшим риском распределить ограниченные денежные ресурсы.
Список литературы Банк "для своих": московское отделение русско-китайского банка в 1897-1899 гг
- Банки и акционерные торгово-промышленные предприятия, оперирующие в России за последний отчетный год: (1899/1900 и 1900/1901 гг.): справ. кн. -СПб.: Крайз, 1901. -267 с.
- Барышников М. Н. Деловой мир России: ист.-биогр. справ./М. Н. Барышников. -СПб., Искусство-СПБ; Logos, 1998. -445 с.
- Бовыкин В. И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны/В. И. Бовыкин. -М.: РОССПЭН, 2001. -318 с.
- Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в. -1908 г./В. И. Бовыкин. -М.: Наука, 1984. -278 с.
- Бовыкин В. И. Французские банки в России, конец XIX -начало XX в./В. И. Бовыкин. -М.: РОССПЭН, 1999. -254 с.
- Голубев А. К. Русские банки: справ. и стат. сведения о всех действующих в России гос., част. и обществ. кредит. учреждениях: Год 3/А. К. Голубев. -СПб., 1899.
- Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. -Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2010.
- Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России/И. И. Левин. -М.: Дело, 2010. -511 с.
- Лукоянов И. В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX -начале XX вв./И. В. Лукоянов. -СПб.: Нестор-История, 2008. -C. 163-188.
- Маслов Е. Н. Промышленность Богородского уезда: Производство шелковых и парчевых тканей/Е. Н. Маслов//Богородск-Ногинск. Богородское краеведение. Ногинск, 2014 : . -Режим доступа: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/narodnoe/prom/3.html (дата обращения: 10.10.2016).
- Отчет Русско-Китайского банка зa 1899 г. -СПб., 1900. -30 с.
- Петров Ю. А. Коммерческие банки Москвы, конец XIX в. -1914 г./Ю. А. Петров. -М.: РОССПЭН, 1998. -368 с.
- Саломатина С. А. Реконструкции данных в исторической статистике: отделения коммерческих банков Российской империи в 1897 г./С. А. Саломатина//Вестник Пермского университета. Серия «История». -2014. -Т. 26. -№ 3. -С. 87-98. Приложение «Филиальные сети коммерческих банков Российской империи на 1 января 1898 г. Статистическая сводка с комментариями» : . -Режим доступа: http://istina.msu.ru/publications/article/6626225/
- Саломатина С. А. Российские и советские банки в странах Среднего и Дальнего Востока, 1890-е -1920-е гг.: трансформация имперских традиций/С. А. Саломатина//Экономическая история: ежегодник. 2013. -М.: РОССПЭН, 2014. -С. 568-624.
- Список золото-и платинопромышленных фирм в России. -СПб., 1904. -509 c.
- Статистика акционерного дела в России. Вып. 1. Состав директоров правлений на 1897 г./изд. Н. Е. Пушкина. -СПб.: 1897. -300 с.
- Сулейкин Н. М. История основания фабрики Товарищества Высоковской мануфактуры/Н. М. Сулейкин. -Тверь, 1908. -16 с.
- Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов: в 2 т./под ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. -2-е изд. -СПб.: Э. Вернь, 1905.
- Чистова О. В. Кредитная клиентура банка Рябушинских в период экономического подъема 1909-1913 гг./О. В. Чистова//Экономическая история. Ежегодник. 2011/2012. -М.: РОССПЭН, 2012. -С. 315-352.
- Экономическая история России (с древнейших времен до 1917 г.): энцикл.: в 2 т. -М.: РОССПЭН, 2008. -Т. 1. -1469 с.; Т. 2 -1286 с.
- Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. -Новосибирск: ГЕО, 2012. -Т. 2. -464 с.
- Яго К. Русско-Китайский банк в 1896-1910 гг.: международный финансовый посредник в России и Азии/К. Яго//Экономическая история: ежегодник. 2011-2012. -М.: РОССПЭН, 2012. -С. 293-314.
- Lamoreaux N. R. Insider Lending: Banks, Personal Connections, and Economic Development in Industrial New England/N. R. Lamoreaux. -Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1994. -170 p.