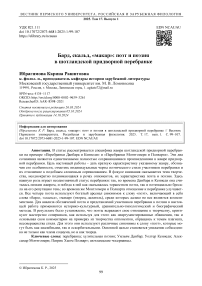Бард, скальд, «Макар»: поэт и поэзия в шотландской придворной перебранке
Автор: Ибрагимова К.Р.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика жанра шотландской придворной перебранки на примере «Перебранки Данбара и Кеннеди» и «Перебранки Монтгомери и Полварта». Эти два сочинения являются единственными полностью сохранившимися произведениями в жанре придворной перебранки. Цель настоящей работы - дать краткую характеристику указанному жанру, обозначив его особенности, отметить индивидуальные черты поэтического стиля участников перебранки и их отношение к подобным словесным соревнованиям. В фокусе внимания оказывается тема творчества, неоднократно поднимающаяся в речах оппонентов, их характеристика поэта и поэзии. Здесь важную роль играет неоднозначный статус перебранки: так, во времена Данбара и Кеннеди она считалась низким жанром, и победа в ней как оказывалась торжеством поэта, так и потенциально бросала на его репутацию тень; во времена же Монтгомери и Полварта отношение к перебранке улучшается. Все четыре поэта используют богатый арсенал синонимов к слову «поэт», включающий в себя слова «бард», «скальд», «макар» (творец, делатель), среди которых далеко не все являются комплиментами. Для анализа обозначений поэта и представлений участников перебранки к поэзии в настоящей работе применяются историко-культурный, сравнительно-типологический и биографический методы. В результате было установлено, что поэты выражают свое отношение к творчеству, критикуют мастерство соперников, как используя для этого как неаргументированные обвинения, так и основывая свои комментарии на примерах из творчества оппонентов, обращаясь к темам плагиата, несовершенства стиля. Для этого они используют различные синонимы к слову «поэт», которые могут быть как хвалебными, так и оскорбительными. Основной целью становится унижение собеседника не только как члена социума, но и как творца.
Перебранка, хулительная поэзия, уильям данбар, уолтер кеннеди, александр монтгомери, патрик хьюм полварт, шотландские чосерианцы
Короткий адрес: https://sciup.org/147251575
IDR: 147251575 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-1-99-107
Текст научной статьи Бард, скальд, «Макар»: поэт и поэзия в шотландской придворной перебранке
В XV–XVI вв. придворная поэзия Шотландии переживает свой подлинный расцвет. Во многом это связано с влиянием английской культуры и в первую очередь – с именем Джеффри Чосера (Geoffrey Chaucer, 1340–1400). Именно его избирают в качестве ориентира шотландские поэты, пишущие на англо-шотландском языке скотс, а не на гэльском языке, заимствуя у своего английского предшественника не только удачные обороты, но и целые сюжеты, темы, мотивы. «Чосерианское» направление очень быстро начинает «рифмоваться» с придворной жизнью: шотландские последователи Чосера используют свое искусство для создания произведений, служащих развлечению двора.
Одним из таких увеселительных жанров, который, судя по всему, соединяет шотландскую гэльскую традицию и чосеровскую стилистику, оказывается придворная перебранка. Первым сохранившимся текстом считается «Перебранка Данбара и Кеннеди» (Flyting of Dunbar and Kennedy, 1507), созданная Уильямом Данбаром (William Dunbar, ок. 1460 – ок. 1520) и Уолтером Кеннеди (Walter Kennedy, ок. 1455 – ок. 1508). Ее текст дает возможность проанализировать то, как могла строиться поэтическая перебранка как жанр. В ней обыкновенно участвовали два поэта, у каждого из которых был секундант, упомянутый в тексте как «комиссар» (commissar), который, вероятно, отвечал за передачу вызова на словесный поединок [Матюшина 2011: 193]. Если вызов принимался, то начиналось поэтическое соревнование, во время которого соперники демонстрировали свое версификационное мастерство в обращенных друг к другу стихах – в сущности, больших монологах, произносимых по очереди. Противники не только не избегали хулы и оскорблений, но намеренно включали их в свои речи: «несмотря на то, что соперники искренне уважали и ценили друг друга как поэтов, сам жанр перебранки подразумевал соревнование в поэтическом мастерстве, где каждый стремился доказать свое превосходство и для этого принижал поэтическое умение соперника» [Ибрагимова 2020: 113].
До наших дней дошло три (или, вернее сказать, два с половиной) текста шотландских придворных перебранок, которые по времени создания относятся к XV–XVI вв. Первая из них и самая известная – уже упомянутая нами «Перебранка Данбара и Кеннеди». Оба участника этой перебранки были прекрасно образованы, имели университетские степени, служили при дворе, где занимали высокое положение не только как поэты, но и как государственные деятели [McKay 1962: 94]. Соперники принадлежали к знатным шотландским семьям, однако их происхождение значительно разнилось, что повлияло на тематику перебранки: если Данбар был уроженцем области Лотиан, располагающейся на юго-востоке равнинной Шотландии, то род Кеннеди происходил из Каррика – области, где господствующими были гэльская культура и гэльский язык.
Неизвестно, кто стал победителем в словесной борьбе Данбара и Кеннеди, однако их перебранка оказала влияние на развитие этого жанра. Попробовать себя в искусстве хулы решает сам король Иаков V (1512–1542), бросая вызов своему придворному поэту, советнику и бывшему наставнику сэру Дэвиду Линдсею (Sir David Lyndsay, ок. 1490 – ок. 1555). К сожалению, та часть перебранки, авторство которой принадлежит королю, не сохранилась, однако по ответу Линдсея (ок. 1536) можно заключить, что поэты действовали по уже знакомой нам схеме, опираясь на опыт своих предшественников Данбара и Кеннеди. Эта перебранка также могла исполняться при дворе (Линдсей в ней обращается не только к королю, но и к дамам), однако о секундантах здесь речи не идет.
Более чем через полвека появляется еще одна перебранка – «Перебранка Монтгомери и Пол-варта» (Flyting betwixt Montgomerie and Polwart, ок. 1583–1598). Александр Монтгомери (Alexander Montgomerie, 1545–1615) был родственником королю Иакову VI и в своих поэтических трудах стремился подражать поэтам-чосерианцам, писавшим сто лет назад. О его оппоненте, сэре Патрике Хьюме Полварте (Sir Patrick Hume of Polwart, ок. 1550–1609), нам почти ничего не известно, кроме того, что он занимал пост при королевской опочивальне и имел брата Александра Хьюма, который также был поэтом. В отличие от предыдущих перебранок, где имя победителя осталось нам неизвестным, в этом поединке верх одержал Монтгомери (впоследствии он упоминает об этом в своем сонете XXVII). Известно также, что король Иаков VI называл Монтгомери не только своим близким другом, но и поэтом-лауреатом [Mullan 2009: 204]: возможно, это звание Монтгомери получил именно после победы над Полвартом.
Поскольку придворная перебранка была в первую очередь не попыткой оскорбить собеседника, а поэтическим состязанием, тема творчества занимает важное место в речах соперников. Они как комментируют уровень литературного мастерства противника и восхваляют свои строки, так и дают любопытные определения понятиям «поэзия» и «поэт», сополагая их с различными контекстами. Рассмотрим то, как участники перебранок обращаются к теме поэтического искусства на примере «Перебранки Данбара и Кеннеди» и «Перебранки Монтгомери и Полвар- та». «Перебранка Дэвида Линдсея» являет собой несколько другой случай, в сущности, не являясь настоящей перебранкой и «по большей части не следуя традициям жанра, а лишь имитируя их» [Ибрагимова 2023: 369].
Парадоксально, но само слово «поэт» в перебранках обыкновенно не употреблялось. В «Перебранке Данбара и Кеннеди» соперники чаще всего используют три слова, каждое из которых имеет значение «поэт», но они по-разному стилистически окрашены. Первое из них – makar , слово на языке скотс, по сути, являющееся калькой слова poet (др.-греч. ποιητής), близкородственное английскому maker и буквально означающее «делатель», «творец», что было созвучно восприятию поэта как человека, владеющего своим ремеслом, искусного мастера, а не просто любимца муз [Bawcutt 1992: 19]. Поэзия, в свою очередь, именуется равно как poetry , так и making [Olson 1979: 274]. Шотландские поэты, начиная с короля Иакова I (1394–1437), который был известным поэтом, использовали исключительно это слово для самоидентификации. В современной традиции словом «makar» называют лишь тех поэтов, которые писали или пишут на скотс, но во времена, в которые создавались перебранки, оно обозначало любого значимого творца: к примеру, Данбар неоднократно в своих стихах называет так Чосера. Интересно, что makar ни разу не употребляется в «Перебранке Полварта и Монтгомери»: напротив, один раз Полварт, риторически обращаясь к поэтам былым времен, говорит: «Простите меня, поэты, что я сейчас изменю свой стиль» (здесь и далее подстрочный перевод наш. – К. И. ) (“Appardon me Poets to alter my style” [Montgomerie 2000: 165]) – очевидно, к концу XVI в. этот термин устаревает и перестает быть таким значимым, так как заканчивается эпоха шотландских придворных поэтов.
Так или иначе, это слово звучит в перебранке не так часто: для подчеркивания своего высокого поэтического статуса соперники обычно избирают более пышные титулы, оставляя сопернику другие, менее лестные, определения поэта. Так, полной противоположностью слову makar становится слово baird (бард). В контексте перебранки оно получает резко негативную окраску и отсылает к гэльской поэтической традиции: бард – это поэт, творящий на одном из кельтских языков [Elliott 1960: 37]. Примечательно, что «бардом» своего соперника в перебранке называет лишь Данбар; он же и превращает нейтральное слово в оскорбление: насмехаясь над гэльским происхождением Кеннеди, он связывает его с малограмотностью, отсутствием поэтического дарования, вульгарностью. Не случайно контек- сты употребления слова «бард» указывают либо на происхождение, либо на низкий род занятий оппонента: это либо «ирландский бродячий бард» (“Iersche brybour baird” [Dunbar 1834: 67]), либо «бард-богохульник», «лживый бард» (“baird blasphemar” [ibid.], “fals baird” [ibid.: 69]), либо «бард-воришка» (“theif baird” [ibid.: 72]) и т. д.
Интересно, что на этом отсылки к гэльской традиции не заканчиваются. Во вступлении к своей речи Данбар подчеркивает тот факт, что перебранка – это низкий жанр, недостойный истинного поэта. Он упоминает, что брань – прерогатива бардов, носителей гэльской культуры, и что участие в перебранке не дает ни радости, ни славы. Данбар подчеркивает свое первоначальное нежелание участвовать в перебранке из-за ее низкого статуса, однако утверждает, что для сохранения чести он готов показать свое мастерство и проучить обидчиков, вызывавших его на словесную дуэль:
Bot wondir laith wer I to be ane baird.
Flyting to use richt gritly I eschame,
For it is nowthir wynnyng nor rewaird,
Bot tinsale baith of honour and of fame, Incres of sorrow, sklander, and evill name.
Yit mycht thay be sa bald in thair bakbytting
To gar me ryme and rais the feynd with flytting
And throw all cuntreis and kinrikis thame proclame [ibid.: 65–66].
(Но не думай, что мне понравилось бы быть бардом. / Я всецело презираю перебранку, / Поскольку она не дарует ни победы, ни удовлетворения, / Но только отнимает честь и славу, / Взращивает печаль, ложь и злословие. / Но пусть они в своей клевете отважатся / Дать мне рифмовать и вызвать дьявола для перебранки, / И на все страны и королевства я их ославлю.)
Действительно, вполне вероятно, что жанр шотландской перебранки берет свои истоки из кельтской традиции, включающей в себя не только гэльское, но также ирландское и валлийское наследие [Speirs 1962: 55]. По словам Иена Росса, поэтика сатиры, представленная в «Перебранке Данбара и Кеннеди», возможно, появилась при шотландском дворе благодаря гэльской традиции еще до Данбара [Ross 1981: 186]. Между бардами разных кланов были часты словесные поединки: соперники отстаивали не только свою личную честь, но и честь своего рода. Самые ранние из таких поэтических соревнований были зафиксированы в IX в. и были вполне самобытными [Hull 1906: 4], хотя сходные жанры существовали и в других культурах. Однако если в кельтской традиции перебранка не была игрой, то перенявший ее шотландский двор использо- вал ее как развлечение. Региональный, даже провинциальный характер подобной забавы Данбар и стремится высмеять.
Несмотря на то что сам же Данбар подчеркивает, что жанр перебранки гораздо ближе Кеннеди, чем ему самому, он настаивает на том, что он является лучшим поэтом, чем его противник, ведь, даже играя по чужим правилам и овладевая чуждым ему (по его словам) языком брани, он способен ославить Кеннеди и его секунданта навеки. «Такую риторику вы используете там, где говорят по-гэльски [в Хайленде]» (“Sic eloquence as thay in Erschry use” [ibid.: 69]), – говорит он Кеннеди, бросая ему упрек в том, что тот получает удовольствие от перебранки, в то время как для Данбара это лишь досадная необходимость.
Еще одним синонимом к слову «поэт» становится слово skald (скальд), что в этом случае означает «поэт оскорбляющий» и в ситуации перебранки относится к обоим ее участникам. Однако и этот термин в их устах превращается в оскорбление: к примеру, Кеннеди сравнивает оскорбительные стихи Данбара со своими «достойными лавров писаниями» (“Pretendand thee to wryte sic skaldit skrowis,/ Ramowd rebald, thow fall doun att the roist / My laureat lettres at thee and I lowis” [ibid.: 66]), а в «Перебранке Полварта и Монтгомери» Полварт называет своего противника «пришибленным скальдом» (“skaid skald” [Montgomerie 2000: 172]). Однако если в словах Кеннеди основное оскорбление заключается в слове «оскорбляющий», «оскорбительный», что связано с низким статусом жанра перебранки в то время (оскорблять – это недостойное действие), то Полварт акцентирует внимание не на этом: его больше интересует характеристика, которую он дает скальду-Монтгомери; неизвестно, считалось ли оскорбительным слово «скальд» во времена Полварта.
Однако, несмотря на то, какое место в системе жанров занимает перебранка, поэты, участвующие в ней, стремятся доказать, что даже здесь их искусство не знает себе равных. Соперники выдвигают ничем не подтвержденные тезисы, среди которых «безусловное мастерство оскорбляющего и безусловная бездарность оскорбляемого: в процессе перебранки те позиции, на которые оппоненты ставят себя и другого, не подлежат развитию и изменению. Таким образом, поэты в своих речах описывают ситуацию со своей точки зрения, которая, по их мнению, была незыблемой до момента перебранки и останется таковой после» [Ибрагимова 2020: 113]. Несмотря на то что «равенство оппонентов является необходимым исходным условием этого жанра» [Матюшина 1994: 22], сами поэты «воспринимают вербальный поединок как сражение с заведомо неравным соперником» [Ибрагимова 2020: 113]. Они избирают способ самовыражения, обратный топосу смирения, «напускной скромности» [Curtius 1963: 83], так как в случае словесной дуэли принижение себя невозможно.
Демонстрируемая противниками презумпция собственной исключительности, таким образом, выражается в уверенности в собственном поэтическом мастерстве. В контексте перебранки слово мыслилось как некая таинственная сила, оно становилось главным орудием битвы, поэтому в речах соперников присутствуют постоянные аналогии со сражением, лексика, связанная с ратным делом: так, к примеру, Данбар обещает Кеннеди «завершить его рифмы одним ударом» (“To red thy rebald rymyng with a rowt” [Dunbar 1834: 69]), в битве (“fecht” [ibid.]) отложить кинжал, меч и топор и высечь противника собачьим поводком (“With ane dog leich I schepe to gar thee schowt / And nowther to thee tak knife, swerd, nor aix” [ibid.]); Полварт говорит Монтгомери, что тому придется с позором покинуть поле боя (“And sall resaue baith skaith and schame/ And syne be forcit to flie the field” [Montgomerie 2000: 155]). Человек, владеющий словом, практически неуязвим и в чем-то становится высшим существом, в соответствии с архаическим восприятием силы слова. Это ярче всего просматривается во вступительной речи Данбара, где он рисует апокалиптическую картину (ср. с Книгой пророка Исайи 13:10–13 и Откровением Иоанна Богослова 8:7–12) с помощью библейских образов: высмеивая
Кеннеди и его секунданта, которые осмелились в своих чаяниях занестись выше звезд, он предсказывает, что им суждено пасть, как некогда пал Люцифер. Однако не Господь покарает их, но сам Данбар, чье поэтическое искусство способно как сотворить новый мир, так и разрушить старый:
Quhilk hes thameself aboif the sternis styld.
Bot had thay maid of mannace ony mynting In speciall, sic stryfe sould rys but stynting;
Howbeit with bost thair breistis wer als bendit As Lucifer that fra the hevin discendit,
Hell sould nocht hyd thair harnis fra harmis hynting.
The erd sould trymbill, the firmament sould schaik,
And all the air in vennaum suddane stink,
And all the divillis of Hell for redour quaik, To heir quhat I suld wryt with pen and ynk;
For and I flyt, sum sege for schame sould sink, The se sould birn, the mone sould thoill ecclippis, Rochis sould ryfe, the warld sould hald no grippis, Sa loud of cair the commoun bell sould clynk [Dunbar 1834: 65].
(Они [Кеннеди и Квентин. – К. И. ] вознеслись превыше звезд. / Но так как они сделали попытку угрожать мне, / Эта борьба никогда не окончится; / Пусть их груди вздуты от гордости, / Они падут, как пал с небес Люцифер, / Ад не укроет их глав от кары. / Земля содрогнется, небо задрожит, / И весь воздух наполнится ядом, / И от страха затрясутся все дьяволы в Аду, / Когда услышат, как я пишу пером и чернилами; / Ибо когда я бранюсь, мужи погибают от стыда, / Море загорается, начинается лунное затмение, / Скалы раскалываются, мир больше ничто не сдерживает, / Так громко об угрозе возвещает колокол.)
В «Перебранке Данбара и Кеннеди» искусство поэзии воспринимается как божественный дар (примечательно, что такая трактовка роли поэта не вполне соответствует традиционному средневековому взгляду на поэта как на мастерового). Поэты говорят скорее не об умении писать стихи (примечательно, что слова «рифмовать», «сочинять» они относят как к себе самим, так и к противникам, тем самым не отказывая им в техническом понимании и подражании процессу создания стиха), а о праве на творчество. Более страшным грехом становится не неумение, а дерзание. Поэтому так часто повторяется угроза заставить другого умолкнуть: стихи того, кто не является истинным творцом, не должны звучать в мире, это невиданная дерзость. Заявления оппонентов часто противоречат сами себе: к примеру, Кеннеди сначала объявляет, что заставит Данбара замолчать, а затем сам приглашает его высказаться, чтобы посмотреть, на что он способен.
Причинами такого недостатка таланта, которые отмечают оппоненты друг у друга, являются недостаточное образование, природная глупость, неблагосклонность Бога (или богов). Так, например, Данбар упрекает Кеннеди, что тот в своих стихах заговаривается, поскольку его разумом, как у всех безумцев, правит луна (“Mismaid monstour, ilk mone owt of thy mynd, / Renunce, rebald, thy rymyng, thow bot royis” [ibid.: 67]), ему недоступно учение, так как он лишен всяких достоинств (“Of every vertew voyd, as men may sie. / Quytclame clergie and cleik to thee ane club” [ibid.]). Данбар насмехается над самомнением Кеннеди, называющим себя оратором с золотыми устами – ведь он даже не знает, что такое хороший вкус в поэзии, а единственные дебаты, которые тот может вести, – споры за гроши (“Uther pure beggaris and thow for wage debaittis” [ibid.: 70]). На этом основании Данбар заранее предсказывает исход поэтического сражения, называя Кеннеди побежденным (“forflittin” [ibid.: 74]).
Кеннеди повторяет свои угрозы заставить Данбара умолкнуть и ответно обвиняет его, что тот заговаривается. Но большая часть аргументов Кеннеди связана с божественной сферой поэтического искусства, которое он рассматривает как дар. Упоминая, что во сне ему явилось видение о происхождении Данбара, которое он затем облек в стихи, Кеннеди уподобляет себя визионеру, которому «по желанию высших сил открылась некая истина, иначе недоступная человеческому познанию» [Ярхо 1989: 21] (“Yit of new tressone I can tell thee tailis / That cumis on nycht in visioun in my sleip” [Dunbar 1834: 76]). После этого Кеннеди рисует картину, напоминающую аллегорическое видение: он рассказывает, как побывал на Парнасе и пил там из источника воду красноречия, очищенную морозом. Данбар же, по словам Кеннеди, тоже побывал там, но из-за своей глупости прибыл туда гораздо позже – в марте или в феврале, и на его долю осталась лишь лужа с жабьей икрой:
I perambalit of Pernaso the montayn, Enspirit wyth Mercury fra his goldyn spere, And dulcely drank of eloquence the fontayne Quhen it was purifit wyth frost and flowit clere. And thou come, fule, in Marche or Februere Thare till a pule and drank the padok rod That gerris the ryme into thy termes glod And blaberis that noyis mennis eris to here [ibid: 78].
(Я взошел на гору Парнас, / Вдохновленный Меркурием в его золотой сфере, / И с наслаждением пил из источника красноречия, / Когда он, чисто протекающий, был очищен морозом. / А ты пришел, глупец, в марте или феврале, / Оста- лась лишь лужа, и ты пил жабью икру, / Которая дает твоему бессмысленному языку рифмы, / И ты бормочешь, что утомляет слух остальных.)
Интересно сравнить этот отрывок с двумя строками, которые затем произносит в своей речи Кеннеди. Продолжая нападки на Данбара, он упоминает, что тот был зачат во время большого лунного затмения и создавался Меркурием как монстр (“Thou was consavit in the grete eclips, / A monstir maid be god Mercurius” [ibid.: 84]). Любопытно, что Кеннеди, вероятно, сам того не замечая, в своей речи использует образ Меркурия в двух разных ипостасях: несомненно, что, говоря о своем обретении «меда поэзии», он воспринимает Меркурия, указавшего ему путь, как светлого покровителя ораторского искусства, вступившего в брак с Филологией, однако тот же самый бог, создавший Данбара, делает это со злой целью из-за своего коварства. Здесь проявляется двоякое отношение соперников друг к другу: с одной стороны, они стремятся подчеркнуть заурядность другого, но при этом описывают соперника как некое демоническое существо, наделенное потусторонними силами, что проявляется в том числе и в поэтическом искусстве. Эти тезисы противоречат друг другу: к примеру, Данбар называет язык Кеннеди змеиным (“serpentis tung” [ibid.: 68]), но при этом это же язык предателя, неумехи и нищего (“trechour tung” [ibid.: 67]). Противоречия возникают и в пассажах, где поэты похваляются мощью своего слова: так, Кеннеди, до этого обвинявший Данбара в родстве с Дьяволом, тут же грозит ему этого Дьявола натравить на него, так как он подчиняется Кеннеди благодаря его мастерству (“And I sall send the blak devill for to bak thee” [ibid.: 82]), что можно сравнить с картиной разрушения мира, нарисованной во вступлении к речи Данбара.
Итак, Данбар и Кеннеди всячески утверждают каждый свое превосходство, однако их доводы по большей части голословны и недоказательны: они лишь выдвигают тезисы, которые почти не аргументируют. В «Перебранке Полварта и Монтгомери» мы видим несколько иную картину. Разумеется, и здесь оба поэта бросают друг другу в лицо немотивированные оскорбления: Монтгомери в первой же строке своей речи говорит Полварту, что тот пищит, словно мышь в кустарнике (“Polwart ye peip like a mouse among thornes” [Montgomerie 2000: 175]), утверждает, что с его пера капает яд (“And drink of that wel that poysonit thy pen” [ibid.: 143]); Полварт же объявляет, что стихи Монтгомери подобны жабьей отрыжке (“Thy tratling, tinklar, wald gar ane taid spew” [ibid.: 168]. Но этим соперники не ограничиваются: они предпринимают попытки проанализировать поэтическую технику оппонента (конечно, не в его пользу).
Обвинений в несовершенстве поэзии оппонента, которые выдвигают противники, всего два. Первое из них связано с неумением писать, однако, в отличие от Данбара и Кеннеди, Пол-варт и Монтгомери касаются не темы дарования, а темы технической слабости чужих стихов. Полварт обращается к этому вопросу первым: он привлекает внимание к тому, что стихи Монтгомери то слишком коротки, то слишком длинны, то совсем выпадают из размера, содержание же их настолько нелепо, что могло было быть вызвано лишь чрезмерными возлияниями:
Thy raggit roundaillis, reifand royt,
Sum schort, sum lang, and out of lyne, With scabrous collouris, fowsome floyt, Proceiding from ane pynt of wyne,
Quhilk haultis for fault of feit like myne [Ibid: 155].
Полварт советует сопернику потренироваться писать, основываясь на его, Полварта, примере (“Sen, loun, thy language I have laid, / And put the to thy pen to wryt” [ibid.]). В других частях своей речи Полварт вновь повторяет свои упреки, отмечая то же: «растрепанный», скачущий размер (“mankit, manschocht, manglit meitter” [ibid.: 157]), к которому добавляются «крысиные» (безумные, бессмысленные) рифмы (“roustie ratrymes” [ibid.]).
Монтгомери в ответе Полварту избирает другую тактику: он поднимает еще более важную тему – тему плагиата. Как отмечает Джон Хайнс, в Англии понятие авторского права возникает во времена Чосера [Hines 2016: 25] и постепенно развивается; Полварт и Монтгомери же творят почти спустя два века после смерти Чосера, когда оно обрело большое значение. Так, обвинения Монтгомери, где он называет своего оппонента вором, имеют двоякий смысл: Полварт, по словам Монтгомери, крадет не только ягнят, чтобы прокормиться, но и промышляет литературным воровством. Вновь возникает образ повешенного за воровство (“Quhen I sall syne sie the hing by the heillis / For termes that thou steilis of ald Poetrie” [ibid.: 142]). Более того, Монтгомери называет имена поэтов, у которых, по его мнению, Полварт заимствовал свои строки: это в первую очередь Чосер (Монтгомери упоминает «Рассказ Повара» из «Кентерберийских рассказов) и Линдсей (“Thy scrowis obscuir ar borrowit fra sum buik / Fra Lindsay thou tuik, thow art Chawceris Cuik” [ibid.: 143]).
В свою очередь Полварт ответно обвиняет своего соперника в плагиате, но подчеркивает, что Монтгомери ворует уже не у великих творцов прошлого, а у самого Полварта. Он прослеживает это на примере той самой перебранки, которая еще не закончена, таким образом, скорее всего, давая возможность своей аудитории по-иному воспринять то, что происходило у них на глазах. Полварт отмечает, что Монтгомери подражает той композиции, которую он избрал для ведения перебранки (впрочем, здесь можно вспомнить, как незадолго до этого Полварт иронически советовал своему противнику поучиться писать у него):
To prive my speikin probabill and plane
Thow must confes thow vsit my inventioun,
I raknit first thy race, syne thow agane
In the same sort maid of thy maister mentioun, Thy wit is waik with me to have dissentioune, For to my speichis thow nevir maid reply, At libertie to ly is thy intentioun [ibid: 169].
(Подтвержу свои речи простым примером, / Признайся, что ты использовал мои идеи, / Я сперва свел счеты с твоей расой, затем это же сделал ты, / В моем же духе упомянул о мастерстве, / Твой разум слишком слаб, чтоб спорить со мной, / И на эту мою речь ты никогда не ответишь, / Ведь ложь - это твое намерение.)
Интересно, что предъявленные обвинения как в литературном воровстве, так и в техническом несовершенстве имеют под собой серьезную основу: другое дело, что трактовка их в устах соперников выглядит неоднозначной. Так, «растрепанный размер», над которым потешается Полварт, - не что иное, как любовь Монтгомери к разнообразным строфическим формам, которые он заимствует из континентальной (преимущественно французской) поэзии и переносит на английскую почву. Известно, что Монтгомери проявлял большой интерес к поэзии «великих риториков» [Borland 1913: 129]: это видно даже по строфической организации его части «Перебранки», где широко используются внутренние рифмы, к примеру, первые пять его строф смешивают rime brisée (рифмуются цезуры и окончания строк) и rime renforcée (цезура рифмуется с окончанием строки):
Polwart ye peip like a Mouse among thornes, Na cunning ye keip, Polwart ye peip :
Ye looke like a sheep and ye had twa horns,
Polwart ye peip like a Mouse among thornes [ibid.: 175].
В свою очередь тема плагиата возникает благодаря тому, что Полварт действительно считал своим главным авторитетом Чосера, упоминая, что он «человек Чосера» (“Also I may be Chawceris man” [ibid.: 158]), следовательно, подражание ему он не считает чем-то недопустимым. Таким образом, здесь мы видим столкновение представителей разных поэтических школ, вернее - два разных подхода к следованию за гением Чосера: если Пол-варт стремится подражать самому английскому поэту, то Монтгомери обращается за «золотыми словесами» к французской и итальянской поэзии так же, как это некогда делал Чосер.
Однако у Полварта и Монтгомери действительно больше общего, чем они признают, так как в ведении перебранки оба ориентируются скорее не на своих основных авторитетов, а на Данбара и Кеннеди. Поэтому неудивительно, что они невольно дублируют друг друга как в отношении содержания, так и в отношении композиции перебранки. Не только Монтгомери, но и Полварт использует сложные строфические формы; оба упрекают друг друга в схожих грехах.
Таким образом, поэты, критикуя мастерство соперников, используют как неаргументированные обвинения, так и основывают свои упреки на «предварительных инцидентах» [Матюшина 2011: 62] или примерах из творчества оппонентов. Для этого они используют различные синонимы к слову «поэт», которые могут быть как хвалебными, так и оскорбительными. Основной целью становится унизить собеседника не только как члена социума, но и как творца: он обвиняется либо в отсутствии божественного дара, либо в литературном воровстве, либо в неумении писать стихи. Интересно, что если бытовое оскорбление было в первую очередь направлено на то, чтобы подчеркнуть инаковость оппонента, то с появлением темы творчества все изменяется: теперь поэт сам подчеркивает свое отличие от всех других, так как он владеет словом, сила которого сравнима с мечом, ударом или мощью стихий. Возникает парадоксальная ситуация, при которой поэт, стремящийся вывести противника за рамки возможного и с помощью этого доказать, что тот недостоин быть членом общества, выводит за эти рамки сам себя, однако это лишь укрепляет его позиции.