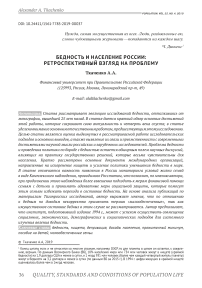Бедность и население России: ретроспективный взгляд на проблему
Автор: Ткаченко Александр Александрович
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Качество, уровень и условия жизни населения
Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает эволюцию исследований бедности, отталкиваясь от монографии, вышедшей 25 лет назад. В статье дается краткий обзор основных достижений этой работы, которые сохраняют свою актуальность и четверть века спустя; в статье уделено внимание основным отечественным работам, предшествующим этому исследованию. Целью статьи является оценка выдвинутых в рассматриваемой работе исследовательских подходов и основных выводов, а также выявление их связи и преемственности с современными достижениями научной мысли российских и зарубежных исследователей. Проблема бедности и проведения политики по борьбе с бедностью остается обширным полем научных дискуссий, влияющих на практику государственных решений, которые весьма чувствительны для населения. Кратко рассмотрены основные документы международных организаций, направленные на искоренение нищеты и усиление политики уменьшения бедности в мире. В статье отмечается важность появления в России мониторинга условий жизни семей в виде Комплексного наблюдения, проводимого Росстатом, что позволит, по мнению автора, при продолжении этого наблюдения более взвешенно подходить к мерам финансовой помощи семьям с детьми и принимать адекватные меры социальной защиты, которые помогут этим семьям избежать перехода в состояние бедности. На основе анализа публикаций по материалам Таганрогских исследований, автор выражает мнение, что по отношению к бедным по доходам некорректно применять термин «малообеспеченные», так как имущественное состояние бедных в этом случае не рассматривается. Автор предполагает, что институт, подготовивший издание 1994 г., может с успехом осуществить совмещение социальных, экономических, демографических и социологических подходов для системного изучения явления бедности.
Бедность, нищета, депривация, доходы населения, прожиточный минимум, пособие на детей, малообеспеченные семьи
Короткий адрес: https://sciup.org/143173629
IDR: 143173629 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00037
Текст научной статьи Бедность и население России: ретроспективный взгляд на проблему
Ровно четверть века назад вышла книга, которая теперь по праву занимает место среди «золотого фонда» научных работ по исследованию бедности в России как феномена и понятия [1] 2. В очень кратком вступлении редколлегия издания, в котором было опубликовано 16 основных статей пятнадцати авторов3, отмечала, что оно представляет собой первые результаты исследования Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), который после так называемой «либерализации цен» исследовал бедность для обоснования новых подходов к определению черты бедности. Это было чрезвычайно важно в 1990-е гг. и по-прежнему является обширным полем научных дискуссий, влияющих на практику государственных решений, весьма чувствительных для населения. Цель данной статьи состоит не только в оценке или переоценке выдвинутых в рассматриваемой работе исследовательских подходов, но также в выявлении их связи и преемственности с современными достижениями научной мысли в нашей стране и за рубежом. Разумеется, в одной статье невозможно сравнить весь большой массив даже основных публикаций за прошедшую четверть века, но можно оценить, хотя бы кратко, продвижение исследований и изменение меры актуальности самой проблемы бедности за этот период.
Либерализация цен, влияние которой на усиление бедности авторы издания Бедность-1994 исследовали в течение всего 1992 г., была задумана еще в 1989 году. Руководство страны понимало невозможность сохранения кризисной ситуации на рынке потребительских товаров и услуг, и поручило Госкомтруду СССР разработать механизм максимально возможного демпфирования обнищания на селения 4.
Первые прикидки Госплана и социального ведомства показывали, что в среднем троекратное повышение цен большинство населения без помощи государства без самых тяжелых последствий перенести не сможет, особенно в союзных республиках с абсолютным преобладанием сельского населения — Таджикистан (67,5%), Киргизия (61,8%), Узбекистан (59,4%), Туркменистан (54,8%)5. Повышение произошло уже в другой стране с другим экономическим укладом и без принятия специальных упреждающих мер защиты населения. Последствия этих действий были видны из публикаций официальной статистики, но они требовали как минимум комментариев специалистов и профессионального анализа.
Немного истории
Задача существенного подъема уровня жизни населения (народа) нашей страны впервые на уровне государства была поставлена в 1966 г. на XXIII съезде КПСС, где отмечалось, что одновременное ускорение темпов экономического развития страны и повышения уровня жизни народа является важнейшей особенностью Восьмого пятилетнего плана6. Самое удивительное в докладе Председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина было то, что он говорил о более высоких темпах роста реальных доходов населения (выделено автором)7. Не только в те годы, но и почти четверть века спустя статистика реальных доходов была закрытой, и, например, доклад специалистов НИИ труда о реальной заработной плате даже в 1989 г. имел гриф «для служебного пользования»8.
работке первого в истории страны прожиточного минимума, определяющего черту бедности, и к реформе цен, которая задумывалась с 1989 года.
Анализ публикаций по проблемам бедности отечественных исследователей показывает, что в период перед выходом, включая 1994 г., рассматриваемого в статье издания Бедность-1994 вышло всего 6 статей на тему бедности9, из них 3 были посвящены проблемам определения прожиточного минимума. И только статьи М. А. Можиной, Т. В. Ярыгиной и Л. А. Гордона поднимали вопрос бедности более широко [2; 3; 4]. Кроме того, сложная ситуации с 49,7 млн. чел. (33,5%), имевших доходы ниже прожиточного минимума в 1992 г., и 42,3 млн. чел. (29,0%) в 2000 г.10, также живших за чертой бедности11, периодически отслеживалась и ВЦИОМом 12. Статья М. А. Можиной [2] впервые была опубликована в 1992 г. в «Свободной мысли» и в том же году перевод опубликован в журнале «Проблемы переходной экономики», но более она доступна в электронной версии этого журнала13. В этот же период первого этапа перехода к рынку появились единичные публикации о зарубежном опыте определения прожиточного минимума [6]. На несколько месяцев позже, чем Бедность-1994 вышли статьи [7, 8] и в течение двух последующих лет вышло еще несколько интересных работ [9, 10], но это крупицы по сравнению с работами западных исследователей даже только по проблемам бедности в нашей стране.
Бедность-1994 открывается статьей А. Маколи, специалиста по бедности и уровню жизни, который анализировал бедность в нашей стране еще в 1977 и 1979 гг. [11,12] и который издал совместную монографию с авторами других статей в Бедности-1994 М. А. Можиной и Л. Н. Овчаровой четыре года спустя [13]. Свою статью А. Макоули14 начинает с анализа итогов исследований западных экономистов, проделавших большую работу по измерению и определению концепции бедности. Утверждение о большой работе можно подтвердить ссылкой на обобщающее исследование [14], которое подвело итоги исследований бедности к 1985 г. и представило синтез имевшихся к этому времени методов определения черты бедности.
К сожалению, в нашей стране подобные исследования в середине 1980-х гг. только начинались и были очень ограничены рамками закрытых статистических данных, отсутствием (невозможностью применения) даже в научном глоссарии понятия «бедность». Еще более идеологически неприемлемым15 был этот термин в годы первой работы на подобную тему (1967), о чем свидетельствует работа Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой [15]. Поэтому неправомерны упреки этим авторам 16 о том, что «В этой нормотворческой деятельности не уделялось внимания феномену бедности» [8. С. 54]. На год раньше Институт труда издал сборник под редакцией Е.И. Капустина и Н. М. Римашевской, в котором Е.Б. Урланис анализировала влияние демографических сдвигов в структуре семей рабочих и служащих на уровень их материальной обеспеченности 17[16]. Лишь через 6 лет появилась статья Е. И. Капустина и Н. П. Кузнецовой [17], а в 1973 г. Г.С. Саркисяну удалось издать коллективную монографию [18], в которой опубликована работа соавтора упоминавшегося доклада о динамике реальной заработной платы Т. И. Мамонтовой, где общественные фонды потребления рассматривались как вид государственной помощи «бедным» без употребления этого термина [18. С. 56–81].
Обратимся к статье в Бедность-1994 В.М. Жеребина и Н. М. Римашевской, в которой проблемы борьбы с бедностью рассматривались на примерах решения этой проблемы правительственными и международными организациями (к деятельности последних в этой области до этой публикации российские исследователи почти не обращались). Объясняя своё внимание к проблемам развивающихся стран, авторы констатируют, что «по многим социально-экономическим показателям, а также по проблемам, стоящим перед обществом ... мы мало отличаемся от стран третьего мира» [1. С. 30]. Спустя 15–20 лет такой подход стал общепринятым, и в различных статистических таблицах международных организаций по индикаторам развития Россия размещена в средней группе развивающихся стран. В статье использованы данные двух международных организаций: ВБ (доклад 1990 г о бедности)18 и Программы развития ООН (ПРООН) об индексе развития человека (1990). Ровно через 10 лет после анализа В. М. Жеребина и Н. М. Рима-шевской вышел доклад Всемирного института исследований бедности Брукса (Armando Barrientos, David Hulme), который был в 2009 г. опубликован и в виде журнальной статьи [19]. В нём также рассматривается политика против бедности в развивающихся странах, и главный вывод авторы вынесли даже в заголовок — «тихая революция». К статье В. М. Жеребина и Н. М. Римашевской примыкают статьи, рассматривающие зарубежный опыт: на основе сравнительного анализа бедности в России и Швеции (Б. Густафссон, Л.И. Ниворожкина), социальной защиты престарелых за рубежом (Н. Н. Симонова), а также применения зарубежных методологических подходов к оценке доходов пенсионеров по данным Таганрогского обследова- ния 1989 г. (Л. И. Ниворожкина, Н. М. Павлова).
К одной из первых работ, выявивших и проанализировавших факторы, «приведшие к бедности» семей, в новой социально-экономической ситуации (которую автор называет резкой трансформацией), можно отнести статью Л. И. Овчаровой [1. С. 224–236], в которой исследуются данные обследования семей в Астрахани и Петрозаводске. В столь кратком обзоре, как данная статья, необходимо выделить поднятые автором проблемы, которые не решены и четверть века спустя. Так, Л.И. Овчарова, подчеркивая преобладание среди бедных нуклеарных малодетных семей с взрослым иждивенцем, прежде всего, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком женщин, делает вывод, что их социальная незащищенность — «это просчеты в концепции социальной политики» [1. С. 231]. Автор в 1994 г. поднимала проблему размеров пособия по уходу за ребенком, который «не позволяет даже приблизиться к черте бедности». К сожалению, за прошедшие годы, несмотря на ряд вновь введённых мер социальной защиты, ситуация для одиноких матерей и не только для них заметно не улучшилась. Даже после повышения размеров пособий с 1 февраля 2019 г. одинокая мать, ухаживающая за первым ребенком, будет жить на подушевой доход в 14% от прожиточного минимума трудоспособного человека, ухаживающая за вторым или последующими детьми — менее чем в 23%. И только матери, имевшие в течение двух предшествующих лет заработную плату, позволяющую им получать максимальное пособие, будут иметь подушевой доход в 112% от прожиточного минимума 19. Следовательно, эти категории подпадают под новый вид пособия бедным (малообеспеченным) и получат дополнительно 10,8 тыс. рублей (2019), а уровень дохода семьи матери-одиночки с максимальной заработной платой поднимется до 159% прожиточного минимума, а с минимальной — лишь до 60% в семье с первым ребенком. Остают- ся с минимальной защитой, не достигающей и половины черты бедности, то есть даже по терминологии Росстата находятся в состоянии крайней бедности или нищеты, никогда не работавшие матери-одиночки. Но и полная семья с родителями, каждый из которых имеет среднюю заработную плату, окажется после рождения первого ребенка, когда мать будет находиться в отпуске по уходу до 1,5 лет20, с подушевыми доходами на уровне 198% от прожиточного минимума трудоспособного, то есть в зоне риска. Если зарплата у кого-то из членов семьи будет на несколько процентов выше средней, то семья не получит нового вида пособий на ребенка до трех лет, так как её доход превысит два прожиточных минимума21.
Хотя в статье «Проблемы помощи безработным» [1. С. 169-185] анализируются данные обследования, которое проводилось в год развёртывания системного кризиса российского общества, полученные данные и их анализ важны тем, что, во-первых, позволяют сравнить ситуацию с посткризисными периодами 1998 и 2008 гг. и периодом рецессии середины 2010-х гг.22, и, во-вторых, не просто подтверждают факт значительного влияния безработицы на падение уровня жизни и бедность, а приводят авторов М.С. Токсан-баеву и М.А. Козлову к заключению, что «самое сильное влияние на обеднение семей оказывает незанятость «первых» работников» [1. С. 183].
В статье Л. М. Прокофьевой «Различия в уровне жизни разных демографических типов семей с детьми» [1. С. 150–168] необходимо отметить среди других интересных результатов анализа два парадоксальных факта, которые требуют не просто объяснения, а сравнения во времени полученных данных и направленности конкретных мер социальной защиты. Во-первых, среди демографических типов семей с большим отрывом преобладают полные семьи с 1–2 детьми (44% всех бедных семей), в то время как полные семьи с тремя и более детьми составляют лишь 3,3% бедных. Возникает вопрос о правильности ориентации социальной политики по отношению к семьям с различной детностью. Во-вторых, среди социальных типов семей доля бедных семей, где число работающих равно числу иждивенцев, практически равна доле семей, где число работающих меньше числа иждивенцев (25,2% и 25,6%) [1. С. 155]. Прежде всего, это может свидетельствовать о весьма низкой средней заработной плате, которая слишком близка к прожиточному минимуму, что социально опасно. Но и в анализируемом издании встречаются статьи, поднимающие, безусловно, важные проблемы общества, но не употребляющие и не рассматривающие понятие «бедность», например, по отношению к инвалидам или проблеме питания, а это и 25 лет спустя остается более чем актуальным23.
После издания Бедность-1994 авторский коллектив проделал большую теоретико-практическую работу и на основе обследований ряда территорий представил один из первых в нашей стране подходов к субъективному измерению бедности, измерению бедности по лишениям, по комбинированному критерию бедности и сравнил полученные результаты с традиционным измерением бедности по доходам [21]. Назовём лишь те фамилии авторов нового исследования, которые участвовали и в публикации 1994 г.— это М. А. Можина, Л. Н. Овчарова, И. И. Елисеева, В. И. Гришанов, Н. М. Павлова, Л. М. Прокофьева, Р. И. Попова, М. С. Ток-санбаева 24, а также А. Макоули. Этой книге посвящена специальная статья одного из соавторов [22], поэтому не будем останавливаться на ней подробно, сказав только, что это исследование оценивают как первый российский опыт измерения бедности с помощью метода лишений.
Этот опыт успешно развивается в отечественных исследованиях одним из авторов Бедность-1994 Л. М. Прокофьевой с коллегами. В работе 2016 г. продолжены исследования бедности в разрезе лишений, где набор деприваций применительно к российским бедным был определен на основе данных Росстата, полученных в ходе Комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года [23]. Кроме вполне ожидаемых выводов, например, о составе наиболее уязвимых групп населения, признанных бедными по критериям депривации, работа содержит анализ домохозяйств различных демографических типов по уровню совмещения признаков бедности по двум критериям [23. С. 58–59]. Особо стоит отметить вывод авторов о том, что «почти треть многодетных семей являются одновременно бедными и по монетарной бедности, и по депривациям». Это свидетельствует, по нашему мнению, о низкой эффективности мер помощи семьям с несовершеннолетними детьми, которую решениями в 2018– 2019 гг. государство пытается расширить, но результаты можно будет увидеть только по итогам следующего Комплексного наблюдения. Поэтому авторы справедливо отмечают необходимость постоянного мониторинга переменных для отслеживания ситуации с бедностью [23. С. 55]. Появление российского мониторинга — это важный шаг для формулирования адекватных целей семейной политики.
Внимание многих отечественных работ о бедности сфокусировано на вопросе недоучета скрытых, теневых доходов занятых и домашних хозяйств, которые при их учете понизят, по мнению авторов, число и долю бедных. В некоторых работах эта пробле- text/19177274/). К сожалению, доступ к монографии в виде полного текста книги по главам на сайте Московского Центра Карнеги, как написано на портале ВШЭ, отсутствует, как и сведения о монографии в elibrary.
ма рассматривается для доказательства, что многие бедные таковыми не являются, в других, более взвешенных с детальным анализом работах, напротив, доказывается, что бюджетные обследования Росстата занижают численность бедного населения [24. С. 25]25. Несмотря на то, что Росстат неоднократно совершенствовал выборку, Н. М. Ри-машевская и Л. А. Мигранова показали, что в бюджетное обследование не попадают существенные слои населения, включая беднейших [24. С. 18], то есть мы не получаем среза подлинной социальной структуры российского общества за счет «выпадения» двух полюсов: верхнего и нижнего. Это лишает возможности видеть точную картину дифференциации доходов и даже, в определенной мере, не обращать должного внимания на часть населения в условиях экстремальной бедности (нищеты) в акцентах политики социальной защиты, а они очень важны для правильного выбора целей, например, в национальных проектах.
Дополняющим и корректирующим источником для отечественных обследований домашних хозяйств мог быть опрос в рамках проекта INTAS 26, который имеет, конечно, и самостоятельную ценность, но он был закрыт в 2007 году. Его значение в исследовании бедности состоит в том, что он позволял исследовать восприятие бедности в различных региональных, этнических и социокультурных условиях и ставил задачей изучение воспроизводства и формирования субкультур бедности в различных обществах и общинах. Итоги опросов российских домашних хозяйств исследователями Великобритании, Дании, России позволили сравнить бедность в различных российских обществах и сообществах и прийти к выводу, который представляется очень важным для формулирования основных целей борьбы с нищетой и бедностью. Авторы подчеркивают некор ректность сравнения стран СНГ со странами
ЕС, так как последний дециль по доходам домохозяйства или семьи, то есть самые бедные 10% населения, надолго сохраняет специфику прошлой [дорыночной] модели социально-экономического развития [25]. Это происходит, по нашему мнению, из-за маргинализации значительной части этой группы, которая хронически пребывает в состоянии лишений и социальной изоляции, связанных с нищетой.
В работах исследователей высокоразвитых стран, где бедность также присутствует даже в абсолютном измерении (по доходам), ставится уже следующий по эволюционной истории этой проблемы вопрос: являются ли обнищавшие жертвами обстоятельств или они вносят свой собственный «вклад» в свое бедственное положение своими собственными действиями и принципами?27 Этот вопрос во всех его сложных ипостасях исследуется в работе «Бедность поколений: экономический взгляд на культуру бедных», в которой экономист, и это хочется подчеркнуть, рассматривает обе стороны медали [26]. Речь идет о экономическом анализе истоков постоянной нищеты, которая, как считает автор, имеет потенциальное решение28. Для анализа автор использует данные программы Big Brothers Big Sisters (BBBS)29 как на примере семьи, создающей препятствия для себя в борьбе со многими из современных социальных конструкций, так и общих проблем, с которыми сталкивается сообщество. Автор считает важным продолжать изучать эту страдающую часть населения для определения наиболее эффективного средства защиты от постоянно растущей проблемы бедности. С последним выводом, вероятно, согласно большинство исследовате- лей и экспертов. Нарастание этой проблемы в современном глобальном мире подтверждается как международными организациями, включая ООН, вовлеченными в борьбу с ней, так и национальными правительствами.
Данные, приводимые в работе коллектива авторов30, среди которых и автор Бедность-1994 Л. Н. Овчарова, наталкивают на вывод о неожиданной роли стоимостной структуры прожиточного минимума, несмотря на все присущие ему в отечественной статистике недостатки методологического обоснования расчёта. Так, рост доли продуктов питания31 и значительное падение доли услуг в общей стоимостной форме прожиточного минимума в 4 квартале 2013 г. по сравнению с 4 кварталом 2012 г. свидетельствует о начале экономической рецессии в российской экономике, ставшей заметной в 2014 году. Таким образом, динамика стоимостной структуры прожиточного минимума может рассматриваться как чуткий индикатор начавшихся макроэкономических изменений, которые не так заметны на привычных макроэкономических показателях. По аналогии, заметим, что в 1990-е гг. подобным индикатором была задолженность по заработной плате.
Бедность в мире и мир бедных
Впервые глобальная задача борьбы с бедностью была поставлена в 2000 г. в связи с принятием Целей развития тысячелетия ООН (Millennium Development Goals), но строго говоря, речь шла не о бедности вообще, а именно о крайней бедности (нищете), которую мировое сообщество должно удалить из действительности как недостойное явление современного мира32. Подобную задачу еще раньше (в 1995 г.) продеклариро- вала Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития, по итогам которой в принятой Копенгагенской декларации о социальном развитии говорилось, что повсюду в странах мира рост благосостояния одних сопровождается ростом масштабов ужасающей нищеты (unspeakable poverty) других. Это было названо «вопиющим противоречием, которое должно быть в срочном порядке устранено» (выделено ав-тором)33. Среди обязательств, принятых всеми участниками встречи (главами государств или правительств), говорилось о существенном сокращении всеобщих масштабов нищеты (бедности) и искоренение абсолютной нищеты в сроки, определяемые в национальном контексте каждой страной, что ставило беднейшие страны в тупиковую ситуацию. Мы не останавливаемся на роли ВБ, который занимается мониторингом глобальной бедности и роль которого в страновой и мировой статистике бедности трудно переоценить [28], так как ВБ, являясь основным игроком в области социальной защиты, ограничивает свою работу по социальной защите странами с высоким уровнем задолженности.
В 2000 г. свой подход к бедности обозначила Международная организация труда (МОТ) в докладе «Обеспечение дохода и социальная защита в меняющемся мире»» [29], который совпадает с современным подходом к бедности по лишениям34, когда бедность расценивается, как отсутствие самого необходимого. МОТ относит к такой бедности: плохое состояние здоровья из-за нехватки средств на медицинское обслуживание и недостаточный уровень развития государственного здравоохранения; короткую ожидаемую продолжительности жизни; неграмотность или весьма низкий уровень образования; плохие жилищные условия; отсутствие питьевой воды и плохие санитарные условия. Представляется важным обратить внимание на следующую позицию МОТ —если бедные рабочие не могут принимать участие в политической жизни страны и иметь голос на уровне местного самоуправления, то бедность в их семьях может бесконечно передаваться из поколения в поколение [29]. Крупнейший исследователь бедности и неравенства Энтони Аткинсон также посвятил этому вопросу специальную статью [30]35. Такой подход к причинам хронической бедности отечественным исследователям еще предстоит апробировать.
В соответствии со своим мандатом МОТ уделяет больше внимания проблеме «труд и бедность», выделяя вопросы социальной защиты труда и влияния неформальной занятости на бедность. В принятой в 2015 г. Рекомендации № 204 МОТ предложила всем странам, в первую очередь развивающимся, принять национальные программы перехода от неформальной экономики к формальной, считая, что это усилит социальную защиту занятых и их семей, сократит бедность [31]. Вопрос о неформальной экономике (занятости) в этом аспекте представляется очень сложным и противоречивым, так как занятость в неформальном секторе подвергает человека и семью большей угрозе бедности, чем даже безработица в формальном секторе, но в то же время она помогает на какой-то период поддерживать уровень жизни и не впадать в бедность. Поэтому бедность способствует расширению неформальной экономики, как это происходило в нашей стране в 1990-е гг. и далее во время кризисов или экономической стагнации в XXI веке. Это подтверждается выводом в работе [32. Р. 404], авторы которой, кроме того, считают, что повседневные стрессы, которые испытывают многие россияне, и постоянные тревоги о будущем у бедных способствуют демографическому кризису в России [32. Р. 405]. С этим можно не соглашаться, но необходимо учитывать в проводимой политике помощи бедным семьям, не относя эту социальную политику к политике поощрения рождаемости.
Двойственный подход к решению проблемы бедности можно обнаружить и в работах Всемирного института исследований бедно- сти Брукса (Brooks World Poverty Institute)36 Манчестерского университета. Авторы статьи о бедности и нищете в развивающихся странах считают, что бедные страны не могут позволить себе тратить скудные ресурсы на помощь бедным, так как это может создать нацию иждивенцев. С другой стороны, приходят к выводу о больших долгосрочных потерях в экономическом развитии и развитии человеческого потенциала, связанных с отсутствием надлежащей социальной защиты — поэтому создание сильных институтов социальной защиты приносит стране большие выгоды [19. С. 447]. Такая сложная противоречивость самой проблемы и путей её решения определяет, как считают авторы, срочные потребности в исследованиях бедности, которые крайне необходимы.
В 2015 г. по завершению программы Millennium, выполнение которой затруднительно оценить однозначно37, ООН был принят План (повестка дня) в области устойчивого развития до 2030 г.38, среди 17 целей которой на первом месте опять стоят задача ликвидации нищеты (extreme poverty39). В том же году ВБ была создана комиссия высокого уровня во главе с Э. Аткинсоном (комиссия по глобальной бедности — Commission on Global Poverty), которого ВБ оценивал как выдающегося экономиста, чьи исследования бедности и неравенства плодотворны. Эти исследования обобщены ученым в его последнем фундаментальном труде, вышедшем уже без него [33]. ВБ поставил для себя дольно сложную задачу не только выбрать дополнительные меры по борьбе с бедностью и отслеживать их воздействие, но и сделать их доступными для policy makers, которые должны следовать общемировым глобальным целям в этой борьбе и одновременно учитывать национальные особенности и возможности своего государства. В докладе, подготовленном этой комиссией [28], обращает на себя внимание предисловие, в котором главный экономист и старший вице-президент ВБ отмечает, что Банк уделит самое пристальное внимание предложениям комиссии о разработке ряда дополнительных показателей измерения бедности и немонетарных оценок бедности.
Российские исследования последних лет и названные в статье исследования ведущих отечественных специалистов также уделяют значительное внимание бедности по лишениям и сравнительному анализу разных оценок бедности [34; 35]. Это свидетельствует, что российские ученые находятся в мировом мейнстриме исследований и на их выводы, учитывающие специфику российского общества, государственным институтам, отвечающим за социальную защиту населения, следует обращать самое серьезное внимание.
Несколько слов о различиях в терминологии, подтверждающих основной вывод статьи. Анализируя по материалам Таганрогских исследований качество жизни населения, один из авторов Сборника-1994 В. И. Гришанов рассматривает обеспеченность семей транспортными средствами по шести категориям в зависимости от уровня денежного дохода. Нижнюю группу с доходом менее прожиточного минимума он называет бедными. Следующую группу с доходом от 1 до 1,5 прожиточных минимумов — «малообеспеченные с высоким риском бедности», а группу с доходом от 1,5–2 прожиточными минимума — просто «малообеспеченные» [36. С. 194]. Поскольку в данном случае действительно анализируется имущество, которым обладают семьи (в данном случае транспортные средства) термин «малообеспеченные» вполне уместен и отражает положение семьи по материальной (имущественной) обеспеченности. В отличие от В. И. Гришанова официальная статистика, рассматривая расслоение населения только по доходам, по отношению к нижней (первой) группе употребляет термин «малообеспеченные», тем самым вносит терминологическую неточность и затеняет сущность самого явления бедности, уходя от его социальности [37].
Заключение
В современном глобальном мире проблема бедности остается на первом месте, как в социально-экономических исследованиях этого явления, так и в практике борьбы с ней, которую проводят национальные правительства, международные организации и мировое сообщество в це-лом40. Ликвидировать бедность как социальное явление не представляется возможным хотя бы по той причине, что это понятие не только абсолютное, но и относительное. Поэтому определенные слои населения всегда будут оценивать себя как страдающих от лишений, не свойственных в среднем обществу, в котором они живут. Но мир ставит задачу искоренения нищеты как крайнего проявления бедности, ведущего не только к социаль- ной изоляции людей, но и их деградации как человеческих личностей. Эту задачу ООН и другие международные организации ставили в конце XX в., она продолжает быть основной целью их деятельности и в XXI веке. Важное значение для её решения имеют научные исследования проблемы и доступная качественная статистическая информация о бедности на всех территориях. Поэтому исследования продолжаются, что видно и на примере многих авторов издания Бедность-1994, которые успешно продолжают научное изучение бедности. В этом свете положение ИСЭПН РАН, где вышло это издание, представляется в определенной мере уникальным — здесь могут быть с успехом совмещены основные подходы к изучаемому явлению: социальные, экономические, демографические, социологические, а именно такой системный подход на стыке научных направлений откроет для отечественной науки и практики новые горизонты.
Список литературы Бедность и население России: ретроспективный взгляд на проблему
- Бедность: взгляд ученых на проблему. / Отв. редактор М. А. Можина. Сер. «Демография и социология». Вып. 10.-М.: ИСЭПН РАН, 1994,- 287 с.
- Mozhina М. The Poor: What Is the Boundary Line? Problems of Economic Transition. 1992. Vol. 35, Iss. 6. P. 65-75.
- Ярыгина Т. Бедность в богатой России // Общественные науки и современность.-1994.- № 2,-С. 25-35.
- Гордон Л. А. Четыре рода бедности в современной России // Социологический журнал,- 1994.-Том 0,- № 4,-С. 18-35.
- Зубова Я., Ковалева Н., Хахулина Л. Бедность в СССР: точка зрения населения // Вопросы экономики,- 1991,- № 6,-С. 60-67.
- ЛучкинаЛ.С. О бедности и определении прожиточного минимума // Мировая экономика и международные отношения,- 1993,- № 2,-С. 134-142.
- РимашевскаяН.М. Социальная стратификация и проблемы бедности//Человек и труд,-1994.— № 10.-С. 55-58.
- ЧернинаН.В. Бедность как социальный феномен российского общества // Социологические исследования,- 1994,- № З.-С. 54-61.
- КузнецоваЕ.В. Социальное расслоение и бедность в России // Общество и экономика,- 1995.— №9.-С. 26-29.
- ПодузовА.А. Измерение бедности. Зарубежный опыт// Проблемы прогнозирования,- 1996.— № 4,- С. 101-108; 1996,- № 5,- С. 100-114.
- McAuleyA. Soviet anti-poverty policy 1955-1975. Madison, Wis.: University of Wisconsin, Institute for Research on Poverty. 1977.41 p.
- McAuleyA. Economic welfare in the Soviet Union: poverty, living standards, and inequality. Madison: University of Wisconsin Press. 1979. 389 p.
- McAuley A., Mozhina M. and Ovcharova L. Poverty: alternative approaches to definition and measures. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace. 1998.
- HagenaarsA.J.M., PraagB.M.S. A Synthesis of poverty line definitions. Review of Income and Wealth. 1985. Vol. 31. Iss. 2. P. 139-154. https://doi.Org/10.llll/j.1475-4991.1985.tb00504.x
- Саркисян Г. С., Кузнецова Н. П. Потребности и доход семьи,- М.: Экономика, 1967.-178 с.
- Математические методы в экономике труда. / Под ред. Е.И. Капустина и Н.М. Римашевской,- М.: НИИ труда, 1966.- 199 с.
- КапустинБ.И., Кузнецова Н.П. Региональные особенности повышения уровня жизни населения // Экономические науки.- 1972.- № 1,- С. 50-60.
- Доходы трудящихся и социальные проблемы уровня жизни населения в СССР / под ред. Г.С. Саркисяна,-М., 1973.- 188 с.
- Barrientos A., Hulme D. Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Ouiet Revolution. Oxford Development Studies. 2009. Vol. 37, Iss. 4. P. 439-456. DOI: 10.2139/ssrn.1265576
- World Development Report 1990. Poverty (World Development Indicators) [New York]: Oxford University Press. 276 p. ISBN0-19-520850-1
- Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению.- М.: Московский центр Карне-ги, 1998,- 282 с.
- ТоксанбаеваМ.С. Исследование бедности методом лишений: первый российский опыт//Экономическая наука современной России,- 1999.- № 1(5).-С. 22-28.
- Корчагина И.И., Прокофьева JI.M., Тер-Акопов С. А. Материальные депривации в оценках бедности // Народонаселение - 2019.- № 2 - С. 51-63. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00015
- Римашевская Н.М., Мигранова JI.A. Социально-экономическое неравенство в России // Народонаселение.- 2016.- № З.-С. 17-33.
- Poverty and Social Exclusion in the New Russia. Ed. by N. Manning, N. E. Tikhonova. L.: Routledge. 2017. 303 p. ISBN0754637395
- Vass Gal Adam D. Generational Poverty. An Economic Look at the Culture of the Poor. Wilmington, Delaware, US Vernon Press. 2015.160 p. ISBN-101622730186
- Ткаченко A.A. Эпоха реформ германской статистики и Э. Энгель//Вопросы статистики,- 2017.-№ 5,-С. 75-84.
- World Bank. 2017. Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty. Washington, DC: World Bank. 2017. xxv+252 p. DOI: 10.1596/978-1-4648-0961-3
- World labour report 2000: Income security and social protection in a changing world. Geneva, International Labour Office. 2000. xiv+321 p. ISBN92-2-110831-7
- Atkinson A.B., MarlierE. Human Development and Indicators of Poverty and Social Exclusion as Part of the Policy Process. Indian Journal of Human Development, 2011. Vol. 5. No. 2. P. 293-320. https://doi. org/10.1177/0973703020110201
- Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204): Workers' guide / International Labour Office, Bureau for Workers' Activities (ACTRAV). Geneva: ILO, 2017. 56 p. ISBN: 978-92-2-130483-8
- Round J. & Kosterina E. The construction of «poverty» in post-Soviet Russia. Perspectives on European Politics and Society. 2005. Vol. 6. Iss. 3. P. 403-434. DOI: 10.1080/15705850508438926
- Atkinson Anthony B. Measuring Poverty around the World. Princeton University Press, 2019. 464 p. ISBN-10:0691191220
- Александрова О.А., ЯрашеваА.В. Усиление селективности социальной политики и перспективы снижения бедности//Народонаселение.- 2018.-Т. 21.- № 1.-С. 4-19.
- Бедность и бедные в современной России. / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой,- М.: Издательство «Весь мир», 2014.- 304 с.
- Гришанов В.И. Качество жизни населения среднего российского города: вчера и сегодня (полвека «Таганрогских исследований»)//Бюллетень науки и практики.- 2017,- № 5(18).-С. 187-196.
- Ткаченко А.А Бедность как социальный феномен // Власть. - 1999. - № 9. - С. 35-43. Для цитирования: Ткаченко А. А. Бедность и население России: ретроспективный взгляд на проблему// Народонаселение." 2019.-Т. 12- № 4,- С. 36-50.