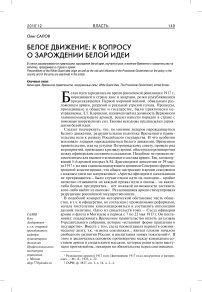Белое движение: к вопросу о зарождении белой идеи
Автор: Салов Олег Альбертович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются предпосылки зарождения белой идеи, изучается роль и влияние Временного правительства на политику, проводимую в стране и армии.
Белая идея, временное правительство, вооруженные силы
Короткий адрес: https://sciup.org/170165179
IDR: 170165179
Текст научной статьи Белое движение: к вопросу о зарождении белой идеи
Б елая идея зародилась во время российской революции 1917 г., породившей в стране хаос и анархию, резко усугублявшиеся продолжавшейся Первой мировой войной, обвальным разложением армии, разрухой и реальной угрозой голода. Процессы, проходившие в обществе и государстве, были практически неуправляемы. Л.Г. Корнилов, назначенный на должность Верховного главнокомандующего армией, решил навести порядок в стране с помощью вооруженных сил. Таковы исходные предпосылки зарождения белой идеи.
Следует подчеркнуть, что, по мнению лидеров нарождавшегося Белого движения, разрушительная политика Временного правительства вела к развалу Российского государства. И что особенно волновало лидеров нарождавшегося Белого движения, Временное правительство, идя на уступки Петроградскому совету, провело ряд мероприятий, приведших к развалу армии, обострило противоречия между офицерским составом и солдатами. Подобное не прошло незамеченным для высшего командного состава армии. Так, командующий 5-й армией генерал A.M. Драгомиров в донесении от 29 марта 1917 г. на имя главнокомандующего армиями Северного фронта с тревогой констатировал, что общее настроение в армии становится с каждым днем все напряженнее. «Аресты офицеров и начальников не прекращаются... были случаи отказа идти на позицию... крайне неохотно отзываются на каждый приказ идти в окопы... на какие-либо боевые предприятия... нет никакой возможности заставить кого-либо выйти из окопов»1. Разлагавшаяся армия стимулировала разрушение российской государственности.
САЛОВ Олег
В подобной конкретно-исторической обстановке часть общества, в т.ч. и офицерство, не согласная с проводимыми реформами, начала постепенно консолидироваться и составлять оппозицию данной политике. Одно из свидетельств тому – Съезд офицеров армии и флота в Могилеве в период с 7 по 22 мая 1917 г. Он постановил: поддерживать Временное правительство вплоть до созыва Учредительного собрания, которое «установит форму правления в государстве». Вместе с тем, съезд провозглашал верность союзническому долгу, т.к. «измена союзникам... явится плохим началом свободного развития России и воспитания новых поколений»2. В этом и заключалось основное противоречие между командным составом армии и солдатскими массами, которые решительно выступали против войны, невзирая на обязательства перед союзниками.
Союз офицеров ставил задачи: предотвратить разложение армии, организовать распространение в войсках здравых идей о сущности военной силы, бороться с попытками сеять рознь между офицерами и солдатами, пресекать демагогические выступления отдельных лиц и групп из офицерской среды и противодействовать попыткам узурпировать власть у народа и Временного правительства1. Собранием было решено: из программы работы будущего Союза офицеров армии и флота «совершенно выбросить политику»2, этот союз должен быть только профессиональной организацией. Съезд оставил при Ставке Верховного главнокомандования постоянно действующий Главный комитет, председателем которого он избрал Л.Н. Новосильцева – общественного деятеля, известного по работе в IV Государственной думе, командовавшего в то время артиллерийской батареей при бригаде Государственного ополчения.
По оценке А.И. Деникина, комитет, безусловно, отражал общее настроение офицерского корпуса, бывшего до поры совершенно лояльным по отношению к Временному правительству, но ставшего впоследствии враждебным ему, когда рухнули все надежды на возможность возрождения армии, наступления и победы. Не доверяя ему, офицерство отшатнулось от власти, и таким образом Временное правительство «потеряло последнюю верную опору»3. Все это настораживало революционную демократию.
Слабость правительства, не способного навести порядок, привела к тому, что в различных кругах российской общественности начала вызревать идея военной диктатуры. Отверженные чиновники увидели в ней возможность возвращения к государственной службе; торгово-промышленные и финансовые круги – надежду на восстановление государства и начало необходимых реформ промышленно-хозяйственного комплекса; военные мечтали привести армию в боеспособное состояние; само правительство – добиться установления контроля над страной. Беспорядок надоел и рабочим, что, в частности, сказалось на политике
Петроградского совета, который к середине июля уже, в сущности, не возражал против диктатуры4.
Под давлением правых и умеренных кругов А.Ф. Керенский пошел на подготовку к установлению более жесткого гражданского и военного руководства, тесно взаимодействуя при этом с высшими военными кругами5. Однако он боялся быть отстраненным от власти генералом Корниловым, поэтому в последний момент предал его. Как отмечал по этому поводу В.И. Ленин в одном из своих выступлений в 1919 г., «поход Корнилова не был случайностью – он создался в силу обманной политики правительства Керенского»6.
27 августа 1917 г. Керенский отправил телеграмму Корнилову, в которой приказывал ему сдать должность Верховного главнокомандующего генералу А.С. Лукомскому. Л.Г. Корнилов, однако, не подчинился приказу А.Ф. Керенского и 28 августа подписал заявление, в котором действия Керенского квалифицировались как «великая провокация». В дальнейшем Л.Г. Корнилов заявил, что идет против правительства и «против тех безответственных советников его, которые продают Родину»7.
Выступление Корнилова не было заранее подготовлено; в своих воспоминаниях генерал П.Н. Врангель отмечает: в войсках телеграммы и обращения Корнилова до всеобщего сведения не доводились. Для генерала A.M. Крымова, командира 3-го конного корпуса, конфликт Верховного главнокомандующего с правительством явился полной неожиданностью. Застигнутый им врасплох, он заколебался, стал запрашивать дополнительные указания из Ставки и потерял драгоценное время для движения на Петроград. В свою очередь, выдвижение корпуса Крымова к столице явилось полной неожиданностью для организации графа Палена – одной из ключевых в городе по осуществлению связи между военными кругами и общественностью, заинтересованной в введении в стране военной диктатуры. По сви- детельству ее руководителя, конфликта со Ставкой никто не ожидал, и в предвидении такого поворота событий ничего сделано не было1.
Накануне председатель Союза офицеров Л.Н. Новосильцев имел конфиденциальную беседу с Л.Г. Корниловым. Во время этой встречи Новосильцев, в частности, интересовался политическими взглядами генерала. На заданный ему прямой вопрос о его политических пристрастиях, Корнилов заявил, что хотя царская семья ничего, кроме хорошего, ему не сделала, тем не менее он не желал бы не только реставрации, «но даже вообще появления у власти Романовых». По его убеждению, семья эта уже выродилась и не имеет даровитых личностей.
Корнилов заявил, что власти не ищет, но полагает, что только диктатура может спасти положение. А если придется взять власть в свои руки, то этого он избегать не будет. В программе своей деятельности Л.Г. Корнилов предусматривал немедленное введение смертной казни и «мобилизации» железных дорог, ибо при «расстройстве транспорта армия может погибнуть от голода». Но вместе с тем он заявил, что не желает посягать на право народа самому определить свою судьбу, не думает о возвращении старого и считает, что многие экономические и социальные вопросы должны быть разрешены в духе социальной справедливости2.
По свидетельству другого соратника Корнилова по борьбе – генерала Деникина, «Корнилов не был ни социалистом, ни реакционером. Но напрасно было бы в пределах этих широких рамок искать какого-либо партийного штампа. Подобно преобладающей массе офицерства и командного состава, он был далек и чужд всякого партийного догматизма; по взглядам, убеждениям примыкал к широким слоям либеральной демократии. Он мог поддерживать Правительства и Львова, и Керенского, независимо от сочувствия или не сочувствия направлению их политики, если бы она вольно или невольно не клонилась, по его убеждению, к явному разрушению страны». Корнилов не желал идти ни на какие «авантюры с Романовыми», считая, что они «слишком дискредитировали себя в глазах русского народа». На заданный как-то Деникиным прямой вопрос, что он будет делать, если Учредительное собрание выскажется за монархию и восстановит павшую династию, Л.Г. Корнилов ответил без колебания: «Подчинюсь и уйду»3.
За Корниловым, скорей всего, не стояла никакая партия, это подтверждает в своей книге и Г.З. Иоффе. Он указывает, что на одном из первых совещаний «быховских узников»4 предложение о создании корниловской партии не прошло. Было решено, что движение должно быть, с одной стороны, преемственно связано с «августовской борьбой», с другой – с «провозглашением внепартийности»5.
Таким образом, опираясь на анализ событий в период между февралем и октябрем 1917 г., достаточно полно сделанный как в работах отечественных, так и зарубежных историков, можно сделать выводы о зарождении белой идеи в определенных кругах российского общества. Ее следует связывать с возникновением в обществе оппозиционных настроений в отношении курса Временного правительства на развал страны и армии. Потерпев неудачу в попытке ввести диктатуру легальным путем в согласии с правительством и тем самым сохранить государственность России, часть общества в дальнейшем отказалась сотрудничать с законной властью. Активные участники корниловского выступления единогласно постановили продолжать борьбу с «анархией и развалом государства»6.