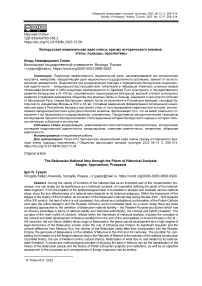Белорусская национальная идея сквозь призму исторического анализа: этапы, подходы, перспективы
Автор: Тяпин И.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Подлинная эффективность национальной идеи, рассматриваемой как историческая константа, императив, определяющий цели национально-государственного организма, зависит от ее исторической адекватности. Выделяются три конкурирующих подхода к определению белорусской национальной идентичности - западнорусистско-просоветский, литвинский и гибридный. Комплекс основных мифов литвинизма включает в себя концепции изолированного от Древней Руси культурного и государственного развития Белоруссии в XI-XIII вв., неславянского происхождения белорусов, высокой степени культурного развития и правовой демократии общества под властью Литвы и Польши, языкового и культурного отличия от Московской Руси, упадка белорусских земель после их включения в Российскую империю, геноцида белорусов по инициативе Москвы в XVII и ХХ вв. Условием завершения формирования полноценной национальной идеи в Республике Беларусь выступает отказ от конструирования параллельной истории, использования западноцентристских культурологических штампов, фетишизации того, что не имеет реального отношения к ее национально-государственному становлению. Продуктивным методологическим принципом исследования прошлого Белоруссии может стать выделение истории белорусского народа и истории польско-литовских субъектов и институтов.
Модернизация, цивилизационно-геополитическое противостояние, исторические основания национальной идентичности, западнорусизм, советская идентичность, литвинство, гибридная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144745
IDR: 149144745 | УДК: 93/94(476)+165.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.28
Текст научной статьи Белорусская национальная идея сквозь призму исторического анализа: этапы, подходы, перспективы
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, ,
Национальную идею принято определять в качестве мировоззренческой системы, имеющей множество функций, таких как идентификация и ценностная ориентация социальных субъектов, групповая интеграция и снижение напряженности в обществе, его мобилизация, определение перспектив и проектов. Национальная идея стала важной частью духовного развития стран и народов – лидеров модернизации в Новое время, становления наций как субъектов истории. Затем процессы поиска национальной идентичности закономерно затронули и регионы последующих «эшелонов модернизации».
Национальная идея оказывается не только философемой, но и исторической константой, императивом, определяющим цели национально-государственного организма, задающим более или менее адекватное представление о месте страны и общества среди других, смысле их существования, исторической судьбе. Более того, национальную идею можно воспринимать как некий гносеологический идеал, воплощающий в себе знание не только об объекте, но и о социальном субъекте, его целях, стремлениях, общественных потребностях, путях преобразования мира. Объективное в национальной идее поднимается до уровня целей и стремлений субъекта, становится знанием, имеющим аксиологические основания, определяющим национальное бытие, побуждающим стремление к практической реализации общих замыслов (Крымец, 2013: 48). Именно с позиций познавательного идеала, в том числе и объективности описания и истолкования прошлого (а через это – настоящего и будущего) следует анализировать и оценивать национальную идею, сравнивать национальные идеи разных стран и народов либо же различные трактовки в рамках одной страны. Глубина и историческая достоверность содержания национальных идей могут весьма различаться, достигая в одних случаях высокой степени, в других – превращаясь в чистые социальные мифы, нередко деструктивные для самого носителя. В долгосрочной перспективе подлинная эффективность национальной идеи, выражающаяся в росте и развитии народа-носителя, реальном достижении поставленных целей, напрямую зависит от ее исторической адекватности.
В силу множества факторов, главным из которых, безусловно, выступает многовековое отсутствие самостоятельной государственности и локализация в пространстве длительного культурно-цивилизационного противостояния польско-католического и русско-православного мира, Белоруссия (Республика Беларусь) представляет собой пример относительно позднего национально-государственного строительства. Данное обстоятельство обуславливает актуальность и плюралистичность (доходящую до антагонистичности) поисков белорусской национальной идеи, результаты которых имеют значение для геополитических процессов в Евразии.
Можно выделить пять реальных этапов складывания белорусского национального самосознания и историко-культурной идентичности, в рамках которых прослеживается действие как внутренних (усилия интеллигенции), так и внешних (заинтересованность международных субъектов политики) факторов, в одних случаях противостоящих друг другу, в других – порождающих «синергетический эффект».
Первый этап (непосредственно конец XVIII – середина XIX столетия) связан с разделами Речи Посполитой и появлением так называемой концепции западнорусизма (хотя возникновение самого понятия приходится уже на 1920-е гг.), катализатором которой стал диссидентский вопрос. Еще Г. Конисский сформулировал лозунг «Отторженная возвратих» как символ возвращения России территорий Белой и Малой Руси. Епископ И. Семашко, организовавший в конце 1830-х гг. воссоединение полутора миллионов белорусско-литовских униатов с Русской православной церковью (что остановило полонизацию широких слоев белорусского общества), писал: «Неизмеримая Россия, связанная одною верою, одним языком, направляемая к благой цели одной волею, стала для меня лестным, великим отечеством, которому служить, благу которого споспешествовать считал я для себя священным долгом…»1. Наследники И. Семашко, в первую очередь М.О. Коялович, близкие по взглядам русскому славянофильству, ввели в оборот термин «Западная Россия». М.О. Коя-лович многократно использовал понятие «белорусы» в значении самобытной ветви единого русского народа, уникальность культурного феномена которых состояла, по его мнению, в том, что белорусско-литовские земли на протяжении столетий были местом столкновения католической и православной цивилизаций (отсюда его широко цитируемый тезис о Московской Руси как вооруженном ордене по защите Запада от азиатов и западной Руси – от воинствующего католицизма)
(Коялович, 2011). Таким образом, суть концепции западнорусизма выражалась в идее о развитии белорусского самосознания для укрепления связи с Россией.
Второй этап охватывает период последней трети XIX – начала ХХ в. Переходом к нему послужил разгром польского восстания 1863–1864 гг. и разворот царских властей в сторону белорусского народа как союзника в борьбе с польской гегемонией. Стоит подчеркнуть, что детерминирующим фактором здесь выступает не пропольская деятельность К. Калиновского (нередко интерпретируемая с помощью нескольких фальсификаций вроде «Писем с виселицы» и пароля «Люблю Беларусь» как борьба за независимость Белоруссии), а именно широкая поддержка российской администрацией белорусского крестьянского движения по пресечению шляхетских ди-версий1. Возникновение относительно благоприятных условий к началу ХХ в. в рамках Российской империи способствовало образованию (пусть и малочисленных) национально ориентированных белорусских кадров, взявших за основной образец быстро формирующийся украинский национализм, декларировавших желание создавать белорусскую культуру и в политическом плане постепенно склонявшихся к идее автономии. Четырьмя исходными моделями поисков национальной идентичности стали: народническая (изучение белорусской культурной традиции и выделение белорусов как третьего самостоятельного восточнославянского народа), социалистическая, этнокультурная (газета «Наша Ніва» и издательство «Загляне сонца і ў наша аконца») и, наконец, «краёвая» (создание полиэтнической нации гражданского типа) (Галкин, 2021).
В историческом плане определенную популярность в среде интеллигенции уже в 1910-е гг. набирала полунаучная концепция В.У. Ластовского о древности белорусского народа как прямых потомков кривичей, от которых произошли и остальные восточнославянские племена (Ластоўскі, 1910). Впрочем, в народной среде национальная самоидентификация проявлялась в тот период крайне слабо; доминирующими оставались социальные и конфессиональные формы национальной идентификации. Широко цитируемо утверждение Е.Ф. Карского о неиспользовании этнонима «белорус»: «Простой народ в Белоруссии не знает этого названия. На вопрос: кто ты? простолюдин отвечает: русский, а если он католик, то называет себя либо католиком, либо поляком; иногда свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он “тутэйшый” (tutejszy) – здешний…» (Карский, 1883: 116). Показательны результаты выборов в Учредительное собрание, когда белорусские национальные партии получили 0,5 % голосов избирателей, в то время, как общероссийские партии (в первую очередь – большевики и эсеры) – подавляющее большинство. Как полагает А.А. Крутиков, в то время именно идеи западнорусизма полностью соответствовали ментальности белорусского крестьянства (Крутиков, 2021: 50). В среде этнически и конфессионально неоднородной интеллигенции назревал, по утверждению Я.И. Трещенка, конфликт двух белорусских проектов: прополь-ского католического и западнорусистского2, что и обусловило возникновение в «информационном поле» белорусского национализма как реалистических, так и надуманных образов прошлого.
Третий этап составляет промежуток между двумя мировыми войнами. Начало его положили такие события и процессы, как оккупация Белоруссии кайзеровской армией, 1-й Всебелорусский съезд, провозглашение марионеточной Белорусской Народной Республики (БНР), а после установления большевистской власти – возникновение Социалистической Советской Республики Белоруссии (ССРБ) и Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (ЛБССР, Лит-бел). Последующий за тем период «коренизации» в Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) (нередко насильственной из-за того, что создатели белорусской нормы стремились отдалить ее от русского литературного стандарта, при этом отказываясь и от народной речи в пользу польских заимствований), трактуемый ныне как классовая политика большевиков по привлечению крестьянских масс (Колода, 2022), имел для культурного развития республики противоречивые последствия. Именно тогда в белорусском историческом сознании возник методологический феномен «воображаемых идентичностей» («белорусская шляхта», средневековые «белорусские города», «древне- / старобелорусский язык» и т.п.). Получили доминирование исторические концепции М.В. Довнар-Запольского (Довнар-Запольский, 1909) и В.М. Игнатовского (Ігнатоўскі, 1991) о древней белорусской государственности в рамках Полоцкого и Турово-Пин-ского княжеств, затем – Великого княжества Литовского (теория относительно мягкого завоевания и защиты Литвой белорусских земель) с расширением этнической базы формирования белорусов (кривичи, радимичи, дреговичи и «балтский субстрат»). Западнорусизм, оказавшийся в целом в маргинальном положении, использовался советской властью только в периоды обострений отношений с Польшей (приграничные конфликты в первой половине 1920-х гг., присоединение Западной Белоруссии к территории БССР).
Косвенным негативным последствием практики коренизации стало появление в годы нацистской оккупации феномена белорусского коллаборационизма, хотя и имевшего преимущественно внешние источники и кадры (Ф. Акинчиц, В. Козловский, Р. Островский и др.). Инспирированная В. Кубе пропаганда фиктивной антисоветской «белорусизации» включала два направления: идею «возрождения» национальной белорусской культуры, языка, развития национального самосознания, а также идею близости белорусского этноса к культурно-историческому пространству Европы и Германии, неразрывной связи исторической судьбы Белоруссии с «Новой Европой» (Мамаева, Пушкаренко, 2021: 85).
Четвертый этап (от окончания Великой Отечественной войны до «перестройки», то есть время превращения Белоруссии в развитую в экономическом, культурном и научном плане республику – члена Организации Объединенных Наций (ООН)) характеризуется неуклонным смягчением языковой политики, развитием национальной литературы и искусства в контексте классической русской и советской культуры, выделением в качестве ключевого момента национального сознания белорусов победы над фашизмом и утверждением трактовки белорусской историко-культурной идентичности в соответствии с общей для того времени концепцией «древнерусской народности». Становление белорусского этноса объяснялось консолидацией восточнославянского населения на западе Руси в результате развития торговых связей, роста производительных сил (для развития данной концепции значение имели работы крупных советских медиевистов – С.А. Токарева (1958), В.В. Седова (1994), В.Т. Пашуто (1950)). При этом Великое княжество Литовское воспринималось все же как политическая организация литовского народа. Данной концепции белорусской истории было присуще положение о негативном экономическом и культурном воздействии Люблинской (1569) и Брестской (1596) уний на развитие белорусских земель и положение белорусского народа, под которым подразумевались в основном православные крестьяне и мещане, закономерным следствием чего стало антифеодальное движение против социального, национального и религиозного гнета (Белозорович, 2020: 76–77). Основным противоречием официальной концепции (вытекающей из установок советской идеологии на патриотизм и одновременно классовый интернационализм) можно считать оценку периода нахождения белорусских земель в составе Российской империи: утверждение о стремлении белорусского народа к воссоединению с Россией, о прогрессивном влиянии этого процесса на развитие региона сочеталось с идеализацией Т. Костюшко, К. Калиновского и им подобных фигур, изображаемых в качестве революционных борцов за освобождение угнетенных народных масс.
Начало пятого – незавершившегося к настоящему времени – этапа приходится на рубеж 1980-х – 1990-х гг. и выступает частью общего экспоненциального роста националистических настроений в союзных и автономных республиках. Уже в первые годы независимости Республики Беларусь можно констатировать противоборство как на государственном уровне, так и в рамках сознания гражданского общества двух полярных направлений в трактовке национальной идеи (выработанных на предыдущих этапах), а спустя несколько лет – возникновение в качестве следствия противоборства еще и третьего, нередко именуемого в библиографии как «гибридный», или «дуалистический» (Лавшук, 2022; Шаншиева, 2014).
Первая версия национальной идеи в независимой Белоруссии, оформившаяся как протестная реакция на «неокоренизацию», устроенную Белорусским народным фронтом, по сути, представляет собой парадигмальный синтез западнорусизма XIX в. (народная психология и христианские ценности) и советской самоидентификации (без прямых марксистских идеологем). Такой подход, нашедший поддержку у государства во второй половине 1990-х и начале 2000-х гг. (в тот период белорусский президент заявил: «Общество не может существовать без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государство без идеологии, как человек без мысли, не может жить, развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам и вызовам»1), обеспечил уход темы белорусской идентичности от узкой партийной и этнической направленности. В историческом плане разработанный такими учеными, как Я.И. Трещенок2, А.Д. Гронский (2019), А.Ю. Бендин (2006), В.Н. Черепица (2013) и др., он предполагает объективный взгляд на историческое прошлое, сохранение русскоязычия и устоявшегося набора ценностей (патриотизм, семья, созидательный труд, баланс интересов личности и общества, партнерство власти и народа) в рамках идеала социальной гармонии. Концептуальной доминантой данной модели служит неоднократно озвученный А.Г. Лукашенко лозунг: «Белорус – это русский со знаком качества»3, а институциональными основами – сильное, но не коррумпированное государство, реальная этикоюридическая ответственность управляющих структур, экономический протекционизм.
Параллельно с утверждением западнорусистско-просоветской идентичности усилиями так называемой белорусской оппозиции шли активные процессы детализации и пропаганды доктрины антирусско-европейской идентичности на базе соединения идеологически утрированных наработок периода коренизации с преобладающими западноцентристскими цивилизационными схемами, обретшей форму литвинства.
Сама концепция литвинства (литвинизма), основанная на трактовке названия «литвин» только в качестве этнонима, отдельного от «литовец», а не политонима, опирается на идеи белорусской историографии периода коренизации. К примеру, М.В. Довнар-Запольский утверждал, что название «литвин» впервые появилось в Черной Руси – области наиболее тесных контактов славянского и балтского элементов, а затем распространилось на более широкую территорию (Довнар-Запольский, 1909); И.Ю. Лёсик (председатель Рады БНР) в начале 1920-х гг. прямо выделил схему «Литва – Беларусь». Однако в действительности в исторических документах понятия «литвин» и «литовец» не разделялись, а слово «литвин» часто встречалось рядом с этнонимом «русин» как обозначение не совпадающей с ним группы населения. Только когда дело касалось межгосударственных отношений, все жители Великого княжества Литовского (ВКЛ) становились литвинами.
Сделав ставку на сознательное неразличение смысловых вариантов слова «литвин», адепты литвинизма формулируют вывод об отсутствии у белорусов какой-либо русской основы и пытаются усилить его «генетическими аргументами», прежде всего выводя происхождение белорусов от ят-вягов. Несмотря на широкую пропаганду, это мнение не выдерживает ни исторической критики (ят-вяжская территория занимала лишь часть Гродненской области), ни сравнения с данными расовой антропологии (Восточные славяне. Антропология и этническая история …, 2002) и популяционной генетики (Белорусы: этногенез и связь с другими славянскими народами …, 2013: 60).
Концепция полоцких истоков белорусской государственности в данном подходе трансформируется в доктрину об изолированном существовании всех будущих белорусских земель от остальных русских княжеств. Литовские князья объявляются белорусами, несмотря на то, что от Миндовга до Витовта подавляющее их большинство носило балтские имена, являлось язычниками, а в середине XIV в. государство было разделено на славянскую и балтскую части, чтобы упростить управление разнородными регионами. Строить свою государственность на наследии полоцких Рюриковичей литовские князья не стремились.
Миф о Белоруссии как культурном центре ВКЛ основан на вынужденном использовании бесписьменными литовцами-язычниками русского языка в качестве языка делопроизводства. Однако принятие определенных культурных навыков и практик не привело к ассимиляции; православная культура так и не стала господствующей. После Кревской (1385) и Городельской (1413) уний, поражений православной партии (войны Ягайло с Андреем Полоцким, а позже Сигизмунда Кейстуто-вича со Свидригайло) права православного населения стали неуклонно сокращаться, что привело к массовым переходам западнорусской знати под крыло Москвы. Превратившись из полуязыческой страны в католическую, ВКЛ существует в русле польской культуры и государственности (язык, система должностей, административное деление, образцы права, социальная структура).
Продолжением мифа о белорусском культурном ядре ВКЛ становится миф о «золотом веке» с XV до середины XVII столетия, полноценном белорусском Возрождении, для чего гипертрофируется несколько событийных и биографических фактов (например, открытие схоластического Виленского университета, книгопечатание Ф. Скорины). В действительности урбанизация белорусских земель до XVI в. шла довольно медленно; основная масса русского православного населения жила как бы вне государства, уходя от него в труднодоступные места. Так, выступающие для сторонников «национального подхода» к истории в качестве знаковых фигур С. Будный и В. Тяпинский фиксировали падение роли русского языка на своей родине («езыка своего славного занедбанне»). Попытки создания литературного западнорусского языка и издание некоторое время книг на нем произошли не благодаря, а вопреки вдохновляемой Ватиканом феодально-католической реакции.
Откровенно ненаучные спекуляции на теме «ордынской сущности» политической системы Русского государства, крепостного права (которое на белорусских землях фактически оформилось несколькими десятилетиями ранее, чем в российских), понятий свободы и деспотизма призваны поддерживать миф о демократии и высокой правовой культуре в ВКЛ и Речи Посполитой. Фетишизация литовских статутов XVI в., защищавших права шляхетства, и особенно дарования растянувшегося на два с половиной столетия (с конца XIV до середины XVII в., а в редких случаях – даже XVIII в.) городам бывшей Черной и Белой Руси средневекового Магдебургского права, предназначенного со временем только для горожан-католиков, выражавшего интересы купеческой верхушки, стоявшего ниже законодательства централизованных государств, изображается как современная система демократии, утерянная после разделов Польши (в действительности замена феодального права-привилегии на российское новоевропейское законодательство была прогрессивным актом), нахождение Белоруссии в эфемерном «едином культурном и правовом пространстве с Европой».
Еще одним мифом, значение которого по политическим мотивам все более усиливается, стало изображение конфликтов России с ВКЛ и Польшей как цивилизационных войн белорусов с «финско-татарскими варварами / кочевниками» за защиту высокой европейской культуры и гуманистических ценностей. Из десятков сражений и сотен событий выбраны несколько малозначительных, но подходящих фальсификаторам по результатам, которым искусственно пытаются придать едва ли не всемирно-историческое значение. Чаще всего используются темы битвы под Оршей 1514 г. (тактическое поражение русской армии, не повлиявшее на исход русско-литовской войны), а также уничтожения в результате заговора городской верхушки и польских военнопленных русского гарнизона в Могилеве в 1661 г. (ныне выдаваемого за всенародное восстание). На материале квазинаучной работы Г.Н. Сагановича (Саганович, 1995) активно культивируется сфальсифицированная доктрина о «московском геноциде» белорусов в ходе войны 1654–1667 гг., хотя действительными причинами значительного уменьшения численности населения за это время стали эпидемия чумы, несколько неурожайных лет, подавление войсками Речи Посполитой антишляхет-ского белорусского народного восстания, миграции в Россию и земли «Короны»1.
Применительно к периоду Российской империи (Минское и Виленское генерал-губернаторства) активно используется миф о белорусском национальном характере шляхетских восстаний, а также освободительном значении для белорусов нашествия Наполеона, применительно к истории СССР – продолжается поддержка мифов об истреблении большевиками большей части белорусской интеллигенции и «Куропатах» (уничтожение нацистами австрийских, чешских, польских и западноукраинских/«карпатских» евреев выдается за расстрелы Народным комиссариатом внутренних дел СССР (НКВД) 250 тыс. белорусов).
Главным выводом при использовании всего комплекса названных мифов становится утверждение о потере Белоруссией возможности стать густонаселенной страной и центром европейского промышленного и культурного развития в результате вовлечения в пространство российской государственности. Это в свою очередь выступает платформой для внедрения в массовое сознание утопии о будущем белорусском процветании после вхождения в военные и политические структуры Запада.
Постепенное разочарование в перспективах союзной интеграции, произошедшее на фоне экономических вызовов и различия взглядов белорусских и российских властей на темпы и направления дальнейшего развития союзного государства, подтолкнуло руководство Белоруссии к «многовекторной» исторической политике. Конец 2000-х гг. и второе десятилетие XXI в. в Белоруссии можно охарактеризовать как последовательный дрейф в сторону «мягкого национализма» (затормозившийся лишь в связи с событиями августа 2020 г.). Соответственно, магистральным подходом становится гибридный (дуалистический) вариант национальной идентичности, включающей поддержку памяти о Великой Отечественной войне, сохранение базовой государственной символики советского периода, ограниченную критику польского экспансионизма, признание важности сохранения экономического и культурного потенциала, накопленного в советский период, но интегрировавший в почти нетронутом виде доктрину литвинства. Распространение в научных публикациях и учебной литературе идеи о Великом княжестве Литовском как о «колыбели» белорусской нации и особой белорусской цивилизации по мере смены поколений привело к существенным изменениям в общественном сознании и национальной самоидентификации. Вслед за этим пришла пора официального культивирования процессов, событий и имен литвинской мифологии (памятники литовским князьям и польским «борцам за свободу белорусов», экспозиция «народного восстания» в Могилевском краеведческом музее и т.п.).
Однако, будучи внутренне противоречивым, данный вариант закономерно не смог стать основой полноценной национальной идеи. Примечательно, что в своем выступлении в Минском государственном университете (октябрь 2013 г.) А.Г. Лукашенко, говоря о том, что «наша национальная идея – это мир, согласие, взаимовыручка в нашей большой общей семье, имя которой – белорусский народ», «привычка жить своим трудом на своей земле», «добросердечие ко всем, кто живет рядом с нами и кто приходит к нам с миром», в то же время заметил, что национальная идея на теоретическом уровне в Белоруссии так и не была сформулирована2. Приверженцы умеренного подхода (В.А. Мельник (2007), И.И. Шишковец (2019) и др.), отдающие отчет в том, что «стоит только белорусам примкнуть к западному цивилизационному сообществу, как их тут же станут самым беспардонным образом “оцивилизовывать”» (Мельник, 2007: 182), в основном ограничиваются декларированием понятий, обладающих положительной коннотацией. Так, по мнению И.И. Шишковца, «белорусскую национальную идею можно определить в качестве систематизированного и устойчивого ко времени обобщения самосознания белорусского народа, смысла и высшей ценности его бытия, исторического стремления к свободе, белорусской государственности и независимости Беларуси, укреплению исторической памяти, национально-культурной идентичности, гражданской ответственности за будущее страны, любви к “роднаму куту”, своей Родине» (Шишковец, 2019: 86). Однако реальная степень этой систематизированности относительно невысока, ибо не содержит непротиворечивого набора исторических символов идентичности.
Таким образом, очевидным преимуществом в плане рациональной обоснованности и исторической достоверности выступает западнорусистско-просоветский вариант поисков белорусской национальной идеи, предполагающий органичное соединение программы модернизации с традиционной системой ценностей. Тотальная историческая фальсифицированность литвин-ства, в нынешнем виде представляющего собой подгонку фактов под готовые схемы атлантист-ской геополитики, хотя и претендует на научность, но не выдерживает объективного анализа. Внутренняя противоречивость гибридного, так сказать, лайт-литвинского, варианта вряд ли может быть устранена, а потому не имеет долгосрочных перспектив в условиях ужесточения геополитического противостояния.
Осмысление исторического прошлого доказывает, что поиск белорусской идеи, основанный на культурном отделении от Русского мира, тем более на противопоставлении России, некорректен как в теоретическом, так и практическом плане. Необходимым условием завершения формирования полноценной национальной идеи в Республике Беларусь выступает обращение к обширным теоретическим наработкам философии русской идеи (что никак не угрожает белорусскому экономическому и политическому суверенитету), отказ от искусственного конструирования параллельной истории, использования западноцентристских культурологических штампов, фетишизации того, что не имеет реального отношения к ее национально-государственному становлению. Продуктивным методологическим принципом исследования прошлого Белоруссии может стать выделение истории белорусского народа и истории польско-литовских субъектов и институтов, а также объективная оценка процессов и последствий иностранной экспансии на территорию будущей Белоруссии.
Список литературы Белорусская национальная идея сквозь призму исторического анализа: этапы, подходы, перспективы
- Белозорович В.А. Разработка концепции истории Беларуси в 1960-е - начале 1970-х гг. // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 1. История и археология. Философия. Политология. 2020. Т. 12, № 3. С. 74-81.
- Белорусы: этногенез и связь с другими славянскими народами / И. Рожанский [и др.] // Наука и инновации. 2013. № 3 (121). С. 55-62.
- Бендин А.Ю. Исторический поиск Беларуси // Проблемы этнической идентификации белорусов 60-х гг. XIX - начала XX в. в современной историографии. Минск, 2006. С. 8-35.
- Восточные славяне. Антропология и этническая история / под ред. Т.И. Алексеевой. М., 2002. 342 с.
- Галкин О.А. Белорусская национальная идея и вопросы народного единства: уроки истории // Культура Беларуси: реалии современности. Минск, 2021. С. 11-17.
- Гронский А.Д. Белорусский исторический миф о Полоцком княжестве. Культурологический журнал. 2019. № 2 (36). С. 1-11. URL: http://cr-journal.ru/rus/joumals/473.html&j_id=39 (дата обращения: 06.12.2023)
- Довнар-Запольский М.В. Белорусское прошлое // Исследования и статьи. Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская письменность. Киев, 1909. С. 317-345.
- Карский Е.Ф. Белорусы: в 3 т. Варшава, 1903. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. 466 с.
- Колода С.А. Советская политика «коренизации» и ее влияние на языковую ситуацию в Беларуси // Мир русскоговорящих стран. 2022. № 1 (11). С. 23-45. https://doi.org/10.20323/2658-7866-2022-1-11-23-45.
- Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. М., 2011. 349 с.
- Крутиков А.А. Концепции истории Белоруссии. I. От западнорусизма к национальным мифам и постсоветскому прагматизму // Перспективы. Электронный журнал. 2021. № 4/1 (24/25). С. 36-65. https://doi.org/10.32726/2411-3417-2021-1-36-65.
- Крымец Л.В. Национальная идея в контексте глобализации: методологический анализ // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 8. С. 47-50.
- Лавшук О.А. Гибридная идентичность и национальная самоидентификация (на материале русскоязычной литературы Беларуси) // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А.А. Кулешова 2021 г. Могилев, 2022. С. 15-17.
- Ластоусю В.Ю. Кароткая псторыя Беларуси з 40 рысункамк Вильня, 1910. IV, 104 с. (на белорус. яз.).
- Мамаева Т.П., Пушкаренко Е.А. Белорусская национальная идея как инструмент немецкой пропаганды на территории генерального округа Беларусь // Вестник Брянского государственного университета. 2021. № 4 (50). С. 80-88. https://doi. org/10.22281 /2413-9912-2021 -05-04-80-88.
- Мельник В.А. Белорусская национальная идея: политологический аспект // Проблемы управления (Минск). 2007. № 1 (22). С. 176-184.
- Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. 327 с.
- Саганович Г.М. Невядомая вайна, 1654-1667. МЫск, 1995. 144 с. (на белорус. яз.) Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994. 343 с.
- Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. М., 1958. 615 с.
- Черепица В.Н. Гродненский исторический калейдоскоп: очерки истории, историографии и источниковедения. Гродно, 2013. 471 с.
- Шаншиева Л.Н. Дуализм белорусской идентичности // Европеизм и национализм в странах Восточной Европы. М., 2014. С. 7-26.
- Шишковец И.И. О белорусской национальной идее // Труды БГТУ. Серия 6: История. Философия. 2019. № 1 (221). С. 84-87.