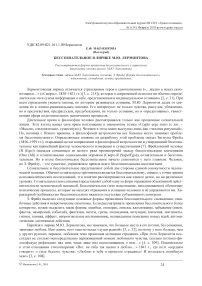Бессознательное в лирике М.Ю. Лермонтова
Автор: Манаенкова Елена Федоровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются формы проявления бессознательного в лирическом творчестве «поэта мысли» М.Ю. Лермонтова.
Лирика м.ю. лермонтова, сознание, з. фрейд, формы бессознательного, вдохновение, сновидения, мечты, предвидение
Короткий адрес: https://sciup.org/14822652
IDR: 14822652 | УДК: 82.09:821.161.1.09Лермонто6
Текст научной статьи Бессознательное в лирике М.Ю. Лермонтова
Длительное время в философии человек рассматривался только как проявление сознательной жизни. Этот взгляд нашел свое яркое воплощение в знаменитом тезисе «Cogito ergo sum» (с лат. – «Мыслю, следовательно, существую»). Человек в этом плане выступал лишь как «человек разумный». Но, начиная с Нового времени, в философской антропологии все большее место занимает проблема бессознательного. Определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал Зигмунд Фрейд (1856–1939 гг.), открывший целое направление в философской антропологии и утвердивший бессознательное как важнейший фактор человеческого измерения и существования [7]. Фрейдовский человек (Я (Ego)) оказался сотканным из целого ряда противоречий между биологическими влечениями (Оно (Id)) и сознательными социальными нормами (Сверх-Я (SuperEgo)), сознательным и бессознательным. Но в итоге биологическое бессознательное начало становится у него главным. Человек, по З. Фрейду, – это существо, управляемое прежде всего бессознательными инстинктами.
Сознательное и бессознательное представляют собой две стороны единой совокупности человеческой психики. Обычно сознательное противопоставляется бессознательному, однако, с точки зрения психоаналитических исследований, эти понятия рассматриваются как единое целое, но на различных уровнях. Сознательное (или сознание) представляет собой одну из форм отражения объективной действительности человеческой психикой. Бессознательное (или подсознание, неосознаваемое) обозначает психические процессы, которые не находят отражения в сознании человека и не управляются им. Характерной особенностью бессознательного является отсутствие субъективного контроля.
З. Фрейд выделил следующие основные формы проявления бессознательного: сновидения, ошибочные действия и невротические симптомы. Если рассматривать проявления бессознательного более конкретно, можно выделить такие формы: ошибки, оговорки, описки, вдохновение, забывание (имен, фактов, намерений, событий), фантазии, мечты, грезы, сновидения, интуиция, влечения, инстинкты, гипноз, паника, аффект, непроизвольное воспоминание, неожиданное появление новых идей, автоматические, спонтанные действия.
Перейдя к лирике М.Ю. Лермонтова, мы замечаем, что большое место в его поэзии, без сомнения, занимает любовь. Всю жизнь поэт тщетно искал «души родной» [3, с. 52], поэтому у него больше, чем у других русских лириков, любовная тема пронизана мотивами страдания. «При этом Лермонтов воссоздает не столько непосредственно переживаемый момент любовного чувства, сколько поэтико-философскую рефлексию над ним, чаще даже над воспоминанием о нем…» [4, с. 309]. Показательно в этом отношении стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 1841 г., где поэт «сердцем говорит» о силе былого чувства: «Люблю в тебе я прошлое страданье/ И молодость погибшую мою» [3, с. 108].
Обратимся к стихотворению М.Ю. Лермонтова «К*» («Я не унижусь пред тобою») 1832 г. Как известно, оно было посвящено Наталье Федоровне Ивановой, в которую тогда был влюблен молодой поэт. В произведении речь идет о неразделенной любви, об измене девушки, не оценившей возвышенные чувства лирического героя, т. е. самого автора. Казалось бы, поэт совершенно справедливо упрекает любимую в том, что она не была честна с ним: «Не знав коварную измену, / Тебе я душу отдавал…» [3, с. 283]. Может показаться, что стихотворение полностью подчинено сознательному началу: поэт оскорблен и обманут, он разочарован и зол. Однако смысловой акцент отнесен не любви и не любимой, а любящему «Я». Таким образом, в центре лирического монолога остается осадок торжествующего, а главное, бессознательного эгоизма: «Я горд! – прости – люби другого…»; «Я не соделаюсь рабом»; «Я был готов на смерть и муку…» [Там же].
Это торжество эгоизма чувствуется и там, где оно не имеется в виду, главное здесь – не отвергнутая любовь, а отношение к ней лирического героя. Подобное проявление бессознательного начала содержится в большом количестве ранних стихотворений М.Ю. Лермонтова о любви. Уже в зрелой любовной лирике поэт вслед за А.С. Пушкиным совершит новый шаг в стремлении запечатлеть образ женщины, ее душевное состояние, ее внутренний мир. В ходе лирических размышлений о любви на первый план выступит героиня с ее поразительной душевной чистотой и беззащитностью перед «миром холодным» [Там же, с. 422] («Молитва», 1837 г.; «Она поет…», 1837–1838 гг.; «Отчего», 1840 г. и т. д.).
В рассматриваемом стихотворении среди упреков, брошенных коварной возлюбленной, содержится следующий: «Как знать, быть может, те мгновенья, / Что протекли у ног твоих, / Я отнимал у вдохновенья!» [Там же, с. 283]. Что такое вдохновение? Первое неоспоримое утверждение – без вдохновения нет озарений, нет поэзии, нет выдающихся полотен у художников, нет литературных шедевров. Второе – вдохновение – редкий гость в психической жизни человека. Третье – вдохновение спонтанно и не может родиться по заказу.
Говоря о вдохновении, нельзя не вспомнить лермонтовское стихотворение «Поэт» 1828 г. Согласно новелле «Видение Рафаэля» [1], которая послужила непосредственным источником стихотворения, художник пытался воспроизвести на полотне преследовавший его образ мадонны. И сумел сделать это лишь в состоянии творческого экстаза, когда перед ним воочию явилась Богородица. Вдохновение, или способность полного самораскрытия в творческом акте, при всей своей самопроизвольности бывает результатом предварительного напряженного труда. В стихотворении «Встреча» (из Шиллера) 1829 г. имеются аналогичные рассуждения М.Ю. Лермонтова о феномене поэтического творчества:
Я звук нашел дотоле неизвестный,
Я мыслей чистую излил струю.
Душе от чувств высоких стало тесно…
В ней вспыхнули забытые виденья,
И страсти юные, и вдохновенья [3, с. 142].
Тем не менее вдохновение относится к категории бессознательного. В стихотворении «К*» М.Ю. Лермонтов размышляет о потерянном времени, которое он мог отдать творческому вдохновению. Поэт понимает это, следовательно, он сознательно размышляет о бессознательном.
Следующая категория бессознательного, нашедшая отражение в лирике М.Ю. Лермонтова, – это сновидения. Мотив сна и связанных с ним представлений является одним из основных в творчестве М.Ю. Лермонтова [4, с. 304]. В стихотворениях «Ночь. I», «Ночь. II», «Ночь. III», «Сон» 1830–1831 гг., «Казачья колыбельная песня» 1838 г., «Сон» 1841 г. тема сна является ведущей. Сон оказывает большое влияние на психику человека. Пока сосуды и мышцы отдыхают, с психикой происходят сложные процессы. Подсознание берет власть над сознанием и демонстрирует нам различные образы [5, с. 44].
В основе стихотворения «Сон» 1830–1831 гг. лежит сновидение, которое явилось лирическому герою: «Я видел сон: прохладный гаснул день…» [3, с. 207]. Молодую деву, грустную и печальную, поэт видит « как последний сон /Души, на небо призванной…» [3, с. 207]. Возможно, это мать Лермонтова. А ребенок, сидящий у ее ног? Не является ли это стихотворение печалью о матери? «…судьбы завет, / Мученье, заботы многих лет, / Болезнь души… » [Там же], – разве это не то, что мучило поэта? Может быть, поэт видел причину своей «грусти ранней» [Там же, с. 239] в раннем сиротстве? Образы, пришедшие во сне, помогают многое осознать.
Издавна во всем мире младенцам перед засыпанием пели колыбельные песни, тем самым навевая ребенку добрые, спокойные сны. Еще древние знали, что сны могут повлиять на дальнейшую жизнь человека. В зависимости от того, что именно нам снится, иногда меняются наши поступки и мысли. Наше бессознательное влияет на нашу реальную жизнь. В стихотворении «Казачья колыбельная песня» мать рассказывает маленькому сыну о его будущей опасной жизни, «бранном житье» [Там же, с. 59], но просит его пока сладко спать: «Спи ж, пока забот не знаешь, / Баюшки-баю» [Там же, с. 60]. Во сне каждый из нас может стать творцом, способным создать свой собственный мир, нередко воплощающийся в реальности. В таком случае сновидение является пророческим.
Именно таким пророчеством для М.Ю. Лермонтова стало стихотворение «Сон» 1841 г., написанное незадолго до роковой дуэли. В.С. Соловьев дал ставшую классической интерпретацию этого стихотворения: «Лермонтов видел … не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна, – сновидение в кубе» [6, с. 339]. В самом деле, в этом стихотворении три сна. Во-первых, сон лирического героя, который видел себя умирающим, лежащим на песке долины в горах Кавказа. Казалось бы, ничего необычного, но спустя три месяца после того, как это стихотворение было записано в тетради М.Ю. Лермонтова, поэт действительно был смертельно ранен в грудь, действительно лежал на песке с открытой раной, и действительно «уступы скал теснилися кругом» [3, с. 103].
Во-вторых, это сон умирающего лирического героя стихотворения. Он видит и себя, лежащего на песке, и свой сон: «И снился мне сияющий огнями / Вечерний пир в родимой стороне» [Там же]. Заканчивается стихотворение сном героини о смерти героя:
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей [Там же].
Следовательно, поэт не только предчувствовал свою смерть, но и видел ее заранее. Мотив сна о собственной смерти М.Ю. Лермонтовым разрабатывался еще в ранней лирике, например, в стихотворениях «Ночь. I» («Я зрел во сне, что будто умер я…» [Там же, с. 151]), «Смерть» 1831 г. («Ласкаемый цветущими мечтами, / Я тихо спал, и вдруг я пробудился, / Но пробужденье тоже было сон…/ Казалось мне, что смерть дыханьем хладным / Уж начинала кровь мою студить…» [Там же, с. 214–215]). О «пророческой тоске» [Там же, с. 51] своей преждевременной кровавой смерти Лермонтов писал и в стихотворении 1837 г. «Не смейся над моей пророческой тоскою»: «…наста-нет час кровавый, / И я паду…» [Там же]. Очевидно, что великий поэт обладал даром предвидения. Он предчувствовал и даже в подробностях представлял свою реальную смерть. Описания участников той страшной дуэли 15 июля 1841 г. и некоторые строки стихотворения практически совпадают.
Нередко лирические герои М.Ю. Лермонтова, находящиеся в состоянии душевного разлада, уходят в мир мечты. Вот только небольшая подборка по теме: «…погружая мысль в какой-то смутный сон…» («Когда волнуется желтеющая нива…», 1837 г.) [Там же, с. 48]; «И если как-нибудь на миг удастся мне / Забыться…» («Как часто, пестрою толпою окружен…», 1840 г.) [Там же, с. 71]; «И в грустный сон душа ее младая / Бог знает чем была погружена» («Сон», 1841 г.) [Там же, с. 103]; «Таинственным я занят разговором…» («Нет, не тебя так пылко я люблю…», 1841 г.) [Там же, с. 109]; «Я б хотел забыться и заснуть!» («Выхожу один я на дорогу…», 1841 г.) [Там же] и др. Уход «лермонтовского человека» в иллюзорный мир мечты – форма проявления бессознательного – помогает вытеснить реальное тревожное чувство: «Тогда смиряется души моей тревога» [Там же, с. 48]. Лиричес- кий герой стихотворения «Выхожу один я на дорогу…» не просто жаждет покоя («Я ищу свободы и покоя!» [3, с. 109]), он мечтает о внутренней гармонии, подобно той, что «сладким голосом» [Там же, с. 110] разлита во Вселенной.
В произведениях многих русских поэтов можно найти пророческие слова, которые касаются не только их судьбы, но и будущего целых государств. Сохранилось немало фактов, указывающих на наличие у М.Ю. Лермонтова дара предвидения. Он и сам этого не отрицал: «С тех пор как вечный судия / Мне дал всеведенье пророка...» [Там же, с. 111]. Управлять сознательно способностью сверхчувственного, внеопытного восприятия невозможно. То, что мы называем даром предвидения, напрямую связано с понятием бессознательного.
Одно из стихотворений М.Ю. Лермонтова, датируемое 1830 г., так и называется – «Предсказание». Поэт сумел предвидеть, как сложится судьба его страны. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что стихотворение оказалось пророческим, и автор с точностью до мелочей описал в нем события 1917 г.
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет…
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон [Там же, с. 178].
Юный поэт утверждает, что для России год революции будет черным. И далее развивает свою мысль о том, что «пища многих будет смерть и кровь…» [3].
Таким образом, бессознательное в лирике М.Ю. Лермонтова занимает значительное место, во многом определяя своеобразие его дарования. Лирика Лермонтова, отражающая глубокую и противоречивую личность автора, может расцениваться как ценнейший материал для выявления роли сознательного и бессознательного начал в творчестве.
Список литературы Бессознательное в лирике М.Ю. Лермонтова
- Ваккенродер В.Г. Об искусстве и художниках: Размышления отшельника, любителя изящного/изд. Л. Тикком. М.: Тип. С. Селивановский, 1826.
- Знаков В.В., Павлюченко Е.А. Самопознание субъекта//Психологический журнал. Т. 23. №1. 2002 (янв.-февр.). С. 31-41.
- Лермонтов М.Ю. Сочинения: в 4-х т. М.: Правда, 1986. Т. 1.
- Лермонтовская энциклопедия/гл. ред. В.А. Мануйлов. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
- Семикина Ю.Г. Особенности и функции онейрологических мотивов в женской прозе конца XX-начала XXI вв.//Грани познания: электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ. 2015. № 9 (43). С. 43-48. . URL: http://grani.vspu.ru/jurnal/48 (дата обращения: 20.10.2017).
- Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991.
- Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений. М.: Просвещение, 1989.