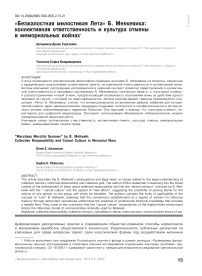«Безжалостная милостивая лета» Б. Мелкевика: коллективная ответственность и культура отмены в мемориальных войнах
Автор: Артамонов Д. С., Тихонова С. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (12), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящается рассмотрению философско-правовых взглядов Б. Мелкевика на вопросы, связанные с юридическим осмыслением коллективной памяти, исторической ответственности и коллективной вины. Авторы вписывают рассуждения исследователя в широкий контекст развития представлений о коллективной ответственности и связывают критикуемую Б. Мелкевиком ≪этическую память≫ с ≪культурой отмены≫ и распространением ≪новой этики≫, предполагающей возможность возложения вины за действия одного человека на группу, с которой он идентифицируется. Авторы рассматривают границы применимости концепции ≪Леты≫ Б. Мелкевика, считая, что конвенциональное установление режима забвения для исторической памяти через демократические процедуры подрывает экспертность профессионального исторического знания, обеспечивающего надежное Прошлое. Они приходят к выводу, что ≪культура отмены≫, характерная для цифровой медиасреды, блокирует используемую Мелкевиком хабермасовскую модель коммуникативной рациональности.
Коллективная ответственность, коллективная память, культура отмены, мемориальные войны, коммуникативная теория права
Короткий адрес: https://sciup.org/14124548
IDR: 14124548 | DOI: 10.22394/2686-7834-2022-2-15-21
Текст научной статьи «Безжалостная милостивая лета» Б. Мелкевика: коллективная ответственность и культура отмены в мемориальных войнах
Цифровизация дискурсивных практик в современном обществе изменила способы нормогенеза и механизмов выработки общественного консенсуса. Рациональность публичных дискуссий по ключевым для права вопросам теряет свои классические формы под воздействием механики
СТАТЬИ
постправды, понимаемой как система легитимации в социальных сетях. Наиболее лабильными оказываются образы Прошлого, используемые как геополитическими субъектами, так и социальными группами мезоуровня для конструирования социально-политических идентичностей. Прошлое становится ключевым ресурсом мемориальных войн, что инициирует эволюцию мемориальных войн в цифровой среде. В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть специфику современной философско-правовой рефлексии, направленной на проблемы этического и правового регулирования исторической памяти, учитывая вызовы сетевого мира. Интернет-коммуникация в социальных сетях сделала привычными этические механизмы контроля общественного мнения, основанные на цифровой трансформации форм остракизма. Интернет изначально представлял собой серую зону, ускользающую от воздействия права. Поэтому его этические нормы, сформированные в условиях пробельности национального права, слабо применимого к транснациональному миру социальных сетей, постепенно стали противостоять национальному праву, выдвигая идеи, которые крайне сложно интегрировать в современный юснатурализм. К ним относятся коллективная ответственность и коллективная вина.
Коллективная ответственность подразумевает ситуацию, когда за действия одного или нескольких членов неопределенной по численности группы несут ответственность не совершившие действия, а вся группа целиком. Это может касаться семьи, рода, хозяйственного, трудового, военного, учебного коллектива, жителей города, страны, нации в целом. Ответственность выражается в наказании, возложении обязанностей, а иногда и поощрении, в коллективном случае касающихся не только причастных к какому-либо действию, а имеющих отношение к людям, его совершившим, в самом широком понимании, вплоть до национальной идентификации.
Происхождение коллективной ответственности связано с политической и юридической практикой управления родовыми общинами, когда сюзерен рассматривал подчиненные ему сообщества как единое целое, объединенное общими представлениями о моральных нормах и мироздании. Сообщества отвечали за поступки своего сородича или члена общины в силу не только кровных уз, но и из-за совместного проживания. Человек в общинном мире не мог выжить без коллектива, поэтому все свои действия он соизмерял с его потребностями, правилами, моральными и ценностными нормами. Если совершенные им преступные поступки не были осуждены общиной и он не понес наказание, значит, весь коллектив поддерживает его действия и должен разделить с ним их последствия. Например, в Древнерусском государстве коллективную ответственность использовали князья как инструмент защиты политических интересов господствующих социальных групп. Свод законов Ярослава Мудрого «Русская Правда» предполагал ответственность для всей общины, на территории которой совершено преступление, если не был найден виновник, а князь Мстислав в 1069 г. учинил расправу над жителями города Киева в ответ на восстание, разграбление княжеского дворца и изгнание его отца Изяслава. Наказанию подверглись не только виновные, но и случайные люди, жители города, которых массово казнили и ослепляли1.
В настоящее время идея коллективной ответственности воспринимается негативно, так как противоречит презумпции невиновности и возложению вины за деяния на непричастных к ним лиц. Между тем не только в истории, но и в современной повседневности можно встретить ее бытование в самых различных формах2. Сегодня концепция корпоративной социальной ответственности подразумевает ответственность всего коллектива корпорации за неспособность достичь поставленных перед компанией целей, вне зависимости от усилий и результатов деятельности отдельных работников и подразделений. В сфере культуры и моральных норм все больше набирает популярность идея культуры отмены (cancel culture), предполагающая осуждение и остракизм не только отдельных личностей, но и целых групп за наличие определенной позиции. В юриспруденции понятие коллективной материальной ответственности фиксируется в хозяйственно-экономической сфере, в частности в трудовом праве. В религии коллективная ответственность как архаическая норма присутствует в Ветхом Завете3.
В политической сфере мы можем найти массу примеров применения на практике коллективной ответственности к восприятию различных конфликтов. В период Гражданской войны в России данный принцип проводился в жизнь в форме террора и взятия заложников для устрашения населения и превентивных мер для пресечения неповиновения и возможного сопротивления. В годы Второй мировой войны нацистская Германия применяла коллективную ответственность на захваченных территориях, массово карая местных жителей за помощь человеку еврейской национальности, убийство немецкого солдата, за диверсию партизан, вне зависимости от того, кто совершил данные деяния. Обратный пример — возложение вины за нацистские преступления на этнических немцев после окончания войны и эксцессы, связанные с насилием против немецкого населения в Центральной и Восточной Европе. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. запрещает репрессии против гражданских лиц и взятие заложников, что является юридическим противодействием принципу коллективной ответственности, применяемому в ходе войн. Коллективное наказание практикуется не только в ситуации войны, но и экономических санкций, которые предполагают наличие коллективной вины у стран, подвергнувшихся им. Сегодня экономическим санкциям подвергнуты Россия, Иран, Северная Корея, Афганистан, Ливан и др., эти действия осуществляются либо с одобрения Организации Объединенных Наций (ООН), либо по инициативе отдельных государств по отношению к другим государствам с целью изменения их внутренней или внешней политики4.
СТАТЬИ
Идея коллективной ответственности в современном обществе актуализируется как ответ на кризис моральной индивидуальной ответственности и представляет собой вариант нового этического проекта, основанного на применении неких фильтров, призванных урегулировать научно-техническое развитие нравственными ценностями. Возможность принятия коллективной ответственности уменьшает степень ответственности индивидуальной, которая провоцируется безответственным поведением и потребительской культурой массового общества. Как отметил В. Хесле, «…угрызе-ния совести индивида стихают, если он принимает участие в действиях, за которые не несет единоличной ответственности»5. В то же время коллективная ответственность воспринимается как «нечестная система нравственного вменения», так как она элиминирует личностный аспект, хотя только личность, являясь центром морального поступка, может нести ответственность за определенные действия6.
Особую актуальность проблематика коллективной ответственности принимает в связи с дискуссиями о формах ее реализации. Так как концепт коллективной ответственности конструируется в качестве этического конструкта, следовательно, привлечение к такой ответственности должно осуществляться в первую очередь в этической плоскости. Способом соединения реальных негативных последствий и этического осуждения стала «культура отмены», использующая социальное давление как метод воздействия на инакомыслящих. Отмена означает прекращение поддержки социального субъекта-индивида (чаще всего речь идет об известных людях, но известность — не принципиальное условие) или общности людей (чаще всего — компаний). Трансляция вербальных сообщений наказывается бойкотом всех форм социальной коммуникации, доступных «виновному», направленным на то, чтобы вытеснить его из социальных и профессиональных сообществ, если он не продемонстрирует публичный отказ и покаяние. При этом его реальное согласие с общественным осуждением в качестве цели не ставится, достаточно, чтобы он прекратил их декларацию. Поэтому «культуру отмены» можно рассматривать как форму цензурной практики и аналог самосуда, хотя известны случаи, когда те, кого «отменяли», получали не планировавшиеся бонусы в виде нового интереса к личности, творчеству и продуктам.
Историю «культуры отмены» возводят к разным формам социального остракизма, начиная с его афинского варианта. Однако ее появление связывают с началом второго десятилетия XXI в.: «В 2010-х существовали блоги в Tumblr наподобие Your Fave is Problematic, авторы которых собирали информацию о неоднозначных событиях, высказываниях и поступках звезд. Именно это стало фундаментом для появления современной “культуры отмены”. Выражение to cancel стало трендовым после того, как на реалити-шоу “Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк” участница проекта заявила своему парню, что он отменен. Совсем скоро фразу стали использовать по отношению к звездам и брендам, чье поведение или заявление пользователи осуждали»7. Далее эта практика активно использовалась движениями #MeToo, #ЯНеБоюсьСказать и #BLM, «отменялись» актеры,
СТАТЬИ
режиссеры, телеведущие, блогеры. Во многом «культура отмены» является видом социальной реакции на снижение эффективности классических способов правового регулирования свободы слова в медиасреде, невозможность быстрого восстановления социальной справедливости юридическими средствами там, где речь идет о защите доброго имени и деловой репутации в условиях распространенности практик клеветы, фейка, диффамации и троллинга. Как правило, «отмена» включается тогда, когда речь идет о поддержке дискриминации меньшинств (демонстрация сексизма, расизма, антисемитизма и прочих видов ксенофобии), независимо от того, действительно ли можно юридически квалифицировать высказывания субъекта в качестве «поддерживающих».
П. Норрис, показывая диаметральность позиций научной оценки «культуры отмены», отмечает, что первая поляризуется, разделяя исследователей на тех, кто считает, что этот феномен блокирует общественные дискуссии и тем самым пагубно влияет на свободу слова, и тех, кто интерпретирует ее позитивно, как новую форму присвоения права голоса маргинализированными субъектами, лишенными возможностей реализовать это право в традиционных формах8. Однако культуру отмены исследователи всё чаще трактуют в негативном ключе — например, в исследовании К. Л. Кука и соавторов она определяется как «новый катализатор цифровой ненависти, наблюдаемый на различных медиаплатформах, когда большие группы людей публично критикуют действия жертвы и отказываются от поддержки этой жертвы, что приводит к серьезным последствиям для их средств к существованию и благополучию»9. Принципиальное отличие «культуры отмены» как феномена новой этики — ее принципиальная ретроспективность. «Отмена» не знает срока давности и может начать действие по любому резонансному поводу. Также она не предполагает принципа соразмерности и градации общественной опасности: оскорбления, диффамация, профессиональные и прочие потери, которым подвергаются и которые несут «отмененные», крайне редко могут укладываться в рамки эквивалентности причиненным их действиями морального вреда.
Коллективная память сегодня все больше сталкивается с проблемой коллективной ответственности, обусловленной распространением «культуры отмены». Она часто становится объектом законодательства, и появляются соответствующие исследования. Однако изучение памяти с точки зрения права является редкостью. К числу таких исследований относится работа Б. Мелкевика «Роль Леты. О праве и памяти»10. Она ставит ряд крайне актуальных вопросов, ответить на которые современным обществам придется в ближайшее время. Эта философско-правовая работа, весьма поэтичная по форме, предоставляет демократии право определять, что помнить, а что забывать. Б. Мелкевик говорит о том, что память дает человеку и обществу возможность жить, и в этом плане справедливо утверждение «жить — значит помнить». Но парадокс, отмечаемый правоведом, заключается в том, что только забвение позволяет жить бесконфликтно, миролюбиво и счастливо. Демократия позволяет забывать, и эту работу демократии у Мелкевика символизирует Лета, тогда как авторитарные режимы памяти он связывает с символом Мнемосины. Мнемосина дает человеку память, и он в ранге полубога или сверхчеловека имеет возможность навязывать свою память другим. Сложно отрицать, что сегодня мы действительно сталкиваемся с двумя режимами памяти. С одной стороны, мы видим, как проведение исторической политики памяти навязывает конкретную модель памяти в условиях мемориальных конфронтаций, то есть память становится все более и более авторитарной; с другой — как мы показали в своем исследовании «Историческая память в социальных медиа», вопросы о том, что помнить, а что забывать, сегодня решаются умными толпами в рамках весьма демократических процессов11. Мелкевик разделяет понятия «память» и «коллективное прошлое». Для него память — строго индивидуальна, воспоминания могут быть у каждого свои. Такой подход не выдерживает критики, поскольку теория memory studies убедительно показала существование общих коллективных воспоминаний, которые формируются в процессе коммуникации, в пространстве культуры при помощи медиа (в самом широком смысле).
Вопрос о памяти у Мелкевика — это, прежде всего, этический вопрос, связанный с так называемым долгом памяти, который навязывается обществом. Он может быть переформулирован следующим образом: должны ли современники нести ответственность за преступления предков? Сегодня мы видим, как современным белым американцам навязывается чувство вины за то, что их предки владели чернокожими рабами, или за истребление коренного населения Америки. Такие элементы технологии конструирования коллективной идентичности были обкатаны в послевоенной Германии, где их использовали как новый связующий элемент в консолидации нации. В итоге важной чертой идентичности Германии является раскаяние за преступления нацистов. Признание Холокоста самым страшным преступлением ХХ в. и коллективное раскаяние в нем стало объединяющим нарративом Европейского союза. Признание вины предполагает наделение другой стороны статусом жертвы. В логике метамодерна, сочетающего несочетаемое, в Германии жертвой был признан сам немецкий народ, который осудил нацистских преступников на Нюрнбергском процессе. Стратегия признания может быть сведена к следующему: конкретные преступники осуждены, сам народ — не столько виновник происходивших преступлений, сколько жертва существовавшего режима.
СТАТЬИ
Другой вопрос, связанный с нашей страной: сегодня жертвами считают себя украинцы и казахи, культивирующие память о голоде на Украине и в Казахстане в 1930-е гг. Эти коллективные воспоминания являются основой их стратегий конструирования собственной нации. В этих странах ставится вопрос об ответственности современной России за события общего прошлого. Должны ли современные россияне принять на себя ответственность за это событие, сделав его частью своей коллективной судьбы? Здесь промежуточные выводы Б. Мелкевика приобретают весьма высокую актуальность. А что, если базовое для коллективной идентичности событие — ложное, если его не было и оно составляет ложную память? Этот вопрос приобретает особую остроту в свете знаменитой резолюции Европарламента 2019 г. о возложении вины за начало Второй мировой войны не только на Германию, но и на СССР12. В ответ на попытки возложить на Россию вину за события прошлого Президент РФ Владимир Путин и российские медиа, которые выступают значимыми акторами формирования коллективного прошлого, следуют логике Мелкевика и оценивают вменяемые события как ложные и сфальсифицированные13. Такая контроценка, безусловно, является рабочим инструментом политики памяти, но она не способствует диалогу и решению противоречий и только обостряет мемориальные войны. Чтобы выйти из подобных тупиков, Мел-кевик переводит вопрос о ложности событий из эпистемологической плоскости в плоскость этики и дает ему новую формулировку: «Насколько вообще этично возлагать на потомков ответственность за любые действия предков?»14 Он полагает, что вопросы памяти должны решаться на основе гласности, любые преступления должны быть раскрыты и проговорены через публичное обсуждение. Необходимо это для того, чтобы обвиняемые потомки могли выразить свое сочувствие тем, кто считает себя жертвами и разделить с ними их ужас и горе. Замалчивание или отрицание травмирующих событий блокирует сочувствие, поскольку нельзя сочувствовать тому, чего не было. Для Мелкевика такая гласность служит формой превенции преступлений. По его мнению, память не должна быть этической привилегией, она должна быть открыта изменениям. Никаких обязательств и долженствований этического характера в сфере памяти не существует. Иначе говоря, он выводит память из плоскости этики и отрицает любую ее этизацию. Для него гласность нужна демократии именно потому, что демократия должна похоронить прошлое для политической и юридической современности. «Именно современность может предстать в лучшем свете и устремиться в будущее, не повторяя ошибок прошлого, если мы это прошлое забудем»15. Только проблема в том, что никакого будущего как социального проекта для современной цивилизации нет, кроме масскультного тренда на постапокалиптику, чем и объясняется усиленный интерес всех западных государств и России к пересмотру Прошлого.
Подводя итоги нашего анализа, отметим, что рассуждения Б. Мелкевика во многом детерминированы концепцией коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, в которой выработка базовых правовых норм контролируется этикой дискурса, имеющей процедурный характер, то есть дискурс служит «коммуникативным судом»16.
Модель Хабермаса феноменологична.
СТАТЬИ
Во-первых, она ориентирована на разделение общего опыта интерсубъективности, основа которой и позволяет концептуализировать норму в демократических процедурах. На первый взгляд, коллективная память опирается на интерсубъективный опыт, однако память сама по себе — крайне ненадежный источник данных. «Надежное прошлое» формируется не голосами памяти, а исторической наукой, основанной на рациональной работе со следами прошлого — историческими источниками. Разумеется, историческая наука не способна ответить на все вопросы о том, «как было на самом деле». Но конвенциональное утверждение исторической правды закладывает под консенсус мину замедленного действия — любое вдумчивое обращение к следам подорвет не связанные с ними и противоречащие им картины минувших событий. Вопросы экспертной оценки принципиально неразрешаемы демократическими процедурами.
Во-вторых, модель Хабермаса в принципе диалогична, и любой обрыв коммуникации в духе «культуры отмены» не позволит ее реализовать.
Таким образом, попытка философско-правового осмысления проблем, порождаемых трансформацией исторической памяти в цифровой среде, предпринятая Б. Мелкевиком, выходит за рамки классического правопонимания. Развитие процессов конструирования представлений о прошлом в социальных медиа обуславливает применение коммуникационного подхода для понимания этических и правовых вопросов, возникающих в современных сообществах. Идеи Б. Мелкевика об этизации памяти, высказанные в рамках коммуникативного права, являются своевременными и позволяют объяснить особенности политик памяти, проводимых в цифровой среде. Однако переход от них к классическим типам правопонимания все еще остается делом будущего.
Список литературы «Безжалостная милостивая лета» Б. Мелкевика: коллективная ответственность и культура отмены в мемориальных войнах
- Зиновьев Н. С. Культура отмены как аспект общественного дискурса. Студенческая наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей II Международной научно-практической конференции, Пенза, 10 июня 2021 г. Пенза: Наука и просвещение, 2021. С. 270-273.
- Мелкевик Б. Заметки по истории правовых понятий. СПб.: Издательский дом «Алеф-Пресс», 2018. 255 с.
- Мелкевик Б. Юрген Хабермас и коммуникативная теория права. СПб. 2018. 95 с.
- Платонова А. В. На пути к концепции коллективной ответственности: проблемы и перспективы. Вестник Томского государственного педагогического университета, 2013. № 5 (133). С. 120-134.
- Прокофьев А. В. О возможностях реабилитации идеи коллективной ответственности. Вопросы философии, 2004. № 7. С. 73-85.
- Савченко Д. А. Коллективная ответственность в Древнерусском государстве (XI-XIII века). Теоретико-прикладные аспекты формирования института уголовного преследования юридических лиц: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Новосибирск, 19 февраля 2015 г. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы (СибАГС), 2015. С. 189-196.
- Тихонова С. В., Артамонов Д. С. Историческая память в социальных медиа. СПб.: Алетейя, 2021. 264 с.
- Токарева С. Б. Коллективная и личная ответственность в обществе. Власть, 2012. № 3. С. 44-48.
- Хесле В. Философия и экология. М.: Наука, 1993. 205 с.
- Fletcher G. P. Collective Guilt and Collective Punishment. Theoretical Inquiries in Law, 2004. № 5 (1). P. 163-178.
- Ng, E. No Grand Pronouncements Here: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation. Television & New Media, 2020. Vol. 21. № 6. P. 621-627.
- Whose Agenda is it Anyway: an Exploration of Cancel Culture and Political Affiliation in the United States / C. L. Cook [et al.] // SN Social Sciences, 2021. Vol. 1. № 9. P. 237.