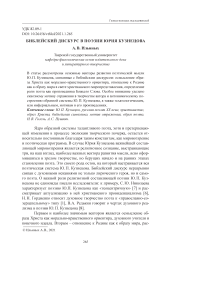Библейский дискурс в поэзии Юрия Кузнецова
Автор: Ильиных Анастасия Витальевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные векторы развития поэтической мысли Ю.П. Кузнецова, связанные с библейским дискурсом: осмысление образа Христа как морально-нравственного ориентира, отношение к Родине как к образу мира в свете христианского миропредставления, определение роли поэта как проповедника Божьего Слова. Особое внимание уделено сквозному мотиву отражения в творчестве автора и антонимическому построению образной системы Ю.П. Кузнецова, а также эсхатологическим, или инфернальным, мотивам в его произведениях.
Ю.п. кузнецов, русская поэзия xx века, христианство, образ христа, библейская символика, мотив отражения, образ поэта, н.в. гоголь, а.с. пушкин
Короткий адрес: https://sciup.org/146282248
IDR: 146282248 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.265
Текст научной статьи Библейский дискурс в поэзии Юрия Кузнецова
Ядро образной системы талантливого поэта, хотя и претерпевающей изменения в процессе эволюции творческого почерка, остается относительно постоянным благодаря таким константам, как мировоззрение и поэтическая программа. В случае Юрия Кузнецова важнейшей составляющей мировоззрения является религиозное сознание, выстраивающие три, на наш взгляд, наиболее важных вектора развития мысли, ясно оформившихся в зрелом творчестве, но берущих начало и на ранних этапах становления поэта. Это своего рода остов, на который настраивается вся поэтическая система Ю. П. Кузнецова. Библейский дискурс неразрывно связан с духовными исканиями не только лирического героя, но и самого поэта. О важной роли религиозной составляющей поэзии Ю. П. Кузнецова не единожды писали исследователи: к примеру, С. Ю. Николаева характеризует поэзию Ю.П. Кузнецова как «теоцентричную» [7] и рассматривает актуализацию в ней христианского провиденциализма [6], Н. Н. Гордиенко относит духовное творчество поэта к «православно-созерцательному» типу [1], В.А. Редькин говорит о чертах духовного реализма в поэзии Ю. П. Кузнецова [8].
Первым и наиболее значимым вектором является осмысление образа Христа как морально-нравственного ориентира, духовного учителя и конечного идеа ла. Вторым – отношение к Родине как к образу мира, рас
смотрение России и ее исторического пути в свете библейского дискурса. Третий вектор совмещает в себе идеи первых двух – поиск своего места в мире, своего предназначения, осознание роли поэта в судьбе Родины, его духовное становление и осмысление сущности творчества. И хотя творчество Ю. П. Кузнецова нельзя строго ограничить лишь этими тремя направлениями, на наш взгляд, они являются наиболее ярко выраженными.
В 1967 году Ю. П. Кузнецов впервые знакомится с Евангелием, а в 1980-е начинает обращаться и к святоотеческой литературе. Постепенная эволюция образов и тем, связанных с рассматриваемыми направлениями, прослеживается уже в ранних стихотворениях поэта, несмотря на то, что осмысление их с непосредственно религиозной точки зрения еще отсутствует. Стоит заметить, что для некоторых ранних стихотворений характерна более поздняя доработка, имеющая отношение к введение религиозного мотива. К примеру, в стихотворении «Муравей» строка «Я не знаю превратного счастья» заменена на «Я не знаю ни бога, ни счастья»; аналогична ситуация в другом произведении: «Я брошен под луну, как под копыто, / На золотых дорогах красоты. / Назад нельзя! Ведь столько лет убито…» – впоследствии публиковалось как «Я брошен под луну, как под копыто, / За то, что с богом говорил на “ты”». / Но бога нет, и столько лет убито…» [4, т. 2, с. 53] В контексте рассмотрения эволюции библейских мотивов в творчестве Ю. П. Кузнецова эти моменты весьма показательны.
Отметим, что с содержательной точки зрения религиозные мотивы в творчестве поэта заслоняют один из постоянных концептов раннего творчества поэта – пустоту («В пустоте», «Снег», «Сын» (из рукописи), «После смерти, когда обращаться…» и др.). Экзистенциальные искания юного лирического героя приводят его к ужасающей пустоте, ждущей повсюду, не только мир кажется до боли пустым – и сам человек в итоге оказывается ничем, лишь пустым местом. И выход из убийственной тоски и «всемирной пустоты» он находит в трех указанных векторах: христианской вере, Родине и своем поэтическом предназначении. Пустоту лирический герой видит связанной с сатанинским началом: «Тут сатана, его расчёт холодный: / Заставить нас по нашей простоте / Стирать черты из памяти народной / И кланяться безликой пустоте» [Там же, т. 4, с. 302]. Однако, на наш взгляд, для поэзии Ю. П. Кузнецова в целом характерно формирование стойких антонимических пар ( орел – змея, родное – чужое, тьма – свет, солнце – луна ), и часто мы можем наблюдать своеобразное раздвоение одного и того же явления или предмета, так и пустота дихотомически раздваивается, это уже две пустоты, две бездны: Бог («Великий Ноль») и сатана (ничто). Это явление напрямую соотносится со сквозным мотивом отражения и подмены в творчестве Ю. П. Кузнецова, о чем мы еще будем говорить в рамках данной статьи.
С Христом связаны наиболее масштабные творческие искания Ю.П. Кузнецова, в частности, создание трилогии «Путь Христа» и различные стихотворения. По признанию самого поэта, стихотворением, в котором впервые смутно обозначился «образ распятого Бога», стало «Всё сошлось в этой жизни и стихло» [5, с. 163], написанное еще в годы учебы в литинституте. Непосредственно библейский мотив еще не оформлен и лишь с визуальной точки зрения навевает ассоциации с распятой фигурой (отпечаток воздетых рук и лица на стекле).
В 1970 году Ю. П. Кузнецов уже более явно использует христианский образ «одного страдальца» в стихотворении «Когда-то людям путь на небеса», впоследствии, как и многие мотивы и образы в творчестве поэта, разработанный в других произведениях («Детство Христа»). Здесь Христос уже характеризован в одной из важнейших ипостасей – как учитель. «Ладони» (1981) схожи мотивами со «Все сошлось в этой жизни и стихло…», хотя и более отчетливы в отношении используемых образов. В этом стихотворении мы снова встречаем мотив «отпечатывания» («И дышу на ладони / Проступают на них два лица»), а лирический герой косвенно вновь уподобляется фигуре Христа.
В 1987 году Ю. П. Кузнецов пишет знаковое стихотворение «Портрет Учителя», в котором впервые со всей полнотой и выразительностью очерчивается образ Спасителя: подробно описаны его внешность и нрав (ему не свойственны противоречия, он молвит нерадивым ученикам «сурово») и данные им заветы («Не мысли другому того, / Чего не желаешь себе», «истина в любви»).
Примерно в это же время начинает оформляться образ антипода Христа («Число», «Рождение зверя», «Последнее искушение», «Сновидение в ночь на Рождество»): если «…родился Господь при сиянье огромном», то мать антихриста «шестьсот шестьдесят шесть раз смолой… прожигала тьма», прежде чем она «мессию… выблевала на свет» [4, т. 4, с. 352]. Как видно из «Последнего искушения», антихрист – «отражение» Христа, искажение и оборачивание наизнанку светлого образа Спасителя, второй компонент антонимической пары. Примечателен характерный для поэзии так же своеобразно «разложившийся» на противоположные значения образ сетей: сети земные и сети небесные («евангельские сети»), которые расставляют «ловцы» душ – это, конечно, Христос («ловец человеков – Христос») и антихрист, что в ипостаси «ловца» появляется в стихотворении «Ловля русалки», где в сказочном образе полудевы-полурыбы представлена Россия («Мирно дышат зубчатые жабры Кремля») во времена политических потрясений. «Великий ловец», который явился «как тень из грядущего дня», смущает русалку «словечком» (не Словом!) «свобода» (что в позднем творчестве приобретает ярко выраженные негативные коннотации, для сравнения:
«Нет порядка, есть ложь и свобода» [Там же, т. 5, с. 24]). Антихрист, повторимся, искаженное отражение Христа, он «все движенья <Христа> повторял, / Но другой половиною тела». Многогранный образ зеркала/ отражения усложняется и тем, что присутствует в мире, куда ни брось взгляд: это и привычное бытовое зеркало, и отражение на глади вод, и даже отражение в «темных-темных зрачках глаз» Богоматери. Но отражение отражением и остается, это лишь призрак, хоть и способный влиять на положение вещей через верящих в него людей; он существует и нет одновременно («Антихрист близко, / Хотя его и не видать», «И где он сейчас – Бог весть. / Но мир изменился за столько лет… – / Так значит, Антихрист здесь!», «Ты не зря на свой призрак похож, / На Антихриста царства земного»). Как говорил сам поэт: «А призраки – это святым искушение. Призраки – зло. Его вроде и нету, мы завороженно слушаем, а зло – проникает в нас, искушает, засасывает в небытие» [5, с. 292]. По ту сторону зеркала – небытие, и зазеркалье Ю. П. Кузнецова часто предстает как мир инфернальный [7; 9], однако стоит также заметить, что встречается использование этого образа и в положительном контексте, к примеру в стихотворении «Русский ангел», которое мы затронем ниже.
Все столь долго развивавшиеся и находившие опору образы и мотивы вылились в одно из последних программных стихотворений Ю. П. Кузнецова, посвященных Христу, «Полюбите живого Христа», и самую масштабную работу «Путь Христа». Как заметил сам поэт: «Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики. В живого Христа верили наши предки, даже в начале XX века. Сейчас верят не в Христа, а в абстракцию, как верили большевики в коммунистическую утопию» [5, с. 350].
Второе направление развития религиозной мысли связано с понятием Родины. Уже в самых ранних стихотворениях Родина выходит для поэта на первый план как отцом оставленное наследство («Со страны начинаюсь»), на основе которого формируется дихотомическая пара «родное – чужое».
Судьба России осмысляется через призму христианской символики. Пространство славянской Родины-земли вбирает в себя целый мир для лирического героя: «Над головою небесная рать / Клонит земные хоругви свои, / Клонит во имя добра и любви. / А под ногами темней и темней / Клонится, клонится царство теней» [4, т. 4, с. 49]. На просторе Родины, осененном древом жизни, происходит вечный бой добра и зла: Как родился Господь при сиянье огромном, Пуповину зарыли на Севере тёмном.
На том месте высокое древо взошло, Во все стороны Севера стало светло.
И Господь возлюбил непонятной любовью Русь святую, политую божеской кровью. Запах крови учуял противник любви И на землю погнал легионы свои.
Я увидел, всё древо усеяли бесы
И, кривляясь, галдели про чёрные мессы.
На ветвях ликовало вселенское зло:
– Наше царство пришло! Наше царство пришло!
[Там же, с. 320]
И если Родина для Ю. П. Кузнецова – образ Вселенной, то Москва метонимически передает образ Родины, не случайно ноги лирического героя «В рай идут через Красную площадь» [Там же, с. 336], а в стихотворении «Рука Москвы» герой на собственный вопрос отвечает: «Что в глубине твоей, Россия, / Что в кулаке твоём, Москва? <…> Когда кулак твой разожмётся, / А на ладони – Божий храм» [Там же, т. 5, с. 198].
Сам поэт говорил: «…я нигде, ни в каком русском городе не могу, кроме Москвы, жить, ибо в Москве сосредоточена духовная жизнь. Да, сейчас в ней очень много безобразия скопилось. Но это другая тема. <…> Русский поэт должен жить в Москве» [5, с. 342].
Родина, где «сияет образ Пригвождённого» [4, т. 4, с. 318], оказывается под напором зазеркальных инфернальных сил. Царящее в более позднем творчестве Ю. П. Кузнецова настроение приближающейся катастрофы и преобладание апокалиптических мотивов [3; 9] выливается в повсеместные картины заброшенного, разоренного храма, «ада над нами» (одноименное стихотворение), ощущения близкого Судного дня.
Но присутствует и луч надежды. Образ храма как олицетворение сердца Родины выходит на первый план. Мотив отражения выливается в создание двух стихотворений: «Свечи в заброшенной часовне» и «Преображенного храма». Эти произведения, подобно истинному предмету и его отражению, продолжают тему искажения истины инфернальными силами в творчестве Ю. П. Кузнецова, где, без сомнений, «Преображенный храм» свидетельствует о благом и реальном, а «Свеча в заброшенной часовне» – о темном и инфернальном, призрачном. Образы последнего словно вывернутые наизнанку образы благости и истинной реальности: пространство «за синим лесом, за горами» из более позднего «Преображенного храма» здесь «глухомань», вместо «толпы» верующих – одинокий, «хвативший первача» мужик, а вместо атмосферы веселья и радости – тишина и строгость ангелов, наказывающих мужику «уйти и молчать». Причина такого очевидна: свеча в заброшенной часовне «молится за сатану». Однако стоит принять во внимание главного наблюдателя действия. Можно ли вообще считать подобное инфернальное видение сколь-нибудь правдивым, если свидетелем его становится пьяный человек? Это скорее морок, порождение единичного замутненного сознания, один из тех самых «призраков», о которых говорил поэт.
В «Преображенном храме» отражена основная константа благого бытия русского человека – соборность. Не случайно картина преображения происходит в людном храме и сияние свечи «в каждом сердце отдается». Единение поэт противопоставляет индивидуализму и одинокому бесконечному самолюбованию (отсюда и сквозной в поэзии Ю. П. Кузнецова образ зеркала – инструмента искажения через «всматривание» в себя, самокопания). Так и светлое будущее Родины поэт видит лишь в случае духовного единения народа на почве православия.
Третье осевое направление – осмысление места поэта в мире и сущности творчества.
Образ художника слова в творчестве Ю. П. Кузнецова не ограничивается мотивами осмысления непосредственно собственной судьбы, но также выражен в посвящениях знакомым поэтам и в поэтических произведениях о классиках; в рамках данной статьи обратим внимание на сопутствующие тому характеристики с точки зрения библейского дискурса. Судьба поэта и его предназначение, по Кузнецову, неотделимы от его роли как носителя светлого начала, художника Божьего Слова, и потому творческий человек, идущий извилистым путем и не чурающийся «чертовщины» в своем творчестве, осуждается Ю. П. Кузнецовым. В этом плане наиболее показательно изображение поэтом Гоголя. В 1978 году Кузнецов посвятил писателю стихотворение «Тайна Гоголя», в котором возникает образ спустившейся с неба лестницы, перекликающийся с лестницей («лествицей» из апокрифа) из сна ветхозаветного Иакова (Быт 28: 12–16). Однако если видение Иакова символизирует надежду и предвестие сошествия Христа на Землю, а также связь между миром земным и небесным (по лестнице спускаются и поднимаются ангелы), то видение Гоголя скорее инфернально и несколько гротескно-комично: «вперяясь очами во тьму», писатель тщетно ждал «небесного знака», ему привиделась картина спустившейся с неба лестницы, и «он ловил ее долго рукой»; однако на небо писателю мешают забраться окружившие его «кувшинные рыла» – частые персонажи в его прозе, – которые начинают дразнить Гоголя аллюзиями к его собственным произведениям. Ю. П. Кузнецов использовал литературный и биографический материал, чтобы метафорически отобразить основные аспекты творчества Гоголя, которые, несмотря на мастерство последнего, согласно Ю. П. Кузнецову, помешали ему стать истинно вдохновенным писателем. Эта тема в дальнейшем найдет воплощение в поэме «Сошествие в ад», где поэт недвусмысленно раскрывает «тайну Гоголя», продолжая использовать те же средства отображения: Гоголь оказывается в преисподней и, подобно Панночке, летает в гробу.
Иное отношение у поэта к Пушкину, которого он сравнивает с «русским ангелом». Характерно, что, к примеру, в одноименном стихотворении Ю. П. Кузнецов так же активно использует реминисценции, в частности к «Памятнику» и «…Вновь я посетил…», однако, в отличие от запятнанного инфернальным творческого наследия Гоголя, пушкинское несет свет, и здесь же встречаем крайне любопытную реализацию мотива отражения: «Его душа блеснёт, как зеркало, на солнце. / Всё отразит она: и небеса святые, / И солнце истины, и ангела России» [4, т. 5, с. 259]. Душа Пушкина, обращенная вовне, к миру, Родине и свету, совершенно чиста (сравним со словами послания апостола Павла: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор. 3: 18).
Поэт – человек, что «с Богом говорит» и «слово истины творит» [Там же, т. 4. с. 382]. Как отмечает Н.И. Ильинская, «синергийность творческого процесса с Создателем – то новое, что появляется в концепции творчества Ю. Кузнецова и укореняет ее в религиозно-философских основаниях русской поэзии» [2, с. 382].
Художественный мир Ю. П. Кузнецова строится на таких неразрывно связанных константах, как православная вера, Родина и собственное поэтическое предназначение, что особенно ярко оформилось в зрелом творчестве автора. Три рассмотренных направления поэтической мысли Ю. П. Кузнецова, основанных на христианской образной системе, свидетельствуют об удивительной целостности и последовательности в развитии его творческой системы.
Tver State University
Список литературы Библейский дискурс в поэзии Юрия Кузнецова
- Гордиенко Н.Н. Русская поэзия рубежа XX-XXI веков в контексте православной духовной традиции: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Н.Н. Гордиенко; Моск. гос. гум. ун-т. М., 2008. 30 с.
- Ильинская Н.И. Тема "Бог и поэт" в творчестве Юрия Кузнецова // Вiсник Днiпропетровського унiверситету iменi Альфреда Нобеля. Серiя "Фiлологiчнi науки". 2013. № 2 (6). С. 253-258.
- Казначеев С.М. Эсхатологические мотивы в поэзии Юрия Кузнецова // Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты. 2013. № 6. C. 68-72.
- Кузнецов Ю.П. Стихотворения и поэмы: в 5 т. М.: Лит. Россия, 2013.
- Кузнецов Ю.П. Тропы вечных тем: проза поэта. М.: Лит. Россия, 2015. 713 с.
- Николаева С.Ю. Христианский провиденциализм в поэзии Юрия Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. № 10. С. 58-69.
- Николаева С.Ю., Редькин В.А. Концепт "Зеркало" в поэзии Ю.П. Кузнецова и Б.Л. Пастернака. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 265-274.
- Редькин В.А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Редькин В.А. Инфернальный мир в творчестве Ю.П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. (2014). № 1. С. 73-78.