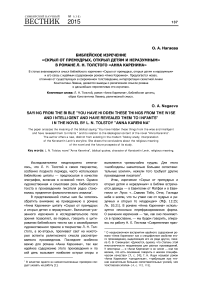Библейское изречение «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным» в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
Автор: Нагаева О.А.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется смысл библейского изречения «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным» и его связь с идейным содержанием романа «Анна Каренина». Предлагается новая, отличная от существующих в современном толстоведении, интерпретация сюжетной линии Константина Левина, делаются выводы о религиозном смысле романа и дальнейших перспективах его изучения.
Л. н. толстой, роман "анна каренина", библейские цитаты, образ константина левина, религиозный смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/14114041
IDR: 14114041
Текст научной статьи Библейское изречение «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным» в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
Исследователями неоднократно отмечалось, что Л. Н. Толстой в своем творчестве, особенно позднего периода, часто использовал библейские цитаты — предпосылая в качестве эпиграфов, включая в основной текст. Однако художественная и смысловая роль библейского текста в произведениях писателя редко становилась предметом филологического анализа 1 .
В представленной статье нам бы хотелось обратить внимание на приведенную в романе «Анна Каренина» цитату «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным». Включение указанного изречения в исследовательское поле зрения позволяет, во-первых, говорить о цитировании библейского текста как о своеобразном художественном приеме в творчестве Л. Н. Толстого, а во-вторых, проливает свет на некоторые аспекты религиозного смысла рассматриваемого произведения. Последнее особенно важно для романа «Анна Каренина», так как идейное содержание этого произведения и по сей день вызывает наиболее острые споры и выявляется чрезвычайно трудно. Для этого «необходимы значительно большие сопоставительные усилия», нежели того требуют другие произведения писателя2.
Итак, изречение «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным» в Библии встречается дважды — в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки: «…Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25; Лк. 10:21). В романе «Анна Каренина» используется несколько перефразированная форма. О значении изречения — так, как оно понимается в православии, — мы будем говорить, опираясь на работу Н. Е. Пестова «Современная прак-
2 О неоднозначном восприятии идейного содержания романа «Анна Каренина» как о специфичном свойстве этого произведения, выделяющем его из ряда других, писала О. В. Сливицкая: «Думается, однако, что степень этой многозначности неодинакова для разных произведений. У некоторых — и «Анна Каренина» в их числе — она так велика, что есть основание говорить о некоем специфическом качестве» [7, с. 34]; Г. Н. Ищук называл роман «Анна Каренина» «загадочным», «требующим при чтении значительно больших сопоставительных усилий, чем толстовская эпопея» [4, c. 112, 113].
тика православного благочестия». Она создавалась на основе «церковного вероучения» и содержит «догматические истины православия».
Одна из таких истин относится к области православной гносеологии и состоит в следующем: Бог и Его воля познаются не разумом, а «наиболее совершенным» «сердечным» способом. «Этот способ, — пишет Пестов, — открывается по благодати Божией через постоянное молитвенное общение человека с Богом. Он заключается в особенных переживаниях сердца человеческого, постигающего действие на него Божией благодати, — благости, снисхождения, всепрощения и любви. Тогда Бог становится близким сердцу, бесконечно дорогим и любимым. <…> Как пишет схиархимандрит Софроний: “Православное Богопознание не есть отвлеченное созерцание Блага, Любви и проч., не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание дается Богом через пришествие Бога в душу, и тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ, великолепен, вечен; видит Его надмирность и неизреченность”».
По мере развития в человеке Богопознания в душе его начинается и Богообщение, которому сопутствует процесс преображения души — «перерождения “внешнего” человека во “внутреннего” (или “душевного” в “духовного”), процесс метаморфозы (превращения) пороков души в христианские добродетели; процесс зарождения и развития в душе внутреннего зрения и внутреннего слуха, т. е. способности замечать и видеть свои грехи, страсти, пристрастия и недостатки. В итоге оно ведет к приобщению души к “совершенной радости” Христовой» [6, с. 45—47].
Учение о «сердечном» способе познания дополняется условным разделением на три «вида ума»: ума «инстинктивного», «занятого задачей сохранения жизни и удовлетворения потребностей тела», равносилен «хитрости», «пронырливости», ума логики и науки — «несовершенного» и «небезупречного» — и «благодатного разума», «разума души», истинной мудрости — «этот разум есть “ум Христов”, имеется в человеке лишь при сопребывании в нем Святого Духа Божия и развивается в душе по мере Его “стяжания”», т. е. в процессе Богопо-знания и Богообщения. При этом «обычный человеческий ум и благодатный разум очень часто находятся в противоречии друг с другом: повеления одного не согласуются с пожеланиями другого» [6, с. 145].
В свете вышесказанного значение интересующего нас изречения следует понимать сле- дующим образом: для человеческого ума, даже логически и научно развитого, Бог и Его воля остаются сокрытыми («скрыл от премудрых», «утаил сие от мудрых и разумных»), но постигаются сердцем, душою (открыты «детям и неразумным», «младенцам»), что ведет к перерождению собственно человеческого ума, человеческого разума или человеческой мудрости до ума благодатного, благодатного разума, Божественной мудрости.
Названные истины православного вероучения Л. Н. Толстой хорошо знал. В период создания романа «Анна Каренина» — в 70-е годы XIX века — вопросы религии, в частности православия, находились в центре внимания писателя; Библия, толкования к ней, православная литература стали его настольными книгами. Фактические доказательства тому многократно приводились биографами Толстого, и воспроизводить их здесь мы не будем. Достаточно вспомнить не единожды отмеченный исследователями факт использования писателем для выражения своих религиозных воззрений таких понятий, как «внешний» и «внутренний» человек, «ум ума» и «ум сердца», т. е. понятий, изначально существующих в православии и тесно связанных с учением о Богопознании и Богооб-щении. Поэтому было бы вполне логичным рассматривать приведенную в романе «Анна Каренина» цитату «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным» именно в том — православном — контексте, который мы указали.
К интересующему нас библейскому изречению в романе обращается один из центральных «положительных» героев Константин Левин, находясь у постели смертельно больного брата Николая. Герой сравнивает свое душевное состояние с состоянием жены Кити Щербацкой и няни Агафьи Михайловны. В чем состоит отличие?
Константин Левин с ужасом взирает на изнуренное болезнью тело брата, со страхом ждет надвигающейся смерти. «Если бы Левин теперь был один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать». Его жена и няня в схожей ситуации, напротив, не выказывали ни ужаса, ни страха болезни и смерти, а без сомнения делали свое дело — и это дело заключалось не только в том, чтобы облегчить физические страдания, оно «не имело ничего общего с физическими условиями». «…И Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего чего-то такого, более важного, чем физический уход… Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: “Что ж, слава Богу, причасти- ли, соборовали, дай Бог каждому так умереть”. Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться». Наблюдая это поведение, Левин признает, что так может действовать лишь тот, кто знает о жизни и смерти что-то такое, что ему остается неизвестным. «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным», — говорит он, под «премудрым» подразумевая себя, под «детьми и неразумными» — жену и няню [10, с. 67—70].
В данном случае Константин Левин апеллирует к библейскому тексту, скорее интуитивно — смысл его — так, как он раскрывается в православии, — для героя остается неизвестным. Ни о каком «сердечном» способе познания Бога, ни о каком преображении души и ума посредством Божьей благодати речи еще не идет. Левин всего-навсего констатирует свою беспомощность в познании тайны жизни и смерти. Однако библейская цитата, на наш взгляд, возникла здесь не только как фигура речи. Она несет в себе именно то религиозное значение, которое мы ранее указали, но характеризует не столько прозрения героя, сколько направлена в адрес религиозно образованного читателя — в качестве своеобразной подсказки: имея представление о значении цитируемого библейского текста, читатель будет подготовлен к восприятию дальнейшего повествования в нужном для автора русле. Если мы проследим логику развития сюжетной линии Константина Левина, то найдем подтверждение этой гипотезе.
После похорон брата Левин много размышляет о жизни и смерти — и ни логическим, ни научным (изучает научные труды) путем не находит решения. Ответ приходит неожиданно, когда Левин сознает, что понял слова своего работника — мужика Федора о том, что жить надо не «для брюха», а «для души», «по-Божьи», причем понял не умом, не размышлением дошел до этого, а через особое душевное переживание. Эта сцена — одна из заключительных в романе.
«Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое.
“Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? Для Бога. И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? Нашел их глупыми, неясными, неточными?
Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. <…>
Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина (в позднем творчестве Л. Н. Толстой в качестве синонимов слова «Бог» использовал слова «хозяин», «сила» — этот факт уже отмечался исследователями. — О. Н. ) <…>
Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем…” <…>
“Боже мой, благодарю тебя!”» [10, с. 377— 379].
Продолжая свои размышления, Левин приходит к выводу, что все то время, пока он искал ответ на вопрос о смысле жизни, он жил не собственной логикой (рассуждения привели его к тому, что ничего впереди, «кроме страдания, смерти и вечного забвения нет», а стало быть, жить бессмысленно), а «сердечным» знанием, которое до разговора с мужиком Федором существовало на бессознательном уровне. Свою проблему Левин формулирует как проблему недоверия ума «знанию сердца». «”Да, гордость”, — сказал он себе… И не только гордость ума, а глупость ума. А главное — плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума”» [10, с. 379].
Среди исследователей романа «Анна Каренина» существует убеждение, что обращение Константина Левина к вере в Бога основано на философской теории. Так считал в 70-е годы XIX века Ф. М. Достоевский. По его мнению, вера Левина в Бога начинается с «идеи», подсказанной ему мужиком Федором [3, с. 205]. Вслед за ним известный литературовед Д. Н. Овсянико-Куликовский предположил, что Левин «приходит к Богу» «немецким силлогизмом по Канту», заключающимся в следующем: «В человеке есть инстинкт, “категорический императив”, безошибочно направляющий человека к добру» [5, с. 85]. В современном толстоведении эту же точку зрения отстаивает А. Б. Тарасов. Он считает, что под словом «Бог» Левин понимает «безличный нравственный закон», который он чувствует в своей душе, «инстинкт добра»: «Бог оказался для него целиком распределенным по сердцам всех людей и не пребывающим вне их» [8, с. 144—145].
На наш взгляд, внимательное прочтение текста романа и сопоставление его с православным вероучением однозначно свидетельствует о том, что Л. Н. Толстой на примере своего героя описывает процесс Богопознания, совершающийся через «сердечное» откровение («Я понял силу…», «Я узнал хозяина», «Это открыто мне…», «Я знаю это сердцем»), преображающее душу («Надо жить для Бога», «Боже мой, благодарю тебя!») и ум до «благодатного разума» («Я освободился от обмана», «Гордость ума… плутовство ума»). И в этом описании автор не уходит от православного вероучения (вспомним Н. Я. Пестова: познание Бога состоит в особенных переживаниях сердца, постигающего действие на него Божией благодати, Бог становится близким сердцу; это не отвлеченное созерцание Блага, Любви и проч., оно дается Богом через пришествие Бога в душу, и тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ; Богопознанию сопутствует процесс преображения души, обретения «благодатного разума», который не согласуется с человеческим умом и логикой).
Единственное, что может вызвать вопрос исследователя, — это вывод Константина Левина об открывшемся ему знании как об уже известном, хотя и не осознаваемом, или, лучше сказать, как об отвергаемом собственным умом. Этот вывод означает то, что Бога и Божью волю герой бессознательно знал и раньше. Удерживая это предположение в уме, оглянемся на пройденный героем жизненный путь и, действительно, обнаружим, что процесс Богопознания в романе уже описывался.
Вспомним сцену встречи Константина Левина и Кити Щербацкой на катке в Зоологическом саду. Переполненный своей любовью, герой пребывает в необыкновенном состоянии. На какое-то время он теряет ощущение реальности — не узнал знакомого, который окликнул его, не сразу понял вопрос Кити о том, когда он приехал в Москву, ответив «вчера» вместо «нынче». В центре «волшебного» мира, в который переносится герой и в котором чувствует себя «умиленным и смягченным», находится Кити: он ощущает, что от нее исходит свет и тепло (сравнивает ее с «солнцем», место, на котором она стоит, называет «недоступной святыней»). Возможность быть рядом с возлюбленной наполняет его душу неописуемой радостью: «Вот это жизнь, вот это счастье!» — признается Левин сам себе; общаясь с ней, герой чувствует уверенность, прилив жизненных сил, выражающиеся в «потребности сильного движения»: «разбегаясь», он легко и «смеясь» выписывает на льду «внешние и внутренние круги». И главное — в этот момент, прежде «неверующий», с университетской скамьи материалист, Левин начинает «по-детски», «неразумно» в Бога верить: всякий раз, чувствуя, что сказал что-то не то или «огорчил» Кити, он молится: «Господи, помоги мне!», «Господи, Боже мой! помоги мне, научи меня». В произошедшем сразу после этой сцены разговоре со Стивой Облонским Левин признается, что свое чувство к Кити ощущает как кем-то вложенное в него: «Это не мое чувство, — говорит он, — а какая-то сила внешняя завладела мной». В этом же разговоре Левин вспоминает свои прошлые связи с женщинами как греховные, замечая, что в его сближении теперь, после этих связей, с «существом чистым, невинным» есть что-то «отвратительное» и непростительное. И тут же вспоминает о молитве, испрашивающей Божьего прощения: «Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию» [9, с. 31—42].
Неожиданное обращение Константина Левина к Богу, осознание собственной греховности, признание в том, что любовь к Кити ощущается как данное ему свыше чувство, исследователями романа, как правило, игнорируются. Так, например, А. Б. Тарасов воспринимает любовь героя как проявление личного желания, «слепого эгоизма» [8, с. 129—130]. В качестве исключения можно указать на работу Р. Ф. Густафсона, в которой указанные детали упомянуты, но интерпретируются как элементы поэтизации чувства Левина к Кити. Исследователь считает, что таким образом автор романа подчеркивает «платонический» характер отношений героя к возлюбленной [2, с. 143—144].
Однако, на наш взгляд, к ним следует отнестись более серьезно: любовь Левина к Щербацкой описывается в романе не просто как платоническое (и тем более не как эгоистичное), а как чувство духовное, вложенное в душу героя Богом: в этой любви ему открывается Бог (который пока — «какая-то сила»), следуя этой любви, он просит у Него помощи («Господи, помоги мне!»), впервые осознает греховность прежних любовных связей («Не по заслугам прости меня, а по милосердию»). Наше мнение подтверждает и характер испытываемых Левиным переживаний — переживаний, можно сказать, райских, блаженных: необыкновенное, «волшебное» состояние иной реальности, света и тепла, умиленности и смягченности, счастья и несравненной радости, прилива жизненной энергии и вместе с тем полной отрешенности от своего «Я» и переключения внимания на Кити.
По мере развития событий в романе чувство Левина на некоторое время замирает, хотя и продолжает жить в душе героя. После отказа Кити стать его женой Левин увлекается хозяйственными проектами до тех пор, пока к нему не приезжает брат Николай: его болезнь заставляет вспомнить о смерти и впервые ужаснуться бессмысленности своих планов. Возрождение к жизни приходит опять же через ощущение существования «какой-то внешней силы» и неожиданное обретение веры в Бога, в необходимость жить по-Божьи. В данном случае мы говорим о сцене косьбы луга, в которой Левин участвует наравне с мужиками-крестьянами. Это событие заставило героя изменить «взгляд на хозяйство» и свои планы.
Во время косьбы, совершенно забыв о своей хозяйственной деятельности, Левин был счастлив от простого физического труда и того единения с людьми, которым он сопровождался. Сначала ему было трудно косить, но постепенно, концентрируясь на самой работе, ни о чем не думая, «кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать», он начинал испытывать приятное «бессознательное состояние»: терял ощущение времени («решительно не знал, поздно или рано теперь»), не замечал, что происходит вокруг (в середине работы почувствовал «приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам», «не понимая, что это и откуда», и только во время натачиванья косы, взглянув на небо, понял, что идет «крупный дождь»). В эти «минуты забытья» «работа правильная и отчетливая делалась сама собой», «как бы по волшебству», и Левин пережил «удовольствие, которое в жизнь свою не испытывал». Он чувствовал, будто ему кто-то помогает: каждый раз «поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть», он думал, что «непременно упадет», но «он взлетал и делал, что надо», будто «какая-то внешняя сила двигала им».
В перерывах между косьбой и после нее Левин не ощущал усталости, напротив, испытывал прилив жизненных сил: от него «веяло свежестью и бодростью». Кроме того, он стал ощущать доселе не привычную ему «нежность» к окружающим людям — к старику-крестьянину, косившему рядом с ним и угостившему своей «тюрькой» — хлебом, размятым в «воде из брусницы» (Левин разговорился с ним о его
«домашних делах, принимая в них живейшее участие»), к сводному брату Сергею Ивановичу Кознышеву — известному писателю и общественному деятелю (прежде чем идти косить, Левин поспорил с ним и чувствовал раздражение, но после косьбы забыл не только о своем недовольстве, но и о содержании спора), к старой няне Агафье Михайловне, недавно вывихнувшей руку и нуждающейся в заботе.
На основе пережитого опыта Левин меняет отношение к крестьянской работе. Отправившись через несколько месяцев после косьбы в имение сестры и наблюдая за простой земледельческой работой, считающий себя «неверующим», Левин вдруг размышляет об этой работе как об осуществлении Божьего дела: «Бог дал день, Бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Эти соображения посторонние и ничтожные». С этого момента хозяйственная деятельность, направленная на получение результата, начинает вызывать у него «отвращение». Левин решает отказаться от положения крупного землевладельца и стать частицей крестьянской жизни [9, с. 262—273, 290—291].
В отличие от сцены в Зоологическом саду, сцена косьбы луга неоднократно становилась предметом исследования, и утверждение о том, что в романе провозглашается «идея святости “хлебного труда”», уже имело место в толстове-дении [1, с. 197—198; 2]. Подробно рассмотрев этот эпизод, мы еще раз убедились в том, что крестьянский труд на земле, как и любовь Левина к Кити, в романе описывается как духовное событие в жизни героя: в этом труде ему открывается Бог («какая-то внешняя сила двигала им»), этот труд он ощущает как осуществление Божьего дела («Бог дал день, Бог дал силы. И день и силы посвящены труду…»), следуя ему, словно погружается в иную реальность, испытывает блаженные чувства — несравненную радость, бодрость, нежность к окружающим, отрешается от своего «Я», переключаясь на других, осознает греховность прошедшей жизни.
Однако изменить существующее положение Левин не решается, отчасти потому, что пережитое продолжает существовать на уровне бессознательных ощущений и признаний. Герой возвращается к своим хозяйственным планам, продолжая руководствоваться материалистическими воззрениями и по-прежнему не понимая смысла жизни. Хозяйственная деятельность занимает Левина теперь только потому, что «надо же было как-то доживать жизнь, пока не пришла смерть». В его жизни наступает «темный» период: «Он во всем видел только смерть и приближение к ней». Двоюродному брату Кити Левин признается, что «веселого на свете мало» и «умирать пора». Стиве Облонскому говорит о том, что в жизни «все ничтожно», что «наш мир — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете», и все человеческие «мысли, дела» — лишь «песчинки».
Возрождение героя происходит по уже описанной нами схеме: вследствие переживаемого им «сердечного» откровения, связанного с развитием чувства к Кити Щербацкой. Случайно встретившись с ней в Москве, на обеде у Стивы Облонского, Левин чувствует, что «захлебывается от счастия, которое заливает его душу», у него словно «вырастают крылья». Первое время после встречи с ней он «живет совершенно бессознательно и чувствует себя совершенно изъятым из условий материальной жизни»: не ест один день, не спит две ночи, несколько часов проводит раздетый на морозе, но ощущает себя «свежим и здоровым, как никогда»: «двигается без усилия мышц и чувствует, что все может сделать» — «полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось». Наблюдаемые им картины обыденной жизни: голубь, мальчик, подбежавший к нему, и выставленные сайки в витрине магазина — вызывают у него «слезы умиления». В этот период Левин признает, что «счастье только в том, чтобы любить», «думать желаниями, мыслями» возлюбленной.
Испытываемое героем состояние сопровождается вдруг пробудившейся в душе нежностью и «жалостью» к встречаемым им людям: к брату Сергею Ивановичу, которому он, запахивая обеими руками воротник его шубы, признался в любви, вызвав у него «веселый смех, что с ним редко бывало», к членам земского собрания, которые казались ему, несмотря на их распри, в душе «добрыми» людьми, к гостиничному лакею Егору, рассказавшему ему историю своей жизни, которого он прежде не замечал, к знакомому «игроку» Мяскину, возвращающемуся из клуба с «мрачным» видом, с которым ему захотелось «поговорить». Но главная перемена в душевном состоянии Левина заключается в том, что жизнь приобретает для него смысл: «”Что ж, не пора умирать?” — сказал Степан Аркадьич, с умилением пожимая руку Левина. “Нннеет!” — сказал Левин».
В этот период меняется и отношение героя к христианской религии: он с удивлением обна- руживает, что религиозные истины теперь не представляются ему бессмыслицей и участие в «таинствах церкви» уже не так «тяжело», как было раньше. Сидя у окна гостиничного номера, Левин останавливает свой взгляд на «узорчатом с цепями кресте» и «треугольнике созвездия Возничего» и долго смотрит на «этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду»3. Последовавшая за этой сценой исповедь перед венчанием прошла для Левина на удивление легко. Ему не только не пришлось «лгать», но он почувствовал в словах «доброго милого» «старичка священника», который посоветовал ему в ответ на признание о сомнении в существовании Бога «молиться Богу и просить его об утверждении своей веры», «что-то такое, что нужно уяснить» [9, с. 403—420].
Продолжая анализировать свое душевное состояние во время ухаживаний за больным братом Николаем, герой отмечает, что когда он переставал думать, то «ясно» и «несомненно» ощущал присутствие в своей жизни «какой-то внешней силы», не боялся смерти, чувствовал «потребность жить и любить» [10, с. 74—75].
Во время родов Кити, став свидетелем ее мучений, Левин не пытается рассуждать — живет одной лишь любовью к ней и, не помня себя от волнения, не зная, как облегчить страдания жены, сам того не ожидая, начинает беспрестанно повторять «пришедшие на уста ему слова»: «Господи, помилуй! Прости, помоги!», «Господи, прости и помоги». К изголовью Кити он приносит «образ в серебряной золоченой ризе», «старательно засунув его за подушки». Это состояние и действие не проходит для Левина незамеченным: герой признает, что теперь, когда он «запер» все свои мысли, он не испытывал сомнений в существовании Бога, чувствовал «себя, свою душу и свою любовь» в Его руках и обращался к Нему «точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости». «…В эту минуту он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души» [10, с. 286—291].
Таким образом, к разговору с мужиком Федором, во время которого, как уже было показано выше, «знание сердца», наконец, признается и осмысляется, Константин Левин приходит подготовленным. Во-первых, у него есть опыт познания Бога и следования Божьей воле; во-вторых, к тому моменту он понимает, что «разумный» способ познания действительности несовершенен, так как не дает ответа на вопрос о смысле жизни; в-третьих, он признает, что доводы ума противоречат доводам сердца и, по-видимому, должны перестать играть главенствующую роль.
В данном случае можно с уверенностью говорить, что история Константина Левина — это история духовного развития через преображение души, а затем и ума вследствие Божьей благодати — «пришествия Бога в душу».
Напомним, что к такой интерпретации нас подтолкнула библейская цитата «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным», которая, как мы показали, служит ключом к пониманию авторского замысла и позволяет избежать многозначных трактовок. В дальнейшем представляется перспективным изучение системы образов романа «Анна Каренина» на фоне сюжетной линии Константина Левина. Это позволит говорить об общей логике произведения и его религиозном смысле.
-
1. Гродецкая А. Г. Роль предания в «Анне Карениной» // Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000.
-
2. Густафсон Р. Ф. Обитель и Чужак. Теология и художественное творчество Л. Толстого. СПб., 2003.
-
3. Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. : в 30 т. Т. 25. Л., 1983.
-
4. Ищук Г. Н. Лев Толстой. Диалог с читателем. М., 1984.
-
5. Овсянико-Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. СПб., 1908.
-
6. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия : в 2 т. Т. 1. СПб., 2002.
-
7. Сливицкая О. В. О многозначности восприятия «Анны Карениной» // Русская литература. 1990. № 3. С. 34—47.
-
8. Тарасов А. Б. «Путаница понятий» и «свет любви» в нравственных исканиях Константина Левина // Литературная учеба. 1996. № 1.
-
9. Толстой Л. Н. Полное собр. соч. : в 90 т. Т. 18. М., 1992.
-
10. Толстой Л. Н. Полное собр. соч. : в 90 т. Т. 19. М., 1992.
Список литературы Библейское изречение «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным» в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
- Гродецкая А. Г Роль предания в «Анне Карениной»//Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000.
- Густафсон Р. Ф. Обитель и Чужак. Теология и художественное творчество Л. Толстого. СПб., 2003.
- Достоевский Ф. М. Полное собр. соч.: в 30 т. Т. 25. Л., 1983.
- Ищук Г. Н. Лев Толстой. Диалог с читателем. М., 1984.
- Овсянико-Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. СПб., 1908.
- Пестов Н. Е Современная практика православного благочестия: в 2 т. Т. 1. СПб., 2002.
- Сливицкая О. В. О многозначности восприятия «Анны Карениной»//Русская литература. 1990. № 3. С. 34-47.
- Тарасов А. Б. «Путаница понятий» и «свет любви» в нравственных исканиях Константина Левина//Литературная учеба. 1996. № 1.
- Толстой Л. Н Полное собр. соч.: в 90 т. Т. 18. М., 1992.
- Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: в 90 т. Т. 19. М., 1992.