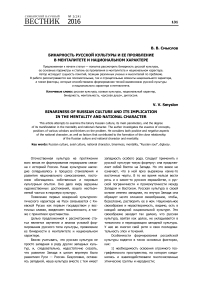Бинарность русской культуры и ее проявление в менталитете и национальном характере
Автор: Смыслов Виктор Владимирович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
Предложенная к печати статья - попытка рассмотреть бинарность русской культуры, ее основные параметры и степень ее проявления в менталитете и национальном характере. Автор исследует сущность понятий, позиции различных ученых и мыслителей по проблеме. В работе рассматриваются как положительные, так и отрицательные моменты национального характера, а также факторы, которые способствовали формированию тесной взаимосвязи русской культуры и национального характера и менталитета.
Русская культура, осевые культуры, национальный характер, бинарность, ментальность, "русская душа", диглоссия
Короткий адрес: https://sciup.org/14114331
IDR: 14114331
Текст научной статьи Бинарность русской культуры и ее проявление в менталитете и национальном характере
Отечественная культура на протяжении всех веков ее формирования неразрывно связана с историей России. Наше культурное наследие складывалось в процессе становления и развития национального самосознания, постоянно обогащалось собственным и мировым культурным опытом. Оно дало миру вершины художественных достижений, вошло неотъемлемой частью в мировую культуру.
Появление первых воззрений культурологического характера на Руси связывается с Киевской Русью как первым государством у восточных славян, введением письменности, а также с принятием христианства.
Целью предложенной к рассмотрению статьи является изучение и анализ условий формирования русского типа культуры, проявление ее бинарности в менталитете и национальном характере.
Важно учитывать, что русская культура не просто западная в ряду других западных культур, и, следовательно, недостаточно сказать, что развитие Запада в целом впрямую было развитием Руси — России. Безусловно, оставаясь западной, наша культура вместе с тем имеет западность особого рода. Следует применить к русской культуре такую формулу: она представляет собой Восток на Западе. Но это вовсе не означает, что в ней ярко выражены какие-то восточные черты. В то же время нельзя вести речь и о каком-то русском евразийстве, о русской пограничности и промежуточности между Западом и Востоком. Русская культура в своей основе именно западная, но внутри Запада она образует нечто слишком своеобразное, чтобы, безусловно, растворить ее в нем. Национальное своеобразие и нерастворимость, видимо, есть в каждой западной национальной культуре. Это своеобразие заходит так далеко, что русская культура, взятая как целое, не укладывается в типологию и периодизацию западной культуры. У нее во многом свой ритм и своя последовательность эпох и течений.
Особенности формирования российской культуры видятся в таких основных факторах, как:
-
1) необходимость освоения огромного географического пространства, на котором соединялись и взаимодействовали многочисленные этнические группы и народности;
-
2) утверждение православия как особой ветви христианства, сосредоточенной на духовности, приверженности устоявшимся традициям;
-
3) длительная временная изолированность развития от западноевропейских цивилизационных процессов и напряженная борьба за преодоление такой замкнутости;
-
4) превалирование идеи приоритета государственности над личностными интересами, подчинение интересов личности интересам государства.
Основой культуры того или иного этноса является его ментальность. Русская ментальность — специфический совокупный архетип народа, который возник в результате взаимодействия уникального субъекта (человека) и обстоятельств его жизнедеятельности. Он накладывает существенный отпечаток на характер русской общности и изменяется вместе с ней.
Русский народ является признанным творцом одной из «осевых» культур. В условиях великой «смены всех» и становления российской цивилизации XXI столетия решение «единой и неделимой» проблемы преемственности и обновления культурного наследия стало условием духовного возрождения России. Грандиозность этих проблем обусловлена не только их творческим характером, но и непреходящей уникальностью, устойчивым стереотипом их мистического, иррационального характера. Можно понять представителей Запада, которые останавливаются перед «непостижимыми метафизическими истоками» русской культуры.
Основные объяснения бинарности культуры сводятся к пограничному положению России между Востоком и Западом, Европой и Азией — от «Евразийства» до «Азиопства» [7, с. 187]. При этом многие забывают, что подобной евровосточной бинарностью обладают едва ли не все культуры, формировавшиеся в зоне контакта цивилизаций, — испанская, португальская, греческая, болгарская, сербская, турецкая и другие, принадлежащие Средиземноморью, не говоря уже о латиноамериканских или о христианских культурах Кавказа. Выходит, бинарность русской культуры — явление типичное, поэтому мало что дающее для объяснения уникальности «русского характера» и для выяснения его реального происхождения.
При характеристике России и русского народа быстро стало общим местом указание на их молодость. Молодая Россия и состарившийся, одряхлевший Запад сопрягались и противопоставлялись самыми разными течениями в культуре и общественной мысли. Ощущение русским человеком своей принадлежности к молодому народу не случайно. Очевидно другое: наш народ своим возрастом существенно не отличается от других западных народов. Если же отличия есть, то они всегда в пользу нашей молодости [16, с. 496]. Ощущение русским человеком значимости своего народа нельзя понимать только хронологически. За таким понятием стоит что-то другое, помимо возраста этнической общности.
Противоречивой является не только диалектика русского/российского, но и полярная — от нигилизма до апологии — интерпретация русского народа с точки зрения понимания его как культурно-исторического субъекта, творца духовных ценностей. «Россия, — писал Бердяев, — менее всего страна средних состояний, средней культурности... В низах своих Россия полна дикости и варварства. На вершинах своих Россия сверхкультурна. Историческая задача русского самосознания — различить и разделить русскую сверхкультурность и русскую докультурность, логос культуры в русских вершинах и дикий хаос в русских низинах» [14, с. 301]. Такова элитная версия русской культуры — её отождествление с логосом сверхкультуры в противоположность докультурному хаосу, в сущности, не народа, а человека-массы. Вместе с тем необходимо различать древнерусскую народность и народ России Нового времени — эпохи формирования российской нации — государства.
Наличие у русской культуры своей собственной периодизации и типологизации, не покрываемой общезападной периодизацией и ти-пологизацией, связано вовсе не с какой-то нашей национальной самобытностью и уникальностью Руси. В свое время Русь успешно вошла в одну из таких общностей и успешно развивалась в ее составе. Таким вхождением стало крещение в 989 году. Хорошо известно, что христианство Русь восприняла от Византии. В результате крещения она стала одной из многочисленных и наиболее крупных по населению и территории метрополий Константинопольского патриархата. Русь оказалась в положении, не испытанном ни одной западной национальной культурой. Это положение можно назвать культурным одиночеством. Конечно, оно не было таким же полным, как у Робинзона Крузо на необитаемом острове. Остальные православные культуры после завоевания православных стран не исчезли с лица земли. Однако и развиваться в нормальном ритме они не могли. Древняя Русь «сразу усвоила византийскую технику каменного строительства со сложной системой куполь- ных и крестовых сводов, а также новую для нее христианскую иконографию, воплощенную средствами мозаики, фрески и иконописи. Это отличает ее развитие от романского Запада, где становление каменного зодчества протекало по иному пути — пути постепенной внутренней эволюции». Находясь в состоянии одиночества, Древняя Русь должна была сделать осознанный выбор между европейской и византийской моделью развития культуры. Эти колебания начались с приходом варягов. Они связаны с русским предвозрождением и влиянием на культуру России европейского Ренессанса.
Возрождение представляет собой чисто городской феномен. Говоря о русском предвозро-ждении, Д. С. Лихачев также связывает его с городом: «Лучшие токи предвозрожденческого движения захватили собою всю Западную Европу, Византию, но также Псков, Новгород, Москву, Тверь, весь Кавказ и часть Малой Азии. На всем пространстве этой колоссальной территории мы встречаемся с однородными явлениями, вызванными развитием демократической жизни в городах и усиленным культурным общением стран. Многие черты этого предвозрожденче-ского движения сказались на Руси с большей силой, чем где бы то ни было» [18, с. 11]. И все-таки выбор был сделан в пользу Византии.
Одной из особенностей развития русской средневековой культуры являлось то, что Византия служила для Руси одновременно и античностью, и современной моделью. Лихачев отмечал, что «своя античность» — период домонгольского расцвета древнерусской культуры — при всей ее притягательности для Руси конца XIV — XV веков не могла заменить собой настоящей античности — античности Греции и Рима с их высокой культурой рабовладельческой формации. Если Западная Европа должна была пройти тысячелетний путь средних веков через такие вехи, как Великое переселение народов, формирование варварских государств, становление феодализма и освобождение городов, и если западная культура должна была «пережить» «каролингский ренессанс», романский стиль, готику и завершить ее эпохой Возрождения, то Россия, являясь более молодым государством, избежала столь длительного пути «постепенной внутренней эволюции» и культурно-исторического «созревания», воспользовавшись готовой византийской моделью, служившей и античностью, и современностью» [1, с. 92]. О том, что византинизм предопределил «восточные» приоритеты в историческом выборе пути развития России и ее имманентную оппозицию Западу, говорил и Н. Бердяев в статье, посвященной Леонтьеву: «Россия во всем своем своеобразии и величии держится не национальной скрепой, не русским национальным самоопределением, а византийским православием и самодержавием, объективными церковными и государственными идеями. Эти начала организовали Россию в великий и своеобразный мир — мир Востока, противоположный Западу» [3, с. 133].
Византинизм выступал против любых форм демократических изменений в российском обществе. Западные понятия свободной личности, индивидуализма и демократии оставались для подавляющего большинства российского общества чуждыми и неприемлемыми — «западной заразой», следовательно, вредными, опасными. Об опасностях, грозящих России введением западных ценностей, говорил Леонтьев: «Я осмелюсь даже, не колеблясь, сказать, что никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция». И это потому, что «русские люди не созданы для свободы. Без страха и насилия у них все прахом пойдет» (цит. по: [4, с. 144]). Он, очевидно, не питал иллюзий в отношении мифа об «особой исторической миссии» России, широко пропагандируемого определенной частью русской интеллигенции XIX века. Говоря о Леонтьеве, Бердяев утверждал, что «он верил не в Россию и не в русский народ, а в византийские начала, церковные и государственные. Если он верил в какую-нибудь миссию, то в миссию византизма, а не России» (цит. по: [4, с. 128]).
Существует много концепций, рассматривающих развитие культуры и истории под углом зрения одного фундаментального фактора, с позиции единого субстанциального основания. И тогда, взятая в своих основах, история культуры предстает как монолог одного-единствен-ного начала, будь то мировой дух или материя. И очень немногие мыслители раскрывают диалогический характер жизни духа и культуры. Среди этих мыслителей следует прежде всего назвать Н. А. Бердяева [5].
В своей концепции «Вызова и Ответа» А. Тойнби также раскрыл диалогическую сущность развития культуры. Если отвлечься от образного стиля изложения, то он дает ключ к пониманию творческой природы и возможной альтернативности культурно-исторического процесса. Развитие культуры осуществляется как серия Ответов, даваемых творческим человеческим духом на те Вызовы, которые бросает ему природа, общество и внутренняя бесконечность самого человека. При этом всегда возможны различные варианты развития, ибо возможны разные Ответы на один и тот же Вызов. В осознании этого фундаментального обстоятельства и состоит непреходящее значение концепции Тойнби [10, с. 43] Своеобразную концепцию культуры развивал крупнейший русский социолог и культуролог, проживший большую часть своей жизни в эмиграции в США, Питирим Александрович Сорокин (1899—1968). В методологическом плане концепция П. А. Сорокина перекликается с учением о культурно-исторических типах О. Шпенглера и А. Тойнби. Однако теория культурно-исторических типов П. А. Сорокина принципиально отличается от теории О. Шпенглера и А. Тойнби тем, что Сорокин допускал наличие прогресса в общественном развитии. Признавая наличие глубокого кризиса, который в настоящее время переживает западная культура, он оценивал этот кризис не как «Закат Европы», а как необходимую фазу в становлении новой формирующейся цивилизации, объединяющей все человечество.
В соответствии со своими методологическими установками П. Сорокин представлял исторический процесс как процесс развития культуры. По Сорокину, культура в самом широком смысле этого слова есть совокупность всего сотворенного или признанного данным обществом на той или иной стадии его развития. В ходе этого развития общество создает различные культурные системы: познавательные, религиозные, этические, эстетические, правовые и т. д. Главным свойством всех этих культурных систем является тенденция их объединения в систему высших рангов. В результате развития этой тенденции образуются культурные сверхсистемы. Каждая из таких культурных сверхсистем, по словам Сорокина, «обладает свойственной ей ментальностью, собственной системой истины и знания, собственной философией и мировоззрением, своей религией и образцом «святости», собственными представлениями правого и должного, собственными формами изящной словесности и искусства, своими правами, законами, кодексом поведения» [Там же].
Киевская Русь как государство существовало с княжения Рюрика (862—879) по княжение Мстислава Рюриковича (1125—1132). Иными словами, период Киевской Руси охватывает вторую половину IX — первую треть XII веков. Основными признаками государственности стали: создание и укрепление централизованной вла- сти, наличие территории и первых границ, определение административного деления и форм власти на местах, установление дани и других источников формирования государства. На ранних этапах развития природа страны накладывала огромный отпечаток на весь ход ее истории. В. О. Ключевский отмечал равнинность, обилие речных путей на Восточно-Европейской равнине, которые облегчили грандиозные процессы колонизации племен, предопределили особенности и разнообразие хозяйственной деятельности народа. Но природа не охраняла общество от чужеродных вторжений.
История русской культуры начинается с ключевого социокультурного события, перевернувшего жизнь древних русичей, изменившего их мировоззрение и поведение, включившего Древнюю Русь в поток мировой истории, — с Крещения Руси. Именно с этого момента для русской культуры начинается «осевое время»: события обретают свой неповторимый смысл; ход времени получает в сознании людей определенную направленность, даже целеустремленность, и начинает рефлексироваться как история; бытие сознается человеком в его противоречиях и антиномиях, в движении; усиливается роль рациональности и рационально преломленного опыта — появляется философское мышление; религия наполняется этическим пафосом и смыслом, и вокруг нравственных оценок жизни и философско-этических учений развертывается духовная борьба. Именно таким образом характеризует понятие «осевого времени» К. Ясперс, обосновавший культурологический подход к осмыслению мировой истории.
Фактически Древняя Русь совершала в этот момент гигантский культурно-исторический скачок, по своему духовному масштабу сопоставимый с теми грандиозными переворотами, которые переживало человечество в целом в период между 800 и 200 гг. до н. э., когда в мировой истории (в Китае, Индии, Иране, Палестине, Греции и др.) складывалось «осевое время».
Однако своеобразие Древней Руси заключалось в том, что, вступая в «осевое время» мировой и собственной истории, древнерусская культура не обретала ярких индивидуальностей ни в поэзии, ни в философии, ни в области религиозно-этических учений, ограничиваясь лишь персонификацией своих правителей и святителей, религиозных учителей и подвижников. В связи с этим Креститель Руси Владимир должен рассматриваться как деятель древнерусской культуры. То же относится и к Ярославу Мудрому, и к Владимиру Мономаху и т. д., хотя культурные функции древнерусских князей совершенно особые, не связанные с непосредственным созданием ценностей и смыслов культуры, произведений искусства и науки, философской, религиозной и политической мысли. Все они — культурные политики, реформаторы общественной и религиозной жизни народа, руководители масштабных социокультурных процессов, имевших место в Древней Руси и оказавших большое влияние на многие феномены ее культуры, но не сами творцы древнерусской культуры в полном смысле этого слова (писатели, художники, мыслители, религиозные пророки и пр.).
Становление русского централизованного государства (Московского княжества, а затем Московского царства) сопровождалось соответствующим литературным «обрамлением», идеологически и философски обосновывающим необходимость сильной деспотической власти. Среди таких произведений, например, «Послание о Мономаховом венце» митрополита Спиридона-Саввы (1510-е гг.) и созданное на его основе «Сказание о князьях Владимирских». Созданная на рубеже XVI—XVII веков «Повесть о начале Москвы» строит аналогии «Третьего Рима» с первым и вторым, основанными на пролитой крови. Великая спасительная миссия Москвы — в масштабах всей Руси, значимость ее святынь мотивируются «пролитием кровей многих». Впервые в истории русской культуры складывался в общенациональном масштабе феномен официальности применительно к литературе, религии, политической идеологии, морали, правовым нормам и т. д. — фактически ко всей культуре. В Московском царстве утверждается пышный и помпезный стиль, все приемы которого формализовались и застыли в виде жесткого канона, получившего название «второго монументализма».
В центр официальной культуры, включая политическую и религиозную идеологию, философию и богословие, литературу и искусство, был поставлен столичный город как само воплощение официального представительства власти — социальной и духовной. Так, представление Москвы «Третьим Римом» (и последним) означало воплощение вселенской власти и восстановление мировой империи (наподобие Римской или Византийской, но еще более величественной и совершенной); национально-религиозного избранничества, преемственного по отношению к двум предшествующим священным царствам и приблизившегося вплотную к апофеозу христианства в мировом масштабе и Апокалипсису; смысловое единство «осевой» на- правленности мировой истории (вектор которой знаменует развитие человечества от рождения Христа до конца света и Страшного суда) и ее сущностной повторяемости, вечности (Рим может быть первым, вторым, третьим, но он, даже передвигаясь в пространстве и во времени, остается одним и тем же «вечным городом»). Значимость столичного центра подтверждалась экстраполяцией его семантики на все государство. Не случайно в это время иностранцы называют Русь Московией, а русских — московитами (т. е., по-нашему, москвичами), как будто Русь и Москва тождественны.
Однако консолидация различных явлений культуры под знаком государственного официоза предполагала смысловое противостояние этой культурно-идеологической монополии государства, нараставшей в обществе территориальной, социальной и культурной дифференциации, идейному плюрализму и стилевому многообразию неофициальной культуры (включая литературу и словесность вообще).
Воззрения и идеи культурологического характера «монгольской» Руси можно представить в русле трех основных направлений развития общественного сознания и теоретической мысли. Первое направление традиционно составляли воззрения на культуру христианско-православной церкви. Второе направление находилось в оппозиции к первому, так как выражало свободомыслие — различные еретические воззрения, критику церковной практики, деятельности иерархов церкви. Источниками, в которых отражались культурологические идеи, стали описания побед над монголами, других военных походов. «Поход на Казань», «Оборона Пскова», «Повесть о житии Александра Невского», «За-донщина», «Сказание о мамаевом побоище», «Житие Сергия Радонежского» и другие героико-эпические произведения характеризовали военно-политическую ситуацию на Руси в XIV— XV веках, отношения между Московским государством и другими княжествами, роль православной церкви в духовном и организационном объединении сил русских земель в борьбе против монгол, образ жизни людей. Культурологический характер имели также возвышенный стиль и обращения к былинному эпосу, свойственные этим повествованиям. Формировалась народная баллада.
Когда Московская Русь начала превращаться в империю, подписав тем самым приговор своей собственной национальной культуре? Год можно назвать безошибочно: 1552 — завоевание Казанского ханства и начало присоединения первых территорий на Северном Кавказе — Ка-рачая, Черкесии, Кабарды, то есть территории, великорусскому этносу никогда ранее не принадлежавшей. А где верхняя граница, позволяющая нам утверждать, что de facto перед нами уже империя? Тоже указать не сложно: 1 октября 1653 года Земский собор в Москве, а 8 января 1654 года Переяславская рада приняли решение о вхождении Украины (Малороссии) в состав Московского государства. То есть ровно столетие, за которое были присоединены также Астраханское ханство (1556), Сибирское ханство Кучума, завоеваны и вновь утеряны территории в Прибалтике, а затем пройдена вся Сибирь (к 1648). Причем эти процессы были достаточно органичны для русской ментальности и для русской политики, ибо рассматривались как продолжение вековой борьбы с татарами и как воссоединение некогда отторгнутых земель. Так реконкиста незаметно переросла в конкисту.
Становление империи de facto еще не гарантирует той же стадии развития соответствующей культурной системы. Общие критерии, позволяющие соотнести эти явления, отсутствуют. Зато это возможно на событийном уровне. И большая система, и входящие в нее малые обладают по отношению друг к другу достаточно высокой автономией. А это значит, что для решения своих задач большая система может опираться на достижения любой из малых, входящих в нее, а не только титульной, ее породившей. Более того, ее действия могут оказаться неприемлемыми для титульной подсистемы, глубоко ей чуждыми и враждебными (что хорошо для Российской империи, отнюдь не обязательно хорошо для Великороссии). С того момента, как был дан толчок к рождению большой системы, джинн из бутылки уже выпущен [10, с. 153].
В постсоветской историографии, посвященной петровским преобразованиям, можно встретить вопрос, ранее немыслимый: «Действительно ли русская средневековая культура во второй половине XVII века переживала кризис?» Кризис, конечно же, был, но нужно задать другой вопрос: а были ли петровские реформы направлены на разрешение именно этого кризиса? Часть исследователей считает, что петровские реформы противоречили национальным традициям русской культуры, что они оказали разрушающее воздействие на такие характерные ее черты, как соборность и высокая духовность, и, таким образом, нанесли вред ее развитию.
Возражающая, пропетровская сторона черпает свою аргументацию не только из кладовых различных европоцентристских теорий. Она опи- рается на факт удивительной жизненности петровских новообразований: от коллегий, проживших столетие, до Табели о рангах, дожившей до революции и в редуцированной форме неоднократно возрождавшейся в советскую и постсоветскую эпохи; от учебных заведений до Академии наук, чей возраст скоро достигнет трех столетий, и т. п. Такого не могло бы случиться, если бы все эти организмы существовали в исключительно враждебной, чужеродной среде. Отсюда вывод об органичности для России петровских реформ, об их глубоко русском характере.
Русский народ — признанный творец одной из «осевых» культур. В условиях великой «смены вех» и становления российской цивилизации XXI века решение проблемы преемственности с культурным наследием и его обновления стало условием духовного возрождения России.
Грандиозность этих проблем обусловлена непреходящей уникальностью, устойчивым стереотипом их мистического, иррационального характера. Для многих представителей Запада остается загадкой душа русского человека. Для определения характера, души русского человека необходимо рассмотреть сущность понятия «менталитет». В самом широком смысле слова менталитет — это глубинный пласт общественного сознания. Согласно М. А. Боргу: «Это «совокупность символов, необходимо формирующихся в рамках каждой данной культурноисторической эпохи и закрепляющихся в сознании людей в процессе общения с себе подобными, т. е. повторения» [7, с. 189].
Базовыми характеристиками менталитета выступают его коллективность, неосознанность, устойчивость. Так как это понятие выражает повседневный облик коллективного сознания определенной социокультурной общности, его «скрытым» слоем, независимым от собственной жизни индивида, оно предстает реальностью коллективного порядка. Менталитет характеризует неосознанность или неполная осознанность, «на этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать на уровне сознательных высказываний», — пишет А. Я. Гуревич [Там же, с. 190]. Он выступает как способ выражения знаний о мире и человеке в нем, служит в повседневной жизни онтологическим и функциональным объяснением и содержит ответы на вопросы: Что это? Как? Зачем это?
Структура менталитета — это прежде всего устойчивая система скрытых глубинных установок и ценностных ориентаций сознания, его автоматических навыков, которые определяют устойчивые стереотипы сознания.
Существуют причины, которые способствуют формированию менталитета. Таковыми являются: 1) расово-этнические качества общности; 2) естественно-географические условия ее существования; 3) результаты взаимодействия данной общности и социокультурных условий ее проживания. Среди расово-этнических отличий социокультурной общности, воздействующих на менталитет, следует отметить ее численность, темперамент, уровень развития.
Базовыми особенностями менталитета россиян можно считать преобладание моральных составляющих и прежде всего чувства ответственности и совести, а также особое понимание взаимоотношений личности и общества. Это обусловлено рядом причин, прежде всего тем, что «из века в век наша забота была не о том, как лучше устроиться или как легче прожить, но лишь о том, чтобы вообще как-нибудь прожить, продержаться, выйти из очередной беды, одолеть очередную опасность», — писал И. А. Ильин, поэтому «вопрос: ради чего жить? имеет более важное значение, чем вопрос о хлебе насущном», — утверждал Ф. М. Достоевский [Там же].
Значительным является и влияние религиозного фактора, прежде всего православия как одного из источников российского менталитета. Оказывает влияние на специфику российского менталитета социальная организация общества, которая проявляется в активной роли государства, результатом является доминирование в менталитете россиян, убеждения в необходимости сильной власти. Как уже было сказано выше, русская ментальность накладывает существенный отпечаток на характер русской общности и изменяется вместе с ней. Как писал Розанов: «Если есть нация, есть и культура, потому что культура есть ответ нации, есть аромат ее характера, сердечного строя, ума «Русский дух», как вы его ни хороните или как не высмеиваете, все-таки существует. Это не непременно гений, стихи, стихи, проза, умопомрачительная философия. Нет, это манера жить, т. е. нечто гораздо простейшее и, пожалуй, мудрейшее» [11, с. 82].
Ключевое и знаковое понятие ментальности народа, выражающее эмоционально-психологическую реальность русской души: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Как отмечал З. Фрейд, важнейшими чертами ментальности народа является «сильное предрасположение к амбивалентности».
Важнейшими чертами душевной жизни русского человека является способность чувство- вать и мыслить различными, порой взаимоисключающими способами; совмещать порыв к безграничной свободе с великотерпением.
Для русского человека характерны жажда справедливости и недоверие к правовым способам ее достижения, непременная любовь к дальнему и избирательная к ближнему, вера в абсолютное добро без зла и сомнительную ценность относительного добра, пассивное ожидание последнего и пассионарный активизм «решительного боя» за окончательное торжество добра, возвышенность в целях и неразборчивость в их достижениях и т. п.
На взгляд Ю. М. Лотмана, для русской культуры характерна бинарная структура. Бинарный же характер русской души не является ее уникальной особенностью. Он в той или иной мере присущ ментальности и других народов. Главная проблема — в безмерности русского характера.
Флоровский Г. по этому поводу писал: «История русской культуры вся в перебоях, в приступах. Всего меньше в ней непосредственной цельности. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются сами собой. Но сросток не есть синтез. Именно синтез не удавался» [Там же, с. 83].
Поэтому постижение глубинных основ российского бытия проходит на интуиции, т. е. идет воспроизводство не рационального, ярко выраженного в западном менталитете, а иррационального архетипа.
По определению некоторых ученых, национальный характер — это совокупность генотипа и культуры.
Так как генотип — это то, что каждый человек получает от природы, то культура — это то, к чему человек приобщается с рождения, поэтому национальный характер, кроме неосознанных культурных архетипов, включает в себя и природные этнопсихологические черты индивидов.
Когда персонаж Достоевского узнает «русскую действительную жизнь», он заключает, что «вся Россия есть игра природы». Согласно Ф. Тютчеву, «умом Россию не понять, // аршином общим не измерить. // У ней особенная стать. // В Россию можно только верить». Б. Паскаль отметил: «Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе». В осознании неповторимости, уникальности, невозможности измерить Россию «общим аршином» — ключ к постижению и явного — умом, и сокровенного — верой в Россию.
Как утверждалось ранее, национальный характер русского человека включает в себя не- осознанные культурные архетипы и природные этнопсихологические черты индивидов.
Период язычества восточнославянских племен не входит в историю культуры. Это предыстория русской культуры, ее исходное состояние, которое продолжалось еще весьма длительное время, не претерпевая существенных изменений, не переживая сколько-нибудь значительных событий.
Со времен, отмеченных постоянными контактами и противоборствами с соседними кочевыми народами, в русской культуре и национальном самосознании глубоко укоренился фактор случайности, непредсказуемости (отсюда знаменитое русское «авось да небось» и другие аналогичные суждения обыденного народного сознания). Этот фактор во многом предопределил свойства русского национального характера — бесшабашность, удаль, отчаянная смелость, безрассудство, стихийность, произвол и т. п., с которыми связана особая мировоззренческая роль загадок в древнейшем русском фольклоре и гаданий в повседневном быту; склонность принимать судьбоносные решения путем бросания жребия и другие характерные особенности менталитета, базирующегося на неустойчивом равновесии взаимоисключающих тенденций, где любое неуправляемое стечение обстоятельств может оказаться решающим. Отсюда берет начало традиция принимать трудные решения в условиях жесткого и подчас жестокого выбора между крайностями, когда «третьего не дано» (да оно и невозможно), при этом сам выбор между взаимоисключающими полюсами подчас нереален или невозможен, или в равной степени губителен для «избирателя», — выбора, происходящего буквально на цивилизационном распутье неподвластных ему сил (судьба, доля, счастье), о реальности и определенности прошлого (традиций, «предания») — по сравнению с ирреальным и неопределенным, драматически вариативным и непредсказуемым будущим. Как правило, мировоззрение, складывающееся с ориентацией на факторы случайности и стихийности, исподволь проникается пессимизмом, фатализмом, неуверенностью (в том числе и в собственно религиозном смысле — как неверие, постоянно искушающее веру).
В таких условиях формировались и другие качества русского народа, ставшие его отличительными особенностями, сросшиеся с национально-культурным менталитетом, — терпенье, пассивность в отношении к обстоятельствам, за которыми тем самым признается ведущая роль в развитии событий, стойкость в перенесении ли- шений и тягот жизни, выпавших страданий, примирение с утратами и потерями как неизбежными или даже предопределенными свыше, упорство в противостоянии судьбе.
Зависимость от «капризов» суровой природы и климатической неустойчивости, от необузданной агрессивности кочевых народов, составляющих ближайшее окружение, неуверенность в завтрашнем дне (урожай или недород, война или мир, дом или поход в чужие земли, воля или кабала, бунт или покорность, охота или неволя и т. д.) — все это аккумулировалось в народных представлениях о постоянстве изменчивости, об извечной зависимости человека от господствующих над ним обстоятельств.
Как известно, большое влияние на формирование русского культурного архетипа оказало принятие в X веке христианства, которое пришло на Русь из Византии в православной форме. Русский человек всем ходом собственного развития изначально был подготовлен к восприятию православия. Оно включило в себя все общество, но не захватывало человека целиком. Вера руководила лишь религиозно-нравственным бытом русского народа, то есть регулировала церковные праздники, семейные отношения, времяпровождение, при этом обычная будничная жизнь русского человека не затрагивалась ей. Такое положение вещей предоставляло свободный простор самобытному национальному творчеству.
В восточнохристианской культуре земное существование человека не имело ценности, поэтому основной задачей было подготовить человека к смерти, а жизнь рассматривалась как маленький отрезок на пути в вечность. В качестве смысла земного существования признавались духовные стремления к смирению и благочестию, аскетизм и ощущение собственной греховности.
Отсюда в православной культуре появилось пренебрежение к земным благам, так как они скоротечны и ничтожны, отношение к труду не как к творческому процессу, а как к способу самоуничижения. Отсюда — расхожие выражения: «Всех денег не заработаешь, с собой в могилу не заберешь» и т. п.
Вл. Соловьеву была особенно дорога такая черта русского человека, как осознание своей греховности — несовершенства, неполноты достижения идеала.
Неотъемлемая грань и фермент возрождения России — это обновление русской идеи как духовной квинтэссенции не только русского суперэтноса, но и общезначимой всероссийской идеи как, с одной стороны, самоидентификации России, с другой — её «послания миру». Постижение русской идеи предполагает осознание особенностей структуры объективных факторов становления и эволюции этого феномена, основных уровней и граней, альтернатив сопричастности к ней её субъекта. Как заметил А. де Кюстин, «у народов всегда есть достаточно причин быть такими, какие они есть: и лучший из них тот, который не может быть другим» [8, с. 169].
В конце XIX — начале XX века развернулись дискуссии о российской, или русской, нации. К последней, полагал П. Струве, принадлежат «все, кто участвует в русской культуре» [2, с. 40]. Оба понятия — «русский» и «российский» употреблялись как синонимы и были лишены этнического смысла.
Итак, вот что приводит к «непознаваемости» России, вот разгадка «бинарности русской культуры». То, что принимается за единое целое, в действительности представляет собой две относительно независимые, хотя и тесно связанные между собой — и генетически, и функционально — культурные системы: национальную, православную русскую (великорусскую) и российскую (мега) культуру формирующейся Российской империи — полиэтническую и в значительной степени поликонфессиональную.
Их смешение, объединение или замещение (подстановка национальной единицы на место имперской) в литературе и в повседневном обиходе происходят по многим причинам и на разных уровнях. Вот лишь некоторые из них:
-
1. В советскую эпоху термин «русский» своей чрезвычайно возросшей функциональностью полностью вытеснил из обихода термин «великорусский», существующий едва ли не в виде реликта, и потеснил термин «российский», который начал возрождаться лишь после распада СССР.
-
2. Обе культурные системы используют один и тот же язык — русский. Ранее они обе базировались на двух разных диглоссиях (функциональном двуязычии): великорусская — на русско-старославянской, российская — на русско-французской. Это с неизбежностью оказывало влияние и на словарный запас русского языка, и на его структуру.
-
3. Обе рассматриваемые культурные системы лежат в разных параллельных плоскостях. В
Советская власть уничтожила обе диглоссии, что нельзя не признать культурной катастрофой. И постепенно произошла определенная унификация языка, точнее, его советизация, формирование «новояза».
этом случае, как известно, для смотрящего сверху или снизу оба множества сливаются. Мы же предлагаем посмотреть сбоку.
С формальной точки зрения у этих двух культур имеется еще одно важное отличие — вектор действия. У российской он направлен вовне, в первую очередь в Европу. Это — евро-ориентированная культура, еще в ходе своего формирования ставшая неотъемлемой частью европейской палитры.
Что же касается великорусской культуры, то у нее иное направление. И отнюдь не на Восток, не в Азию. А внутрь себя. Как и у большинства других этнокультур.
Таким образом:
-
3) Структура менталитета — сложная многоуровневая пирамида механизмов и способов действия, непосредственно связанных с многовековой культурой народа. Базовыми особенностями менталитета россиян являются преобладание моральных составляющих и прежде всего чувства ответственности и совести, а также особое понимание взаимоотношений личности и общества.
-
1. Арутюнян А. Россия и Ренессанс: история русской культуры (было ли в России Возрождение? О влиянии Византии на русскую культуру) // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 89—101.
-
2. Бабаков В. Национальные культуры в общественном развитии России // Социально-политический журнал. 1995. № 5. С. 29—42.
-
3. Бердяев Н. А . Очерки истории русской религиозной мысли. М., 1995.
-
4. Бердяев Н. А. О культуре; Судьба России // Антология культурологической мысли. М., 1996.
-
5. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990.
-
6. Бердяев Н. А . Философия свободного духа. М., 1994.
-
7. Гузевич Д. Ю . Кентавр, или К вопросу о бинарности русской культуры: становление культуры в России // Звезда. 2001. № 5. С. 186—197.
-
8. Иванова Т. В . Ментальность, культура, искусство // Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 168—177. Культура.
-
9. Кондаков И . Архитектоника русской культуры // Общественные науки и современность. 1999. № 1. С. 159—172. О логике исторического развития русской культуры.
-
10. Кондаков И. В. Культурология: история культуры России. М. : Омега-Л : Высш. шк., 2003. 616 с.
-
11. Коробейникова Л. А . Эволюция представлений о культуре в культурологии // Социс. 1996. № 7. С. 79—85.
-
12. Кравченко А. И . Культурология. М. : Акад. проект, 2001. 496 с.
-
13. Культурология / под ред. А. А. Радугина. М. : Центр, 2005. 304 с.
-
14. Культурология / под ред. Г. В. Драча. Ростов н/Д. : Феникс, 1995. 576 с.
-
15. Мамонтов С. П. Основы культурологии. М. : РОУ, 1995. 208 с.
-
16. Сапронов П. А . Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры. СПб. : СОЮЗ, 1998. 560 с.
-
17. Тойнби А. Дж. Постижение истории : сб. М., 1991. С. 106—142.
-
18. Торопцев А. А . Двенадцать подвигов России. М., 2011.
Список литературы Бинарность русской культуры и ее проявление в менталитете и национальном характере
- Арутюнян А. Россия и Ренессанс: история русской культуры (было ли в России Возрождение? О влиянии Византии на русскую культуру)//Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 89-101
- Бабаков В. Национальные культуры в общественном развитии России//Социально-политический журнал. 1995. № 5. С. 29-42.
- Бердяев Н. А. Очерки истории русской религиозной мысли. М., 1995.
- Бердяев Н.А. О культуре; Судьба России//Антология культурологической мысли. М., 1996.
- Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990.
- Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.
- Гузевич Д. Ю. Кентавр, или К вопросу о бинарности русской культуры: становление культуры в России//Звезда. 2001. № 5. С. 186-197.
- Иванова Т. В. Ментальность, культура, искусство//Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 168-177. Культура.
- Кондаков И. Архитектоника русской культуры//Общественные науки и современность. 1999. № 1. С. 159-172. О логике исторического развития русской культуры.
- Кондаков И. В. Культурология: история культуры России. М.: Омега-Л: Высш. шк., 2003. 616 с.
- Коробейникова Л. А. Эволюция представлений о культуре в культурологии//Социс. 1996. № 7. С. 79-85.
- Кравченко А. И. Культурология. М.: Акад. проект, 2001. 496 с.
- Культурология/под ред. А. А. Радуги на. М.: Центр, 2005. 304 с.
- Культурология/под ред. Г. В. Драча. Ростов н/Д.: Феникс, 1995. 576 с.
- Мамонтов С. П. Основы культурологии. М.: РОУ, 1995. 208 с.
- Сапронов П. А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры. СПб.: СОЮЗ, 1998. 560 с.
- Тойнби А. Дж. Постижение истории: сб. М., 1991. С. 106-142.
- Торопцев А. А. Двенадцать подвигов России. М., 2011.