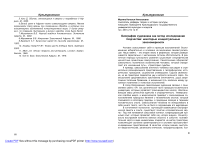Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности
Автор: Мусина Наталья Николаевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14931193
IDR: 14931193
Текст статьи Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности
Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности
Человек осмысливает себя в проекции воспоминаний. Воспоминание избирательно и основано на механизме самоактуализации. Наша память - это вторая жизнь в рефлексии, которая разворачивается параллельно с хаотическим потоком обстоятельств. В различные периоды культурного развития существуют специфические ценностные ориентации самосознания. Самосознание оформляет совокупность психических особенностей человека, которые определяют его «жизненный путь», «траекторию судьбы».
К примеру, самосознание античного человека пульсирует в стремительно расширяющихся представлениях о географическом, историческом, природном, социальном универсумах. Судьба своевольна, но ее траектория подвластна уму и хитрости античного героя. Самосознание средневекового христианина антиномично, душа закрепощена телесным бременем, а жизненный путь заключен между духовным покаянием и телесным искуплением.
В эпоху Возрождения самосознание художника связано с пониманием своего «Я» как органической части природно-космического универсума, которым управляет трансцендентное начало, обеспечивающее миру ценностное единство и упорядоченность. Универсальное подобие микро- и макрокосмоса приводит к закономерным сопоставлениям природных явлений с человеческим опытом, который описывался в категориях природы, а природные явления в терминах человеческого опыта. Самосознание человека не обнаруживало в себе ничего такого, чего бы не было в окружающем его мироздании.
В когнитивной психологии, изучающей взаимосвязи биографической памяти и опыта, существует понятие «познавательная карта». Под ней понимается смысловой контекст, конфигурирующий прошлый опыт, который проявляет себя как «опора знания». Концептуально выстраивая жизненно важные объекты и события, познавательная карта в виде мнемосхемы опирается на метод траектории, позволяющий сознанию ориентироваться в системе пространственно-временных представлений. В качестве «опоры знания» выступают мифологические, религиозно-этические, натурфилософские, пси-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Культурология
хоаналитические ориентации сознания.
Судьба - это пространственно-временной образ, конфигурированный морально-этическими, эстетическими, субъективно психологическими представлениями о человеческом «Я». Механизм действия этих представлений напоминает эффект зеркала, когда созерцание отражаемого образа «Я» является представлением сознания. Образ в зеркале - это рефлексия, основанная на зачарованности, торможении, свойственных любованию. Эта функция зачарованности дает о себе знать у Фрейда, но там, где он пишет о построении «Я».
Облеченный в форму словесных описаний образ «Я» обретает эстетические качества. С одной стороны, это образное построение «Я» для другого, в котором отражены конфигурации внешнего опыта. С другой стороны, это отражение внутреннего «Я», интимных переживаний и неосознанных мотивов.
В дневниках часто встречаются типы внутренней речи в виде авторских сокращений, обозначений, ремарок. Внутренняя речь, в отличие от внешней, беззвучна, грамматически свернута, обладает особым синтаксисом, усечена. Это движение воспоминания. Переход от внутренней к внешней речи - это запись воспоминания, неизбежно изменяющая его облик. Исповеди, дневники, мемуары строятся на соотношении временного модуса и логического. В результате возникает потребность в общении реального (временного) «Я» с его мнемонически выстроенным образом.
Выбор в качестве объекта научного исследования творчества В.Г. Захарченко заставил обратиться к жанру жизнеописаний, возникшему в античности и отражающему судьбы античного героя. С.С. Аверинцев отмечает, что широко распространенными формами построения жизнеописаний были жанры, совмещающие обзорно-историческое и биографическое изложение. Такое сочетание использовалось при освещении истории науки и искусства. Характерными являются такие названия эллинистических сборников, как «О поэтическом искусстве и поэтах», «О живописи и прославленных живописцах». История культуры и искусства строится на основе описания отношений преемника к предшественнику, ученика к учителю. Античные жизнеописания легко объединялись в циклы на хронологической основе, благодаря чему биографический жанр сочетался с исторической проблематикой. В обычном биографическом сборнике объем жизнеописания зависит от значимости героя биографии и от материала, которым располагал автор. Например, способ группировки в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха объединен общей мыслью. Изъяв героя из диахронической последовательности истории и поставив его лицом к лицу с человеком иного времени, Плутарх рассматривает жизнеописание как автономную моральнопсихологическую проблему. Благодаря такому построению жанровой композиции в «Параллельных жизнеописаниях» проявляются воз- 82
Культурология можности психологической рефлексии и пластичной, выпуклой, разработанной биографической характеристики [1, С. 234-246].
Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что жизнеописание - это событийное проявление характера героя в ракурсе культурно-исторической ситуации.
Возрождая жанр жизнеописания как творческий метод, Х. Ортега-и-Гассет полагал, что «каждое искусство... соответствует какому-то одному из основных, неразложенных проявлений человеческой души». Методологически важным, по Ортеге, является различие между естественными и гуманитарными науками, это вытекает как из разницы их предметов, так и из различия форм опыта, способов знания. В биографических эссе о Веласкесе и Гойе ученый разрабатывает метод «оживления картин». Он стремится обрисовать живой облик художника эпохи. Личность творца предстает сочетанием следов событий, печатей размышлений, реконструируемых через описания жизненной среды. Биографическое повествование то проступает, то вновь растворяется в письмах и донесениях XVII в., которые лучше любого комментария воссоздают дух времен эпохи. Собирая разрозненные факты, философ воссоздает естественные ритмы человеческого бытия. Паузы и падения, взлеты и разочарования, сомнения и догадки чередуются, наслаиваются, просвечиваются в хитросплетениях словесной ткани.
Описывая биографию Веласкеса, Ортега стремится выявить черты национального характера, реконструировать различные жизненные обстоятельства. Биография, по его меткому определению, это "диалектика нити, потянув за которую можно вытащить весь клубок". Произведение искусства - это фрагмент человеческой жизни, в котором переплелись личные переживания и объективные обстоятельства, своеобразие творческого дарования и критерии стиля.
Будучи частью культурно-исторической памяти, биография позволяет увидеть в творчестве художника, след его жизненных перипетий. Жанр жизнеописаний разворачивает целый спектр «ракурсов рассмотрения» истории искусства, позволяет представить роль и место художника в культурном пространстве опыта. В результате возникает «жизненная связь с другим», увиденное прошлое сливается с настоящим, приобретает субъективную значимость. Исследуемый образ видится сквозь факты, ощущается через отношение к ним с позиций собственного «Я» исследователя. Не случаен интерес современного искусствознания к психологии, антропологии, семиотике. История искусств втягивается в орбиту современного научного опыта, трансформируя его, формируя собственный угол зрения на художника и его наследие.
Подлинная биография В.Г. Захарченко - беспрестанный творческий поиск и объяснение рождения той или иной идеи, песни, и т.д. Благодаря ему, народное искусство Кубани зазвучало в исполнении
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Культурология
Кубанского казачьего хора и обрело свою национальную самобытность. Описывая биографию В.Г. Захарченко, следует выявить черты национального характера, реконструировать различные жизненные обстоятельства.
Любая профессия предполагает некоторую маску клиширован-ности, типичности. Роль художника зависит от того, что представляет собой его ремесло и как оно воспринимается в данное время [3, С. 59]. Творческая жизнь В.Г. Захарченко тесно связана как с внутренним миром самого художника, так и со средой, влиявшей на него и его жизненные обстоятельства. Одержимость В.Г. Захарченко, по Ортеге-и-Гассету, суть одержимости кубанцев, вылившаяся в увлечение духовной и народной музыкой. Суть личностного «проекта», который именуется В.Г. Захарченко, заключается тем самым в преодолении им естественных импульсов и порывов своей одержимости и обращении к рациональным сторонам сознания, пробуждающим к жизни его «достигающее возможных пределов» искусство [2, С. 123].
Песни, которые пишет В. Захарченко, - это фрагменты человеческой жизни, в которых переплелись личные переживания и объективные обстоятельства, своеобразие творческого дарования и критерии стиля.
Итак, будучи частью культурно-исторической памяти, биография как метод исследования позволяет увидеть в творчестве художника след его жизненных перипетий. Жанр жизнеописаний разворачивает целый спектр «ракурсов рассмотрения» истории Кубани, позволяет представить роль и место художника в культурном пространстве региона. Специфика культурологического знания заключается в том, что творческое наследие мастера, его жизнь, его мысли, ценности и цели неизбежно привлекают внимание исследователя, вызывают эмоциональный отклик, формируют личностное отношение к окружающему миру.
Список литературы Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности
- Аверинцев С.С. Приемы организации материала в биографиях Плутарха/С.С. Аверинцев//Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966.
- Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта/Т.Ю. Лиманская. М., 2004.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.