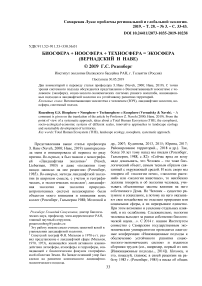Биосфера + ноосфера + техносфера = экосфера (Вернадский и Наве)
Автор: Розенберг Г.С.
Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl
Рубрика: Оригинальные статьи
Статья в выпуске: 3 т.28, 2019 года.
Бесплатный доступ
Дан комментарий к переводу статьи профессора З. Нав е (Naveh, 2000; Наве, 2019). С точки зрения системного подхода обсуждаются представления о Всеохватывающей экосистеме с человеком (экосфере), социо-эколого-экономических системах разного масштаба, инновационных подходах в ландшафтной экологии и к устойчивому развитию территорий.
Всеохватывающая экосистема с человеком (ВЭЧ), ландшафтная экология, ноосфера, системный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/148315251
IDR: 148315251 | УДК: 911.52+911.53+330.36.01 | DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10238
Текст научной статьи Биосфера + ноосфера + техносфера = экосфера (Вернадский и Наве)
др., 2007; Кудинова, 2013, 2015; Юрина, 2017; Районирование территорий.., 2018 и др.). Так, более 30 лет тому назад мы писали (Розенберг, Гальперин, 1988, с. 82): «Сейчас вряд ли кому надо доказывать, что Человек – это тоже биологический объект, самым тесным образом связанный с окружающей средой. И коль скоро мы говорим об «экологии почв», «экологии растений» или «экологии животных», то неизбежно должны говорить и об экологии человека, учитывать объективные законы влияния на него собственного Дома. Но Человек – существо разумное и социальное, а потому на него оказывают свое воздействие не отдельно природная или социальная сферы, а их неразрывное единство. При этом возможно и усиление отдельных влияний, и их ослабление. Следовательно, экология человека выходит за рамки собственно биологической науки…». С 2014 г. нашим Институтом совместно с Самарским государственным экономическим университетом проводятся ежегодные конференции «Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем» и издаются сборники трудов (см., например, первый из них [Инновационные подходы.., 2014]). Наконец, и это, пожалуй, главное; в своей рецензии на работу 1983 г. (Розенберг, 1985) я писал об общих теоретических представлениях и концепции «экосистемы с человеком» (Total Human Ecosystem, THE), предложенной З. Наве, но, признаюсь, не совсем понял её и недооценил3.
Но сначала, несколько слов о Зеве Наве (An-trop, Pinto Correia, 2011).
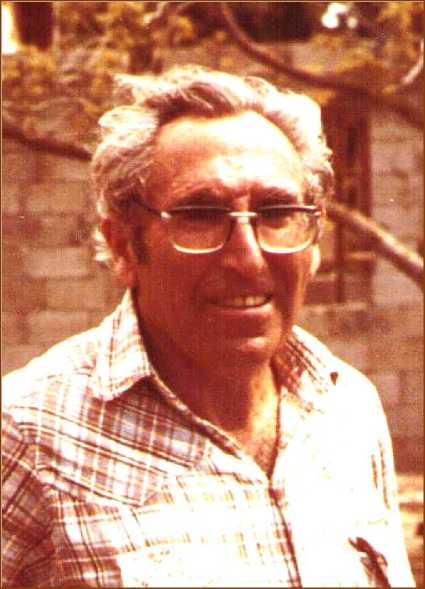
Зев Наве (Zev Naveh; 1919–2011)
Зев Наве родился в 1919 г. в Амстердаме, вырос в Германии и иммигрировал в Израиль в 1935 г. Там он стал соучредителем коллективного поселения (кибуца Мазуба – kibbutz Mazuba)4 в предгорьях Западной Галилеи; учился и закончил Еврейский университет в Иерусалиме, где получил степень магистра наук в области агрономии, а в 1950 г. – доктора философии. 19581960 гг. был приглашенным научным сотрудником в Школе лесного хозяйства при Калифорнийском университете в Беркли. С 1960 г. он работал в Министерстве сельского хозяйства Израиля в качестве специалиста по пастбищам (на Экспериментальной станции Неве Яар – Neve Yaar Experimental Station); с 1962 по 1965 г. трудился в качестве исследователя и консультанта в Танзании, Кении и Уганде, занимаясь пастбищными угодьями. В 1965 г. он начал свою академическую карьеру в Технионе, Израильском технологическом институте в Хайфе, сначала на факультете сельскохозяйственного машиностроения, а с 1970 г. получил дополнительное среднее назначение на факультете архитектуры и градостроительства. Его академическое преподавание охватывало общую агрономию, системную экологию, ландшафтную экологию, восстановительную экологию и инженерию растительности для биологической защиты и борьбы с эрозией. В 1982 г. он основал Экологический сад Техниона и был его директором до своей отставки (по возрасту) в 1989 г. На его фотографии на веб-сайте в Технионе есть надпись: «От ковбоя и пастуха до всемирно известного ландшафтного эколога», которая довольно хорошо подводит итог его карьерного роста.
Б о льшая часть его профессиональной карьеры была посвящена средиземноморским ландшафтам, где «тесно переплетены природные и культурные особенности, и процессы (происходящие) в этих ландшафтах стали одними из основных тем моих исследований» (Naveh, 2007, p. 3). Вначале он занимался исследованиями пастбищ, которые «естественным образом» привели его к ландшафтной экологии и экологии восстановления. Однако вскоре он расширил сферу своей деятельности до всех ландшафтов, связав естественные и социальные науки с искусством, и разработав базовые теоретические концепции для изучения и управления ландшафтами как целостными объектами. Становясь все более осведомленным специалистом по проблемам глобализации и вдохновляясь работами Эрвина Ласло 5 (Laszlo, 1994, 2001 и др.), он в 2004 г. вступил в Будапештский клуб (Club of Budapest) в качестве Creative Member.
После ухода на пенсию его новой миссией стало обучение будущих поколений ландшаф-товедов системному, междисциплинарному и проблемно-ориентированному в и дению этой науки.
* *
Радует лишь, что я был не одинок (Pickett, URL).
Здесь у него и возникла любовь, и интерес к среди-
земноморскому холмисто-горному пейзажу, использованию скальных обнажений для выращивания сельскохозяйственной продукции, работе «пастухом, скотоводом и селекционером»; здесь он осознал важность природных и культурных ценностей этих ландшафтов (Antrop, Pinto Correia, 2011, р. 207).
5 Эрвин Ласло (Ervin Laszlo; г. р. 1932) – венгерский философ, футуролог, пианист. В 1993 г. становится основателем и президентом Будапештского клуба (международная неформальная организация, созданная для мобилизации всех культурных ресурсов человечества для решения будущих задач). Дважды номинирован на Нобелевскую премию мира; выступил инициатором проведения Мирового дня планетарного сознания (20 марта) и Мирового дня планетарной этики (22 сентября).
*
Так как эта статья – комментарии к переводу работы З. Наве (2019), попробуем все-таки разобраться, что представляет собой концепция Всеохватывающей экосистемы с человеком (Total Human Ecosystem [THE; в дальнейшем буду пользоваться именно этой аббревиатурой]), и как в этом свете соотносятся ландшафтная экология и экономическая география.
Экоцентрическая концепция ТНЕ ставит своей целью изучение «экосистем с человеком» для повышения эффективности планирования и управления окружающей средой в рамках комплексного и междисциплинарного подхода. Эта концепция объединяет техносферу, ноосферу и биосферу Земли в некую общую среду на самом высоком коэволюционном уровне (Наве часто в качестве синонима ТНЕ использует понятие «экосфера»). Впервые термин «экосфера» предложил Л. Кол (Cole, 1958), но исследователи вкладывают в него весьма различающееся содержание. Приведу несколько определений. • «Экосфера (от эко... и греч. sphaira – шар, сфера), экологическая сфера, биологическая система, включающая живые организмы и окружающую их среду, с которой они взаимодействуют. В этом смысле термин используется Б. Коммонером (1974), Иногда Э. используется как синоним биосферы . Термин предложил Л. Кол (Соlе, 1958)» (Дедю, 1989).
-
• «Можно сказать, что человечество состоит из этносов, и развитие этносов определяет развитие человечества. А само человечество – это суперэтнос. И этот суперэтнос вместе с окружающей его средой (живой и косной материей) образует единую экологическую систему Земли, планетарную экологическую нишу. Без всякого труда и сомнений её можно назвать экологической оболочкой Земли или экосферой » (Павлов, 2013, с. 150).
-
• «Экосфера: 1) совокупность абиотических объектов и характеристик Земли, создающая на ней условия для развития жизни (т. е. биотоп биосферы ) <…>; 2) синоним биосферы (редко, главным образом в иностранной литературе); 3) совокупность свойств пространства, находящегося под влиянием космического тела <…>; 4) среда развития хозяйства; 5) синоним окружающей человека среды » (Реймерс, 1990, с. 600).
-
• «Итак, экосфера = современная биосфера + техносфера. В таком понимании экосфера предстает как арена взаимодействий чело-
века и природы, на которой сосредоточены все современные экологические проблемы и коллизии. Экосфера становится главным объектом современной "большой" экологии» (Акимова и др., 2001, с. 29).
-
• «Глобальная экология ( чуть выше Реймерс в качестве синонима использует понятие «экосферология». – Г.Р. ) выходит за рамки биосферы, изучая всю экосферу планеты как космического тела. В изучении экосистем доступно выделить географическую, или ландшафтную, экологию (крупных надбиогеоценотических экосистем). Её называют также геоэкологией» (Реймерс, 1994, с. 15).
В той или иной интерпретации понятие «экосфера» (ТНЕ) продолжает использоваться в научной литературе (Ehrlich et al., 1971; Ком-монер, 1974; Павлов, 2006; Мунин, Кочуров, 2013, 2015 и др.). Не буду оригинальным, и приму следующую формулу:
биосфера + ноосфера + техносфера=экосфера .
Иными словами, можно смело принять за аксиому тот факт, что современные глобальные экологические проблемы являются результатом столкновения между техносферой и ноосферой с одной стороны, и биосферой, – с другой; причем, в этом столкновении техносфера играет активно-агрессивную роль. Если пользоваться экологической терминологией, то речь, в сущности, идет о процессе конкурентного вытеснения биосферы техносферой (оккупация планеты), всё возрастающей экспансии человеческой цивилизации. Поскольку техносфера, ноосфера и биосфера находятся в постоянном взаимодействии, их сумму можно представить, как единую систему – экосферу (ТНЕ). Именно человечество, ресурсы и продукты его производства оказывают серьезное влияние на процессы, протекающие в экосфере, вмешиваются в природный круговорот, изменяя его сбалансированность и гармоничность.
«Всеохватывающая экосистема с человеком (Total Human Ecosystem – THE), объединяющая людей со всеми другими организмами и их общей средой на самом высоком уровне глобальной иерархии, должна стать объединяющей целостной парадигмой для всех синтетических "экодисциплин"» (Naveh, 2005, p. 228).
В переведенной статье З. Наве (2019, с. 26) читаем: «совместные исследования должны подчеркивать эволюционный характер экологических и социальных компонентов, используя передовые системные теории целостности и сложности». Именно здесь уместно еще раз повторить свое видение проблем сложности окружающего нас мира (см. [Розенберг, 2013, Т. 1]).
* *
*
Каждая система определяется некоторой структурой (элементы и взаимосвязи между ними) и поведением (изменение системы во времени). Для системологии они являются такими же фундаментальными понятиями, как пространство и время для физикализма (кстати, для последнего они являются изначально неопределяемыми понятиями). В системологии под структурой понимается инвариантная во времени фиксация связей между элементами системы, формализуемая, например, математическим понятием «графа». Под поведением системы понимается ее функционирование во времени. Изменение структуры системы во времени можно рассматривать как ее сукцессию и эволюцию. Различают неформальную структуру системы (в качестве элементов которой фигурируют «первичные» элементы, вплоть до атомов) и формальную структуру (в качестве элементов фигурируют системы непосредственно нижестоящего иерархического уровня).
Сложность системы на «структурном уровне» задается числом ее элементов и связей между ними. Дать определение «сложности» в этом случае крайне трудно: исследователь сталкивается с так называемым «эффектом кучи» (один шар – не куча, два шара – не куча, три – не куча, а вот сто шаров – куча, девяносто девять – куча; так, где же граница между «кучей» и «не кучей»?). Кроме того, относительность понятия «структура» (деление на формальную и неформальную структуры) заставляет вообще отказаться от него при определении сложности системы. Определить, что такое «сложная система» на «поведенческом уровне» представляется более реалистичным.
Б.С. Флейшман (1978) предложил пять принципов усложняющегося поведения систем (некоторые подробности см. [Розенберг, 2013, Т. 1, с. 8-54] и рис. на этой странице).
На первом уровне находятся системы, сложность поведения которых определяется только законами сохранения в рамках вещественноэнергетического баланса (например, камень, лежащий на дороге); такие системы изучает классическая физика . Этот самый низкий уровень сложности сохраняется для всех систем, вплоть до систем высших уровней сложности, но уже не является для них определяющим.
На втором уровне располагаются системы с более сложным поведением. Они тоже состоят из вещества и энергии и для них справедливы законы первого уровня, но их особенностью суперсложные (ТНЕ)
V-й уровень: рефлексия
IV-й уровень: преадаптация сложные

Рис. Уровни усложняющегося поведения систем является наличие обратных связей, что и задает более сложное поведение (примером является кибернетическая «мышь Шеннона», способная «находить» путь в лабиринте); функционирование таких систем изучает кибернетика. Принцип гомеостаза сохраняется для всех систем, более сложных по поведению, чем автоматические системы второго уровня, но он уже не является для них определяющим.
Еще более сложным поведением обладают системы третьего уровня : они состоят из вещества и энергии, обладают обратными связями, но для их поведения определяющим является способность «принимать решение», т. е. способность осуществлять некоторый выбор (случайный, оптимальный или иной) из ряда вариантов поведения («стимул – реакция»). Так, Н.П. Наумов (1973а) показал, что возможен опосредованный через среду обитания обмен опытом между особями, поколениями одного вида и разными видами, т. е., по существу, обмен информацией.
Системы четвертого уровня выделяются по способности осуществлять перспективную активность или проявлять опережающую реакцию («реакция – стимул»). Этот тип поведения возникает на уровне биосистем, более сложных, чем простейшие биосистемы, но еще не таких, которые обладают интеллектом. Уровень их сложности должен превосходить уровень сложности среды, и они должны обладать достаточно мощной памятью (например, генетической). «Помня» исходы своих взаимодействий со средой до данного момента времени и пола- гаясь на то, что «завтра будет примерно то же, что и сегодня», такие биосистемы могут заранее подготовить свою реакцию на возможное будущее воздействие среды. Для особей этот принцип известен как эффект перспективной активности (Бернштейн, 1962), для популяций – эффект преадаптации (Георгиевский, 1974; Кулагин, 1974). В последнем случае хорошим примером может служить «колоколовидный» характер распределения численности популяции вдоль некоторого градиента среды: большая часть популяции, близкая к модальному классу, «помнит» о типичных изменениях данного фактора, крайние (малочисленные) классы – о более резких и значительных изменениях.
Наконец, высший (на сегодняшний день), пятый уровень сложности объединяет системы, связанные поведением интеллектуальных партнеров, основанных на рассуждениях типа «он думает, что я думаю» и т. д. (классический пример – шахматная партия и просчет соперниками возможных вариантов ее развития). По-видимому, непосредственно к экологии этот тип поведения не имеет отношения, но он становится определяющим при рациональном природопользовании и, особенно, социальных аспектах взаимодействия «Человек – Природа» (пятый уровень сложности, таким образом, соответствует ТНЕ).
Системы, включающие в себя в качестве хотя бы одной подсистемы решающую систему (поведению которой присущ акт решения), будем называть сложными (системы 3-5 уровней; такие системы изучает системо-логия ). Таким образом, системы 1 и 2 уровней соответствуют проблеме простоты У. Уивера (2019, Розенберг, 2019); сложные системы 5-го уровня – это объекты организованной сложности Уивера (фактически, ТНЕ по Наве) или третьей парадигмы В.М. Еськова (2011; Филатова и др., 2012; Еськов и др., 2016, 2017а,б). Несколько цитат в контексте этих рассуждений.
«В истории человечества возникли и успешно развиваются две базовые парадигмы, два подхода в науке, образовании, культуре, идеологии: детерминистская парадигма и с тохастическая . До настоящего времени сравнения или особого противопоставления между этими подходами (парадигмами) в науке не производилось, а в остальных областях деятельности человека <…> сравнения и противопоставления производились малоосознанно или не в рамках научных подходов. Иная ситуация возникла при появлении третьей, синергетической парадигмы, которая существенно отличается от двух предшествующих, и которая настоятельно требует научного сопоставления и анализа. Более того,
синергетическая парадигма породила неопределенность во всех сферах деятельности человека и это потребовало нового осмысления и понимания происходящего и в первую очередь роли и места неопределенности в жизни каждого человека и всего человечества. Строго говоря, сама эта неопределенность породила синергетику…» (Еськов, 2011, с. 5).
« Рассматривая отличия между этими тремя Парадигмами, мы вводим философские категории определенности – неопределенности, прогнозируемости – непрогнозируемости. При переходе от детерминистской парадигмы к синергетической степень неопределенности в динамике поведения различных систем возрастает (а именно прогноз резко падает). Для идентификации этих парадигм необходимо выявление параметров порядка для задания внешних управляющих воздействий в управлении и прогнозе процессов» (Еськов и др., 2016, с. 211).
«Можно договориться об общих принципах управления или создать типовые механизмы управления, но динамику процессов развития сложных систем повторить невозможно! Еще древние греки говорили: "Все течет и изменяется". W. Weawer выделял такие системы (complexity) в особый класс "организованной сложности", а мы в ТХС ( теория хаоса – самоорганизации. – Г.Р. ) определили их основные свойства и методы их описания. Но если это хаотическая система, то ею можно управлять за счет внешних управляющих воздействий в пределах некоторых квазиаттракторов. В социуме ограничителями являются законы и нормы морали. Они должны переводить общество из хаоса анархии в стохастику (демократия) и даже детерминизм (авторитарные системы)» (Еськов и др., 2016, с. 31).
«На сегодня мы выделяем три глобальные парадигмы во всей современной науке, которые охватывают три глобальных кластера всех процессов и объектов живой и неживой природы. Впервые об этом как-то аргументировано и логично пытался сказать W. Weaver в 1948 г. в своей известной публикации "Science and complexity". Однако за эти неполные 70 лет на это практически никто не обратил внимание (хотя он говорил весьма просто о важнейших вещах). Weaver разделил все объекты и системы в природе на три гигантских кластера: простейшие системы (simpli-city), которые описываются сейчас в рамках детерминистских теорий и моделей, неорганизованная сложность (стохастические системы) и организованная сложность (organi-zed complexity). Под системой третьего типа он понимал все живые системы, но ника- ких особенностей в их организации W. Weaver не выделил и не изучил. Сейчас уже понятно, что этого он не мог бы сделать в рамках современной науки, т. к. для этого нужна другая (третья) парадигма и другая наука» (Еськов и др., 2017б, с. 45).
Стремление системы достигнуть предпочтительного для нее состояния будем называть целенаправленным поведением , а это состояние – её целью . Целями обладают лишь сложные системы.
* *
*
Еще один интересный аспект статьи З. Наве (2019) – это использование концепции аутопоэ-зиса (самопроизводства жизни, живых существ; одной из современных попыток выразить критерий жизни). Эта концепция была разработана в конце 1971 г. чилийскими исследователями У. Матураной и Ф. Варелой.
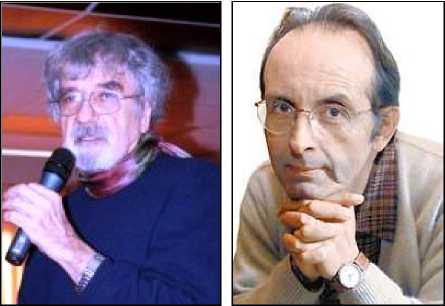
-
У. Матурана Ф. Варела
-
У. Матурана (Humberto Augusto Romesín Maturana; г. р. 1928) – чилийский нейробиолог, философ, работающий на стыке биологии и эпистемологии. Совместно со своим студентом, а затем коллегой, нейробиологом и философом Ф. Варелой (Francisco Javier García Varela; 1946-2001) в начале 1970-х годов разработал концепцию аутопоэзиса (Матурана, 1995; Князева, 2005, 2014; Hallowell, 2009; Дамье, 2016; Кацевич, 2017). Взгляды Матураны–Варелы, которые иногда называют «теорией Сантьяго» (см., например, [Капра, 2003]), представляют собой вариант эволюционной эпистемологии (теория познания, являющаяся разделом эпистемологии и рассматривающая рост знания как продукт биологической эволюции [Эволюционная эпистемология.., 2000]). Военный переворот 1973 г. в Чили вынудил Матурану и Варелу покинуть страну. Они работали порознь, однако позднее, в 1980 г., возобновили сотрудничество в Сантьяго, результатом чего
-
стала вышедшая в 1984 г. и получившая широкую международную известность книга «Древо познания» (Матурана, Варела, 2001). В 1994 г. Матурана получил Национальную научную премию Чили в области биологии.
Итак, концепция аутопоэзиса, как уже отмечалось выше, это еще одна попытка найти критерий жизни (фактически, ответить на вопрос: где граница между косной и биокосной материей?).
В качестве критерия жизни предлагается рассмотреть, так называемые, аутопоэзиские системы , для которых выполнены следующие пять условий:
-
• Система представляет собою сеть взаимодействий на некотором множестве элементов (каждый элемент влияет на каждый [в смысле причинно-следственных отношений]).
-
• В качестве элементов сети выступают процессы .
-
• Это физические процессы.
-
• Это процессы воспроизводства системы, т. е. результатом этих процессов является постоянное восстановление и возможное изменение системы.
-
• Граница сети – также один из элементов сети, т. е. она находится в сетевом взаимодействии со всеми остальными элементами.
Таким образом, ключевой момент этой концепции («теории Сантьяго») состоит в отождествлении процесса познания с процессом жизни (Varela, 1999; Capra, 2002; Капра, 2004). Познание, согласно Матуране и Вареле, – это деятельность, являющаяся частью самовоспро-изводства и самосохранения живых сетей. Иными словами, познание – это и есть, собственно, процесс жизни. Ментальная деятельность – это организующая деятельность живых систем на всех уровнях жизни. Взаимодействия живого организма – растения, животного или человека – с окружающей его средой (то, чем занимается экология) суть когнитивные взаимодействия. Жизнь и познание неразрывно связаны. «Это – радикальное расширение концепции познания, а тем самым и концепции разума. С этой новой точки зрения познание охватывает весь процесс жизни – в том числе восприятие, эмоциональную деятельность и поведение – и не имеет своим непременным условием наличие мозга и нервной системы» (Капра, 2004, с. 56). Более того, Ф. Капра6 (2003) даже предлагает рассматривать синергетику как теорию организации аутопоэзиских систем.
Все мои рассуждения об аутопоэзисе (в контексте комментариев переводчика) потребовались лишь для того, чтобы объяснить (как мне кажется) интерес З. Наве к этой концепции: «Солнечная энергия и ее биологическое и химическое преобразование посредством фотосинтеза и ассимиляции автотрофными организмами приводят в движение как природные, так и полуестественные биоэкотопы, такие как леса, лесные массивы, луга, водно-болотные угодья, реки и озера. Эти экотопы содержат спонтанно развивающиеся и размножающиеся организмы, от которых зависит будущая биологическая эволюция. Как адаптивные, самоорганизующиеся системы, они внутренне регулируются природной биологической, физической и химической информацией и способны само-организовываться в процесс аутопоэзисного непрерывного самообновления. <…> Благодаря недавнему пониманию самоорганизации ауто-поэзисных систем и их кросс-катали-тических сетей, теперь можно выразить эти новые симбиотические отношения между природой и обществом в надежных и даже механистических терминах и перевести их в устойчивое развитие» (Наве, 2019, с. 30, 31).
* *
*
И еще несколько вопросов, ответов и «мыслей вслух». «Зачем экономистам экология, а экологам – экономика?» (в полном соответствии с названием одной из моих статей [Розенберг, 1994]). Вопрос далеко не праздный. Кажется, была экономическая география, вполне достойная научная дисциплина, изучающая территориальную организацию экономической жизни общества, законы и закономерности его развития (замечу, что термин «экономическая география» был введен самим Михайло Васильевичем Ломоносовым…). Но, как писал Николай Карамзин – «ничто не ново под луною». Как только в стране начались процессы по обновлению содержания и структуры университетского образования (в том числе и экономического), неизбежно возникли десятки
«Центра экологической грамотности», расположенного в Беркли (Калифорния), который продвигает экологию и системное мышление в первичном и вторичном образовании. Все его научно-популярные работы имеют общий подтекст: «между всем существуют скрытые связи» (в полном соответствии с законом-афоризмом Б. Коммонера [1974] «Всё связано со всем»).
новых экономических дисциплин, отражающих современные реалии, связанные, прежде всего, с изменением типа экономического развития и переходом к рыночной экономике, которые потеснили некоторые устаревшие и традиционные дисциплины. Издано и переведено огромное количество новых книг, в том числе лучших западных учебников. Присоединение страны к Болонскому процессу сделало неизбежным формирование новой двухступенчатой структуры образования «бакалавр – магистр». Но, как мне кажется, в этом захватывающем процессе разрушения «до основанья, а затем…» как раз и пострадала, ни в чем не повинная «экономическая география». Её в коридорах Минобразования решено было поменять на экологию.
Не буду вдаваться в разумность и эффективность такого решения (хотя и имею свою точку зрения на это явление и не скрываю её [Розенберг, 2017]); мне кажется, что такая замена все-таки лучше той, когда в школе увеличивают часы по физкультуре за счет естественнонаучных предметов. Но вернемся к экологии.
Экология (ойкос – дом, логия – наука) – наука о доме; экономика (ойкос – тот же дом, номос – правило ведения хозяйства) – наука о ведении этого дома. Очень близкие, по существу, понятия, которые, конечно, не противоречат, а только дополняют друг друга.
Пусть меня простят экономисты («каждый кулик хвалит свое болото…»), но наличие множества экономических дисциплин с хорошо развитой теорией, нередко обширным и продвинутым математическим аппаратом создает иллюзии понимания и возможности управления экономическими процессами. К сожалению, это не соответствует реалиям как российской, так и общепланетарной жизни. Глобальная экономика привела к критическим проблемам в существовании самого человечества, и экономическая теория оказалась бессильна предотвратить и решить их. Здесь можно назвать только глобальные экологические проблемы, каждая из которых порождена в значительной степени неуправляемым экономическим воздействием человека. Упомяну лишь проблему глобального изменения климата, привлекшую пристальное международное внимание и вызвавшую огромное количество публикаций. Таким образом, развитие нашей цивилизации неустойчиво, и будущее может принести глобальные кризисы в самых различных сферах – экологической, экономической, социальной. Наверное, это самый важный и первый аргумент в пользу изучения экологии .
система с человеком (городская, промышленная, агропромышленная) – основана на ископаемой энергии. ТНЕ объединяет все эти представления, ставя в основу ландшафты (вполне осязаемые трехмерные системы) и информационные процессы в них (в ландшафтной экологии они связаны с представлениями о биологическом сигнальном поле [Наумов, 1973б; Мозговой, Розенберг, 1992; Мозговой и др., 1998; Никольский, 2003; Ванисова, Никольский, 2012; Рожнов, 2013] или с концепцией экологического поля [Farina, 2000, 2006; Farina, Belgra-no, 2004]).
Особый тип ландшафтов в рамках ТНЕ – это культурные ландшафты, в которых отношения между человеческой деятельностью (как эффективной, основанной на экологии, управлением землей или морем) и окружающей средой создали экологические, социальноэкономические и культурные модели и механизмы обратной связи, которые сохраняют биологическое и культурное разнообразие и поддерживают (или лучше улучшают) устойчивость и экосистем и способствуют устойчивому развитию ТНЕ. В этом контексте принципиально важен экономический механизм поддержания устойчивого развития, которому и посвящена переведенная выше статья З. Наве (2019).
* *
*
Между географией и экологией (как ни крути, – науки о Природе и Человеке) имеются многочисленные точки соприкосновения. «По существу, перед обеими науками стоят близкие цели и задачи. Известный немецкий географ Карл Тролль писал в 1970 г., что география и экология, в конце концов, сольются в единую науку " ecoscience "» (цит. по: [Исаченко, 2003, с. 23]; добавлю, что через 20 лет, с 1993 г. [Квебек, Канада] стал издаваться международный журнал «Ecoscience»). К.М. Петров (1994, с. 6) считает, что «в современных научных исследованиях объекты экологии и географии часто сливаются. Поэтому возникла необходимость в интегрирующей науке – геоэкологии , географической экологии ». Можно долго спорить, кто «главнее» среди этих двух достопочтимых научных дис-циплин 7 : «В дискуссии о соотношениях экологии и географии возникает, казалось бы, неожиданный ракурс: речь, в сущности, должна идти о географизации экологии . <…> Экологическую географию (сокращенно – экогеографию ) можно кратко определить, как раздел географической
Соглашусь с заведующим кафедрой экономики природопользования, профессором Московского госуниверситета С.Н. Бобылевым (2008, Бобылев, Захаров, 2009), который указывает на несколько критических проблем, нерешенных традиционной рыночной экономикой; в частности, на первое место он ставит недооценку или отсутствие цены на многие природные ресурсы и экосистемные услуги. Печальное и жёсткое правило рыночной экономики: «То, что не имеет цены, не существует, не учитывается в процессе хозяйственных решений». В этом контексте, именно знание некоторых фундаментальных законов современной экологии (еще раз подчеркну, как естественнонаучной дисциплины) и должно помочь сделать экономический процесс в мире более устойчивым. Это второй аргумент в пользу изучения экологии экономистами .
Третий аргумент «за» заключается в том, что экология, экономика и социология (три науки, которые во многом будут определять лицо этого столетия) имеют в своей основе также сравнительно новую, но принципиально отличающуюся от парадигмы естественнонаучного подхода науку, – системологию, или науку о сложных системах, о которых говорит и З. Наве. И поэтому, изучая экологию, в которой систе-мология «широко пустила корни», можно получить представление и о системологических основах экономики.
Наконец, последний аргумент : в 1992 г. прошел крупнейший в истории человечества саммит ООН в Рио-де-Жанейро, где впервые были озвучены представления об «устойчивом развитии – sustainable development». Смысл этих представлений сводится к тому, что устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы; сегодняшнее развитие не должно осуществляться во вред будущим поколениям – мы не передаем ресурсы в наследство детям, а берем у них взаймы.
Взаимодействия в системе «Природа – Человек» сегодня стали движущей силой Всеохватывающей экосистемы Земли с человеком (Total Human Ecosystem, Экосфера). Мета-концептуальный подход к ТНЕ должен объединять подходы биологических, географических социальных и гуманитарных наук, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию окружающей среды и стимулировать развитие экосферы к устойчивому будущему. З. Наве считает, что естественная экосистема в рамках этой концепции энергетически связана, прежде всего, с солнечной энергией, способна к самоорганизации и «самотворению» (аутопоэзис); эко- 40
7 Как ответ р е бе в старом анекдоте: «И ты – прав, и ты – прав, и ты, Сарра, – тоже права…».
науки, или особое исследовательское направление в ней, предметом которого является изучение географической среды с экологической (точнее – гуманитарно-экологической) точки зрения и в целях решения экологических проблем человечества» (Исаченко, 2003, с. 26, 28). Было бы совсем неоправданно в охватившем всех наукотворчестве потерять не только экономическую, но и географию вообще. История развития этой науки «была связана с изучением природы, общества и его деятельности как единой системы и был накоплен уникальный теоретический багаж ее исследования. <…> География изначально была экологичной, но внутренние распри, размежевание физической и экономической географии, увлечение проектами преобразования природы вынуждают экологизировать географию заново» (Андреев, 2012, с. 221).
И еще, о самой большой из известных экосистем – биосфере. Основоположник учений о биосфере и ноосфере В.И. Вернадский (2004) считал появление человека и его научной мысли исторически неизбежным и естественным этапом развития биосферы. Необходимыми условиями создания ноосферы он считал равенство всех людей и исключение войн из жизни общества, подъем благосостояния населения, открытие новых источников энергии, усовершенствование средств связи и обмена, научное и культурное объединение всего человечества и пр. Время показало, что концепция о человеческом разуме как ведущей силе преобразования биосферы была слишком оптимистичной. И по мнению академика Н.Н. Моисеева (1990, с. 226), человечество ожидает длительный и весьма трудный процесс совместного преобразования природы и социума, причем решающее значение в его деятельности будет иметь формирование цивилизации, отвечающей новым потребностям человека, согласованной с новыми реалиями окружающей природы. Дискуссии продолжаются и можно считать, что и З. Наве своими представлениями о ТНЕ (фактически, о социо-эколого-экономическом ландшафте) внес свой вклад в эти размышления о судьбах человечества.
И завершая свои комментарии, отмечу, что «дело Наве живёт и побеждает»: в Милане (Италия) 1-9 июля 2019 г. пройдет Х-й Всемирный конгресс International Association Landscape Ecology (IALE 2019); один из его симпозиумов планируется посвятить теме «Природа и общество, стоящие перед антропоценом: проблемы и перспективы ландшафтной экологии». Как написано в информационном письме, эту тему можно интерпретировать весьма широко, чтобы охватить, среди прочего, следующие 41
проблемы: ландшафтные сценарии будущего; количественные оценки экосистемных услуг; мониторинг среды обитания и ландшафтов; новые ландшафты (морские пейзажи, подземные ландшафты; искусственные места обитания…); энергетические и пищевые ландшафты; сохранение биоразнообразия в ландшафтах, где преобладают люди; история ландшафтов; экология дорог; социальное воздействие ландшафтной политики; устойчивость в ландшафтных масштабах; новые технологии для ландшафтного мониторинга; природные решения и зеленая инфраструктура. При этом, антропоцен (в данном контексте и это подчеркивается в информационном письме) – это ТНЕ, предложенная З. Наве, т. е. имеет место признание роли Homo sapiens в поддержании равновесия ТНЕ Земли. Новые ландшафты, новое поведение человека, и связанные с этим новые и неожиданные проблемы могут способствовать переосмыслению социо-экологических законов и инициировать новые практические действия.
Список литературы Биосфера + ноосфера + техносфера = экосфера (Вернадский и Наве)
- Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа - Человек - Техника: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 343 с.
- Андреев М.Д. Геоэкология - интегративное научное направление в географии. М.: Спутник+, 2012. 318 с.
- Бернштейн Н.А. Новые линии развития в физиологии и их отношения с кибернетикой // Вопр. философии. 1962. № 3. С. 35-42.
- Бобылев С.Н. Экономика знаний и устойчивое развитие. М.: ИНФРА-М, 2008, 432 с.
- Бобылев С.Н., Захаров В.М. Экосистемные услуги и экономика. М.: ООО «Типография ЛЕВ-КО», 2009, 72 с.
- Ванисова Е.А., Никольский А.А. Биологическое сигнальное поле млекопитающих (к 110-летию со дня рождения профессора Н.П. Наумова) // Журн. общ. биол. 2012. Т. 73, № 6. С. 403-417.
- Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2004. 576 с.
- Георгиевский А.Б. Проблемы преадаптации. Л.: Наука, 1974. 234 с.
- Дамье В.В. Кропоткин и биология аутопоэзиса. 2016. (https://aitrus.info/node/4550).
- Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Гл. редакция Молдавской советской энциклопедии, 1989. 408 с.
- Еськов В.М. Третья парадигма. Самара: ООО «Офорт», 2011. 250 с.
- Еськов В.М., Галкин В.А., Филатова О.Е. Конец определенности: хаос гомеостатических систем. Тула: ООО «ТППО», 2017а. 596 с.
- Еськов В.М., Еськов В.В., Филатов М.А. Философия complexity: гомеостаз и эволюция. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 370 с.
- Еськов В.М., Зинченко Ю.П., Журавлева О.А., Филатова О.Е. Три глобальные парадигмы естествознания и обоснование третьей парадигмы в психологии и медицине // Вестн. новых медицинских технологий. 2017б. Т. 24, № 1. С. 45-54.
- Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономиче-ских систем. Материалы Междунар. конф. (1921 мая 2014 г., Самара - Тольятти) / Под ред. В.М. Захарова, Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова, Г.Р. Ха-саева. Самара; Тольятти: Кассандра; Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. 246 с.
- Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 192 с.
- Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. К.: «София»; М.: ИД «София», 2003. 310 с. (глава 11).
- Капра Ф. Скрытые связи: наука для устойчивой жизни. М.: ИД «София», 2004. 336 с.
- Кацевич Д. Биография Франсиско Варелы // Сайт «Люди, биографии, истории, факты, фотографии». 2017. (https://www.peoples.ru/science/ bio1ogy/francisco_vare1a/).
- Князева Е.Н. Творческий путь Франсиско Варелы: от теории автопоэзиса до новой концепции в когнитивной науке // Вопр. философии. 2005. № 8. С. 91-104.
- Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 352 с. (раздел 11.2).
- Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 280 с.
- Котляков В.М. География как важнейшая наука об окружающей среде // Экология и жизнь. 2012. № 1. С. 36-42.
- Котляков В.М., Дроздов А.В. От изучения территориальной организации природы и общества к экологическому планированию и управлению // Экологическое планирование и управление. 2008. № 2. С. 4-9.
- Кудинова Г.Э. Устойчивое развитие экономико-экологических систем региона. Тольятти: Кассандра, 2013. 130 с.
- Кудинова Г.Э. Устойчивое развитие и экомо-дернизация эколого-экономических систем региона бассейна крупной реки. Тольятти: Кассандра, 2015. 209 с.
- Кулагин Ю.З. Преадаптации и экологический прогноз // Журн. общ. биол. 1974. Т. 35, № 2. С. 223227.
- Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1995. С. 95-142.
- Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 224 с.
- Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли. М.: Мысль, 1970. 208 с.
- Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты: очерки антропогенного ландшафтоведения. М.: Мысль, 1973. 224 с.
- Мозговой Д.П., Мозговая О.А., Розенберг Г.С. Экология: Человек в биосфере: учебное пособие. Самара: Изд-во «Универс групп», 2007. 196 с.
- Мозговой Д.П., Розенберг Г.С. Сигнальное биологическое поле млекопитающих: теория и практика полевых исследований. Учебное пособие. Самара: СамГУ, 1992. 119 с.
- Мозговой Д.П., Розенберг Г.С., Владимирова Э.Д. Информационные поля и поведение млекопитающих: Учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1998. 92 с.
- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Мир, 1990. 376 с.
- Мунин П.И., Кочуров Б.И. Трансдисциплинарная геоэкология в демографическом контексте но-осферогенеза // Проблемы региональной экологии. 2013. № 5. С. 48-52.
- Мунин П.И., Кочуров Б.И. Устойчивое развитие и социальное счастье в трансдисциплинарном аспекте // Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, № 3. С. 24-34.
- Наве З. Всеохватывающая экосистема с человеком: интеграция экологии и экономики // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 3. С. 25-32.
- Наумов Н.П. Теоретические основы и принципы экологии // Современные проблемы экологии. М.: Наука, 1973а. С. 3-20.
- Наумов Н.П. Сигнальные биологические поля и их значение для животных // Журн. общ. биол. 1973б. Т. 34, № 5. С. 808-817.
- Никольский А.А. Экологические аспекты концепции биологического сигнального поля млекопитающих // Зоол. журн. 2003. Т. 82, № 4. С. 443-449.
- Павлов А.Н. Начала экологической культуры: учеб. пособие. СПб.: РГГМУ, 2006. 205 с.
- Павлов А.Н. Евангелие от науки. СПб. : RUSSIKA.RU, 2013. 171 с.
- Петров К.М. Геоэкология: основы природопользования. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1994. 216 с.
- Районирование территорий: принципы и методы / Под ред. Р.С. Кузнецовой, Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова. Тольятти: Анна, 2018. 308 с.
- Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.
- Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с.
- Розенберг Г.С. [Рецензия] // Журн. общ. биол. 1985. Т. 46, № 1. С. 136-137. - Рец. на кн.: Наве З., Либерман А. Ландшафтная экология. Теория и приложение. 1983. 336 с.
- Рожнов В.В. Биологическое сигнальное поле и концепция опосредованной хемокоммуникации // Фундаментальные и прикладные исследования и образовательные традиции в зоологии: Материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 135-летию Томского гос. ун-та. Томск: Изд. Дом Томского гос. ун-та, 2013. С. 96.
- Розенберг Г.С. Экологическая экономика и экономическая экология: состояние и перспективы (с примерами по экологии Волжского бассейна) // Экология. 1994. № 5. С. 3-13.
- Розенберг Г.С. Введение в теоретическую экологию / В 2-х т.; Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Тольятти: Кассандра, 2013. Т. 1. 565 с. Т. 2. 445 с.
- Розенберг Г.С. РАН, ФАНО, ВАК, WoS, ХИРШ и другие буквосочетания, или что принесла «перестройка» фундаментальной науки и образования?.. // Акценты. Новое в массовой коммуникации (Альманах). 2017. Вып. 5-6 (148-149). С. 5-24.
- Розенберг Г.С. Комментарий переводчика статьи Уоррена Уивера // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 1. С. 178-184.
- Розенберг Г.С., Гальперин И.Д. Дом Человека (диалоги об экологии). Уфа: Башк. кн. изд-во, 1988. 104 с.
- Уивер У. Наука и сложность / Пер. с англ. Г.С. Розенберга // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 1. С. 171-177.
- Флейшман Б.С. Системные методы в экологии // Статистические методы анализа почв, растительности и их связи. Уфа: ИБ БФАН СССР, 1978. С. 728.
- Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М.: Эди-ториал УРСС, 2000. 464 с.
- Юрина В.С. Устойчивое развитие и экологический аудит социо-эколого-экономических систем. Тольятти: Кассандра, 2013. 90 с.
- Юрина В.С. Устойчивое развитие и экологический аудит социо-эколого-экономических систем территориально-промышленных комплексов. Тольятти: Кассандра, 2017. 160 с.
- Antrop M., Pinto Correia T. In memoriam Zev Naveh (1919 Amsterdam - 2011 Haifa). Landscape and Urban Planning. 2011. V. 102, No. 4. P. 207-208.
- Capra F. The Hidden Connections: Inte-grating the Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life into a Science of Susta-inability. London: Harper Collins, 2002. 320 p.
- ^te L. The Ecosphere // Scientific American. 1958. V. 198, No. 4. P. 83-92.
- Ehrlich P.R., Holdren J.P., Holm R.W. Man and the Ecosphere; Readings from Scientific American. San Francisco: W.H. Freeman, 1971. 307 p.
- Farina A. The cultural landscape as a model for the integration of ecology and economics // Bioscience. 2000. V. 50, No. 4. P. 313-320.
- Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Towards a Science of the Landscape. Dordrecht (Netherlands): Springer, 2006. 412 p.
- Farina A., Belgrano A. The eco-field: a new paradigm for landscape ecology // Ecol. Res. 2004. V. 19. P. 107-110.
- Hallowell R. Humberto Maturana and Francisco Varela's contribution to media ecology: autopoiesis, the Santiago School of cognition, and enactive cognitive science // Proceedings of the Media Ecology Association. 2009. V. 10. P. 143-158.
- Laszlo E. The choice: evolution or extinction? N. Y.: Tarcher/Putnam, 1994. 315 p.
- Laszlo E. Macroshift: Navigating the Transformation to a Sustainable World. San Francisco: Berrett-Koehler Publ., 2001. 218 p.
- Naveh Z. The Total Human Ecosystem: integrating ecology and economics // BioScience. 2000. V. 50, No. 4. P. 357-361.
- Naveh Z. Epilogue: toward a transdisciplinary science of ecological and cultural landscape restoration // Restorat. Ecol. 2005. V. 13, No. 1. P. 228-234.
- Naveh Z. Transdisciplinary Challenges in Landscape Ecology and Restoration Ecology - An Anthology. Dordrecht (The Netherlands): Springer, 2007. 426 p.
- Naveh Z., Lieberman A.S. Landscape Ecology: Theory and Application. N. Y.: Springer-Verlag, 1983. 336 p. (2nd ed. 1994. 360 p.).
- Pickett S. Where did Urban Ecology Come From? Zev Naveh and the Total Human Ecosystem // URL. https://besdirector.blogspot.com/2016/01/where-did-urban-ecology-come-from-zev.html.
- Varela F. Present-Time Consciousness // J. Consciousness Studies. 1999. V. 6, No. 2-3. P. 111-140.