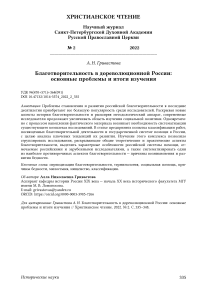Благотворительность в дореволюционной России: основные проблемы и итоги изучения
Автор: Гривастова Алла Николаевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
Проблемы становления и развития российской благотворительности в последние десятилетия приобретают все большую популярность среди исследователей. Раскрывая новые аспекты истории благотворительности и расширяя методологический аппарат, современные исследователи продолжают увеличивать область изучения социальной политики. Одновременно с процессом накопления фактического материала возникает необходимость систематизации существующего комплекса исследований. В статье предпринята попытка классификации работ, посвященных благотворительной деятельности и государственной системе помощи в России, с целью анализа ключевых тенденций их развития. Изучение этого комплекса позволило сгруппировать исследования, раскрывающие общие теоретические и практические аспекты благотворительности, выделить характерные особенности российской системы помощи, отмечаемые российскими и зарубежными исследователями, а также систематизировать один из наиболее противоречивых аспектов благотворительности - причины возникновения и развития бедности.
Периодизация благотворительности, терминология, социальная помощь, причины бедности, милостыня, нищенство, классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/140293648
IDR: 140293648 | УДК: 94(470+571)+364(091)
Текст научной статьи Благотворительность в дореволюционной России: основные проблемы и итоги изучения
Комплекс проблем, разрабатываемых исследователями в области изучения истории благотворительности в течение последних 200 лет, значительно расширил рамки понимания социальной помощи во многих аспектах. Сформированный на сегодня комплекс исследований, посвященных благотворительности и социальной политике, обширен. С точки зрения проблематики его можно разделить на несколько групп:
-
— разбор историографии;
-
— история становления и развития благотворительности;
-
— разработка периодизации развития благотворительности и социальной политики;
-
— исследования теоретических аспектов благотворительности (терминологии, причин возникновения нищенства, мотивов занятия благотворительностью);
-
— анализ и выявление моделей взаимоотношений государственной, общественной и частной помощи;
-
— более широкий комплекс — работы, посвященные истории определенных видов помощи и благотворительных учреждений: женской, церковной, трудовой помощи, ведомству императрицы Марии и т. д.
Становление современного этапа осмысления проблем благотворительности связывается исследователями с разными явлениями: со всплеском девиантного поведения и необходимостью его объяснения [Ульянова, 1996, 405–406], с началом переоценки благотворительной деятельности российских предпринимателей в 1990-х гг. [Ульянова, 1996, 409], с развитием социальной системы, а также с превращением благотворительности в один из институтов гражданского общества [Чикадзе, 2001, 102–106]. Тематика исследований, созданных за последние тридцать лет, получила значительное развитие, но вместе с расширением комплекса работ, посвященных благотворительности, исследователи отмечали ряд их недостатков. К ним относили господство описательного и публицистического повествования [Чикадзе, 2001, 126], отсутствие рассмотрения культурного и конфессионального аспектов, а также игнорирование перспективности применения комплексного междисциплинарного метода [Романов, Ярская-Смирнова, 2005, 11–26].
Важным шагом в процессе возрождения области изучения благотворительности и государственной системы социальной помощи в конце XX в. стал анализ историографии. Наиболее полное освещение общая историография благотворительности получила в работах Г. Н. Ульяновой [Ульянова, 1995; Ульянова, 1996; Ульянова, 2006а; Ульянова, 2006б]. В статье «Российская благотворительность в освещении историографии XIX — начала XX века» был изучен дореволюционный комплекс исторических очерков. В ней Г. Н. Ульянова уделила особое внимание сочинению Министерства полиции «О общественном призрении» [Стог, 1818] и установлению его авторства, выделила полемику о характере русской благотворительности X–XV вв. в работах А. Н. Афанасьева и Я. В. Ханыкова, а также отметила роль премии 1897 г. за публикацию и рецензирование сочинений о благотворительности в развитии историографии. Среди исследователей рубежа XIX–XX вв. Г. Н. Ульянова выделила двух авторов: Е. Д. Максимова, обобщившего накопившийся к концу XIX в. материал по благотворительности, и В. И. Герье, завершившего процесс упорядочивания фактографии и сравнившего российский опыт социальной помощи с западными тенденциями.
Периодизацию и характеристику развития российской историографии благотворительности разработал В. Л. Прохоров [Прохоров, 2007]. Автор выделил три периода ее формирования. Первый этап (с начала XIX в. по 1917 г.) — время становления процесса осмысления философских оснований благотворительной деятельности и изучения истории ее развития. Советский период — игнорирование проблем благотворительности в отечественной науке и создание позитивного образа деятелей российской благотворительности в эмигрантской литературе. Последний — постсоветский — этап, по мнению В. Л. Прохорова, создал новые условия для переосмысления проблемы. О возрождавшемся интересе к истории благотворительности свидетельствовали проводившиеся научные конференции, публиковавшиеся статьи и монографии, в которых освещалась дореволюционная благотворительность.
Построение современной картины исследовательского поля в области благотворительности было произведено Е. З. Чикадзе [Чикадзе, 2001]. В своей статье автор выделила несколько проблем и тенденций историографии 1990-х гг. Среди них — вырастающий из анализа российского дореволюционного и западного опыта диспут о пути развития постсоветской благотворительности. Основываясь на главном предмете внимания исследователей российской благотворительности, Е. З. Чикадзе разделила современных авторов на три группы: занимающихся теоретическим осмыслением благотворительности, изучающих благотворительные организации и исследующих особые социальные группы — потенциальных получателей помощи. В разборе историографии Е. З. Чикадзе придала системность блоку выработанных в конце XX в. исследований, а также выделила основные проблемы развития современной благотворительности.
Еще одна особенность научного интереса 1990-х гг. к истории благотворительности и социальной работы — уклон в регионализм — была отмечена Г. Н. Ульяновой, объяснившей данную тенденцию тесной связью с развитием краеведения в целом [Ульянова, 1996, 407-408]. Процесс увеличения интереса к проблемам благотворительности Г. Н. Ульянова назвала «форсированным подключением» российских исследователей к процессу изучения опыта социальной работы. В этот период российская историография значительно отставала от уровня развития западной науки, хотя в некоторых областях российские и американские работы, по ее мнению, имели взаимодополняющий характер [Ульянова, 1996, 409].
Американская историография второй половины XX в. сделала ряд важных шагов в области исследования проблем благотворительности. Разбирая опыт сложившейся в США историографии, Г. Н. Ульянова выделила пять авторов, определивших уровень ее развития: Уилбура К. Джордана (поставившего проблему благотворительности), Берниса К. Мэдисона (выделившего недостатки российской дореволюционной благотворительности), Дэвида Л. Рэнсела (изучившего особенности участия в российской благотворительности императорской семьи) и Джозефа Брэдли (обратившегося к изучению эволюции трудовой помощи в России) [Ульянова, 1995].
Большую часть обзора в статье Г. Н. Ульяновой занимает анализ работ А. Линден-майер, крупнейшего современного исследователя российской благотворительности в США. В своих работах А. Линденмайер ставила проблемы отношения самодержавия и частной инициативы [Lindenmeyr, 1990а], деятельности участковых попечительств о бедных [Lindenmeyr, 1982], развития трудовой помощи [Lindenmeyr, 1986], моральнонравственных аспектов благотворительности [Lindenmeyr, 1990б], роли благотворительности в формировании гражданского общества [Lindenmeyr, 1992] и вовлечения в общественную жизнь женщин [Lindenmeyr, 1993]. Обзор и анализ исследований А. Линденмайер, сделанный Г. Н. Ульяновой, можно дополнить вышедшей в 2012 г. статьей «Построение гражданского общества: народные дома и рабочее просвещение в позднеимперский период» [Lindenmeyr, 2012], где на примере создания народных домов автор показала роль гражданской инициативы в российском обществе и влияние на нее западного опыта социального реформирования.
Последний аспект истории благотворительности, получивший развитие в 1990– 2000-е гг., — философско-методологический. В его рамках внимание исследователей было направлено прежде всего на эволюцию и смысл понятий, включаемых в область социальной помощи, а также на объяснение причин вовлечения в благотворительную деятельность.
Процесс выработки определений, касающихся социальной работы, был изучен в статье Е. Р. Смирновой [Смирнова, 1997]. В ней автор проследила связывание понятия «взаимность» с жалостью и милосердием в работах В. С. Соловьева, отметила выработанное Э. Фроммом определение любви и коснулась проблемы формирования в христианском мировоззрении восприятия юродивого и нищего как элементов сакральной системы образов.
Тему философского осмысления благотворительности продолжила Н. Б. Ажнаки-на, исследовавшая мотивы благотворительности, определяемые русской религиозной философией [Ажнакина, 2004]. В статье были выделены взгляды на различие форм благотворительности В. С. Соловьева, делившего ее на духовную и материальную, и В. В. Розанова, различавшего благотворительные деяния по долгу и по зову сердца. Рассматривая отношение к милосердию, Н. Б. Ажнакина отметила позиции прот. С. Булгакова и свящ. П. Флоренского, признававших ограниченный характер благотворительности либо как только мер паллиативных, как понимал прот. С. Булгаков, либо не имеющей самостоятельного значения без комплекса других христианских добродетелей, как отмечал свящ. П. Флоренский.
Обзор комплекса историографии, сложившегося с первой половины XIX в. до сегодняшнего дня, необходимо начинать с сочинения А. Д. Стога «О общественном призрении», которое, как отметила Г. Н. Ульянова, считается образцовым для всех последующих исследований [Стог, 1818]. В процессе изучения ключевых проблем истории российской благотворительности автор сочинения сделал акценты на нескольких этапах эволюции социальной системы. Последовательность, которой придерживался А. Д. Стог, может считаться традиционной при рассмотрении истории помощи нуждающимся. Исследователи, как правило, выделяют несколько периодов развития социальной системы: первые века после принятия христианства и становление церковной и княжеской благотворительности; правление Петра I, включившего социальный вопрос в государственную повестку; время Екатерины II, распространившей государственную систему заботы о нуждающихся из центра в провинции; эпоху Александра I, в годы царствования которого в благотворительность начала активно включаться частная инициатива.
В сочинении «О общественном призрении» был разобран процесс становления и развития социальной помощи с XII в., когда, согласно автору, по инициативе Ярослава Владимировича было учреждено сиротское училище — первое учреждение социальной помощи. Изучив указы, регламенты и инструкции, касавшиеся дела нуждающихся в петровское время, автор отметил не столько важность содержания этих материалов, сколько сам факт их появления. Создание этих документов свидетельствовало о том, что поддержка нуждающихся становилась заботой правительства. Важной частью работы является освещение состояния российской системы помощи в начале XIX в. Согласно опубликованной табели о работе приказов общественного призрения и частных учреждений, в период с 1808 по 1812 г. в империи действовало девять частных благотворительных учреждений, подведомственных Министерству полиции [Стог, 1818, 38]. Их существование позволяет говорить о том, что частная инициатива в деле помощи нуждающимся начала оформляться в начале XIX в., чему способствовал ряд факторов: от влияния эпохи Просвещения до благоприятного отношения александровской политики.
Значительное внимание основам христианской помощи и примерам личной благотворительности князей уделил Я. В. Ханыков [Ханыков, 1851]. Он одним из первых поставил проблему условий оформления русской благотворительности и попытался найти объяснение ее особенностей в существовании древнерусского обычая подаяния. Начало появления специальных заведений помощи нуждающимся Я. В. Ханыков отнес к более раннему времени, чем А. Д. Стог, приведя ряд свидетельств о существовании благотворительных заведений уже в XI в. Кроме того, согласившись с утверждением А. Д. Стога о становлении государственной системы заботы о нуждающихся в петровский период, Я. В. Ханыков отметил и недостатки сложившегося положения: отсутствие работающей системы помощи в связи с расшатанностью старых и неоформленностью новых правил.
В 1862 г. было издано исследование И. Г. Прыжова, где главным объектом стала не благотворительная деятельность, а получатели этой помощи — сами нищие [Прыжов, 1862]. Среди поставленных автором задач одной из главных было изучение народного понимания нищего, его образа и форм нищенства. Это позволило И. Г. Прыжову создать новую классификацию бедных согласно характеру и форме их нужды и прийти к выводу о том, что нищенство являлось религиозным явлением, появившимся только в средневековое время и получившим развитие в период распространения христианства.
К рассмотрению теоретических аспектов истории проведения социальной работы в европейских странах обращался В.И. Герье [Герье, 1897]. Интересно, что он встраивал развитие российской благотворительности в европейскую систему, говоря о том, что Россия прошла те же этапы, что и западные страны: начинала с церковной благотворительности, прошла от периода преследования нищенства Петром I к строительству госпиталей, богаделен, рабочих домов и организации приказов общественного призрения Екатериной II [Герье, 1897, 81–82].
Наиболее полное исследование истории благотворительности и ее современного состояния представлено в коллективной монографии «Благотворительная Россия», изданной в 1901 г. [Благотворительная Россия, 1901]. Работа представляет собой сборник сведений о благотворительных учреждениях империи, собранных Собственной его императорского величества Канцелярией по учреждениям императрицы Марии в 1894-1896 гг. Монографию открывает широкий исторический обзор российской благотворительности, в котором были сформулированы ее основные проблемы, прежде всего — раздробленность деятельности правительственных, общественных и сословных учреждений.
Среди исследователей истории благотворительности рубежа XIX–XX вв. особенно выделяется Е. Д. Максимов. В своих работах он поднимал разные аспекты социальной помощи: историю становления помощи нуждающимся, работу приказов общественного призрения, земскую деятельность в области социальной работы, проблемы трудовой помощи, частной благотворительности и нищенства, а также проанализировал современное положение помощи нуждающимся. Обзору и анализу созданных Е. Д. Максимовым работ посвящен ряд статей и уделено значительное внимание в диссертациях. Общая оценка его деятельности в процессе изучения истории благотворительности была представлена Г. Н. Ульяновой, подчеркнувшей заслугу Е. Д. Максимова в завершении процесса систематизации фактического материала, накопленного к началу XX в.
Оценка российской дореволюционной благотворительности дана в статье «Государственная и частная помощь в России» [Leppington, 1913]. В ней автор высказал два предположения, касавшихся российской системы помощи нуждающимся. Во-первых, исследователь отметил, что благотворительная практика в России, в отличие от европейской дорелигиозной помощи, появилась только с момента принятия христианства. Во-вторых, он подчеркнул значимость документа 1682 г., в котором предлагалось разделение нищих на неспособных к работе, нуждающихся в государственной поддержке и мнимых бедных, которых было необходимо определить к работе. Реализация положений записки, по мнению автора, привела бы к оформлению в России самой современной системы поддержки нуждающихся.
Современный этап осмысления проблем истории социальной помощи начался с монографии П. В. Власова «Благотворительность и милосердие в России» [Власов, 2001]. Работа охватывает широкий круг вопросов: зарождение помощи бедным в древнерусском государстве, правительственную политику призрения, церковную и сословную помощь нуждающимся. Монография П. В. Власова стала значимым рубежом в переходе от накопления материала по истории благотворительности к его анализу, сформировав базу для последующих исследований.
Церковной благотворительности посвящена работа В. Г. Бобровникова [Бобровников, 2000]. В ней автор отметил значимую роль церковных приходов в оформлении организованного характера благотворительности и установлении принципа оказания помощи только тем, кто действительно в ней нуждался. Этого удавалось достичь, по мнению В. Г. Бобровникова, за счет того, что обычно прихожане были знакомы и осознавали реальные потребности друг друга [Бобровников, 2000, 31–32]. Тот факт, что в первые века после принятия христианства помощь Церкви была продуктивной, не подлежит сомнению. Между тем стоит учитывать, что по мере увеличения населения прихожане все реже оказывались знакомыми между собой, из-за чего помощь становилась все менее разборчивой, складывались предпосылки к приобретению благотворительностью светского характера.
Созданное христианством учение о милостыни имело свои особенности в российской благотворительности. Современниками и исследователями неоднократно отмечалось существование в России убеждений в святости нищих и во влиянии благотворительности на исход Страшного Суда. Эти особенности российского восприятия нищих, по мнению исследователей, привели к тому, что милостыня приобрела религиозный характер, сама по себе став «священнодействием» [Бензин, 1907; Павлова, 2011; Степанец, 2002; Kaizer, 2004]. В научной и публицистической литературе представлено мнение о том, что обязательства по отношению к нищим в России привели к формированию привычки благотворить (Seller, 1905); [Бензин, 1907; Максимов, 1901; Ханыков, 1851] и складыванию восприятия милостыни как особого качества, присущего именно русским (Преображенский, 1898); [Горчева, 1999; Дерюжинский, 1897; Нещеретний, 1993; Снегирев, 1844; Степанец, 2002; Lindenmeyr, 1990б].
Важное место в процессе анализа дореволюционного опыта благотворительности занимают работы Г. Н. Ульяновой. В них было исследовано развитие российской системы социальной помощи, в том числе в рамках процесса ее перехода от неорганизованной деятельности к созданию системы благотворительных заведений. Посредством изучения ряда статистических источников и законодательства Г. Н. Ульяновой удалось выявить основные тенденции развития российской системы помощи нуждающимся и установить степень эффективности благотворительных учреждений империи [Ульянова, 2006б, 2021].
Третий блок работ касается разработки периодизации развития российской благотворительности. В историографии XIX в. версии основных этапов становления социальной помощи были представлены в трудах А. Д. Стога, Я. В. Ханыкова, Е. Д. Максимова и В. И. Герье. В современной науке исследователи продолжили работу по созданию комплексной периодизации истории российской благотворительности. В статье «Этапы развития милосердия и благотворительности в России в XVIII– XX вв.» авторы выявили ряд критериев, обуславливавших развитие благотворительности с XVII в. до современности [Нувахов, Лаврова, 1995]. Перечень включает в себя условия, усиливавшие потребность в совершенствовании благотворительности и определявшие направление и характер ее развития. К «специфическим» характеристикам эволюции благотворительности авторы отнесли критерии, определявшие развитость системы социальной поддержки: фактическую область существования и действия учреждений помощи и развитость общей системы. Выработка критериев позволила более доказательно и структурно обосновать основные черты, обуславливавшие эволюцию социальной помощи, и на основе их создать проработанную периодизацию формирования благотворительности.
Одна из наиболее подробных периодизаций была создана А. Р. Соколовым, который разделил эволюцию социальной системы на десять этапов [Соколов, 2006]. Первые четыре периода, выделенные А. Р. Соколовым, характеризовали процесс становления благотворительности до начала XIX в., и шесть последующих — ее развитие в XIX — начале ХХ в. Определяющими чертами этих этапов являлись деятельность частной инициативы и государственная политика в области оказания помощи нуждающимся.
Более обобщенная периодизация была представлена В. Л. Прохоровым, который выделил всего четыре этапа развития благотворительной деятельности в России: до-государственный, княжеско-церковный, государственный и период общественного призрения [Прохоров, 2007]. Такое общее деление истории социальной помощи представляется спорным. Если первые два этапа ввиду медленности развития и период общественного призрения в связи с более узкими временными рамками действительно могут быть определены подобным образом, характеристика третьего этапа содержит в себе ряд противоречий. Государственный период подразумевал ряд факторов, усложнявших его характеристику. Во-первых, он, согласно В. Л. Прохорову, длился более полутора веков. Во-вторых, в этот период произошел ряд значимых изменений государственной системы социальной помощи. В-третьих, в период с рубежа XVII–XVIII вв. до реформы 1861 г. значительную роль в этом процессе играла частная благотворительность. Определение третьего этапа как государственного может быть оправдано тем, что именно в это время забота о нуждающихся становилась государственной обязанностью и само государство принимало на себя роль главного руководителя системы оказания помощи. Тем не менее игнорирование становления и быстрого развития частной благотворительности в первой половине XIX в. вносит неточность в общую периодизацию истории развития социальной помощи в России.
Теоретическое осмысление благотворительности представлено работами, в которых авторы пытались дать определение терминов, включавшихся в сферу социальной помощи, изучить причины возникновения и развития нищенства и выявить мотивы, побуждавшие общественность и правительство браться за дело помощи нуждающимся.
Необходимость рассмотрения понятийного аппарата социальной помощи была осознана уже в ходе разработки концепций благотворительности в XIX в. Одним из первых к этой проблеме обратился Н. Бочечкаров, отметивший важность уточнения определений терминов «бедный» и «нищенство» (Бочечкаров, 1859). Серьезную попытку научного осмысления понятий предпринял В. И. Герье [Герье, 1897]. Он разработал определения ключевых терминов благотворительности: милостыни, сугубо субъективной помощи, благотворительного учреждения — коллективно организованной помощи, оказываемой согласно определенному плану, и проводившегося только на государственные ресурсы государственного призрения.
В современной науке продолжается поиск наиболее точного определения понятий, связанных с социальной помощью. Огромная заслуга в разработке терминологического аппарата принадлежит Г. Н. Ульяновой. Исходя из того, что в понятиях, включенных в систему социальной помощи, одним из главных компонентов является противопоставление частное — государственное, Г. Н. Ульянова разделила термины «благотворительность» и «призрение» («общественное призрение») [Ульянова, 1996]. В более поздней работе Г. Н. Ульянова уточнила определения этих понятий, выделив отдельно призрение, под которым понимаются любые действия, связанные с социальной реабилитацией нуждающихся, и общественное призрение, употребляющееся только в отношении деятельности административных органов [Ульянова, 2006б].
Большее количество составляющих термина «благотворительность» включают в себя определения, сформулированные Р. Г. Апресяном [Апресян, 1998], дополнившим его такими факторами, как добровольность, безличность и направленность не только на обеспечение насущных потребностей, но и на реализацию личных устремлений человека, и А. Р. Соколовым [Соколов, 2006], характеризующим благотворительность еще как факультативную и безвозмездную помощь. Еще одной важной особенностью благотворительности, по мнению А. Р. Соколова, является то, что она привносит новаторские способы оказания помощи нуждающимся, опережая в этом деле государство, но при этом она неспособна решить поставленные задачи самостоятельно, без государственной поддержки. К общественной благотворительности А. Р. Соколов отнес дополнительную, не основанную на обязательном самообложении помощь. Разница между общественным и государственным призрением, по А. Р. Соколову, как и в работе Г. Н. Ульяновой, заключается в источнике финансирования: первая осуществляется за счет финансов местных обществ, вторая — за счет казенных средств.
Источниковедческий анализ терминов, относящихся к социальной работе, был проведен в статье «Понятийный аппарат отечественного призрения: генезис, специфика, традиция» М. Роммом [Ромм, 2005]. Среди употреблявшихся понятий «призрение», «милостыня», «благотворительность» и «филантропия» М. Ромм выделил базовые — «призрение», впервые появившееся в указах XVIII в. в связи с учреждением приказов общественного призрения, и «благотворение», введенное в употребление Н. И. Карамзиным.
В области теоретического изучения истории российской благотворительности еще одну ключевую позицию занимает поиск и формулировка причин нищенства. С конца XIX в., когда в сознании населения закрепилось понимание необходимости борьбы с причинами, а не с последствиями бедности, принципиальный характер приобрело выявление источников появления нищенства. Одна из наиболее полноценных классификаций этих источников была предложена Е. Д. Максимовым [Максимов, 1901]. Весь комплекс причин, по которым люди впадали в нищенствующее состояние, Е. Д. Максимов разделил на три группы: индивидуальные (физические и моральные), семейные, социальные и стихийные.
Процесс выявления причин бедности является стержневым в изучении благотворительности и социальной политики. В разной степени этот аспект затрагивается в каждом исследовании, посвященном истории помощи нуждающимся. Разнообразие выработанных в историографии причин можно представить следующим образом:
|
№ |
Блок причин |
Составляющие |
|
1 |
Экономические |
|
|
2 |
Субъективные |
— лень, нежелание работать — алкоголизм — расточительство |
|
3 |
Политические |
|
|
4 |
Религиозные |
|
|
5 |
Квалификационные |
— отсутствие образовательной системы |
|
6 |
Психологические |
|
|
7 |
Медицинские и социальные |
— инвалидность — старость |
|
8 |
Семейные (демографические) |
— неполная семья — отбывание воинской повинности — одиночество — сиротство |
|
9 |
Другие |
— этнические
|
Так же обширен и комплекс мотивов, обуславливавших заинтересованность общества и власти в обеспечении нуждающихся необходимой поддержкой. Наиболее популярным личным мотивом к занятию благотворительностью, отмечавшимся современниками и признанным рядом исследователей, являлось религиозное чувство долга (Каменский, 1904; Селиванов, 1910); [Бобровников, 2000; Герье, 1897; Сперанский, 1897; Leppington, 1913; Lindenmeyr, 1990б]. Более того, особая христианская любовь, умение ставить на первое место интересы нуждающегося и убежденность в том, что только Русская Православная Церковь сохраняет доктрины истинного христианства, по мнению А. Линденмайер, привели к формированию особого стереотипа, что благотворительность является национальной чертой русских [Lindenmeyr, 1990б, 681–682].
Еще одним мотивом вовлечения в благотворительную деятельность, выделенным А. Линденмайер, стало распространение в России с конца XVIII в. гуманистического мировоззрения со свойственным ему осознанием морального долга человека совершать добро по отношению к другим членам общества. Гуманизм в России, согласно А. Линденмайер, был наиболее социально активным при Екатерине II, Александре I и в период Великих реформ Александра II [Lindenmeyr, 1990б, 681–682]. Идея влияния гуманистических идеалов на частную благотворительность в России была выделена В. Л. Прохоровым, однако развитие положений гуманизма он отнес к более позднему времени — к середине XIX в. [Прохоров, 2005]. Возможно, более широкое восприятие понятия гуманности среди русского населения и появление гуманистических идей в русской литературе стоит относить к XIX в., но при этом нельзя игнорировать гуманистические основания благотворительной деятельности таких представителей русского масонства, как, например, Н. И. Новиков.
В комплекс личных мотивов, побуждавших человека заниматься благотворительностью, также включались психологические причины, такие как чувство сострадания и жалости к нуждающемуся, и житейские, проявлявшиеся в осознании взаимной связи с людьми одного занятия [Герье, 1897]. Причинами вовлечения в сферу помощи нуждающимся становились и менее возвышенные мотивы, среди которых было стремление к получению особого поощрения и наград или желание компенсировать благотворительностью собственные поступки [Бобровников, 2000, 11]. Важным побуждением к занятию благотворительностью являлось осознание человеком своего общественного долга и необходимости поддержания общественного порядка (Каменский, 1904; Горовцев, 1901); [Бобровников, 2000].
Становление государственной системы помощи имело свои причины и особенности развития. К основным мотивам повышения государственного интереса к проблемам бедности исследователи относили два фактора: появление профессионального нищенства на рубеже XVI–XVII вв. [Ашрот, Мюнстерберг, 1902; Бензин, 1907; Герье, 1897] и стихийные бедствия, требовавшие государственного вмешательства [Дерю-жинский, 1897; Фирсов, 2005; Leppington, 1913]. Среди других причин, определявших необходимость участия государства в организации социальной помощи, выделялись экономический мотив и обязательства государственной власти перед своими подданными [Герье, 1897].
Последний блок работ по истории российской благотворительности касается изучения отношений государственной, общественной и частной деятельности. Основной корпус материалов, раскрывающих этот аспект, представлен историографической и публицистической литературой XIX — начала XX в. Интерес к данной проблеме, особенно активный на рубеже веков, был вызван необходимостью поиска новой эффективной концепции оказания помощи нуждающимся совместными усилиями трех сторон. Основываясь на исследовании задач, возможностей и преимуществ главных организаторов социальной помощи и на анализе опыта западных стран, Г. И. Фролов (Фролов, 1845), С. К. Гогель (Гогель, 1908), П. Георгиевский [Георгиевский, 1894], В. Ф. Де-рюжинский [Дерюжинский, 1897] в своих работах пытались разработать наиболее эффективную форму сотрудничества государства и частной благотворительности.
В современной науке проблема отношений государства и частной инициативы не является столь же актуальной, как в конце XIX столетия. Вместе с тем исследователи рассматривали вопросы, важные для понимания положения частной благотворительности в империи. В работе Г. Н. Ульяновой было изучено законодательство о благотворительности с конца XVIII в. до 1914 г. Отчасти отношения общественной (государственной) и частной инициативы были исследованы в рамках анализа деятельности Императорского человеколюбивого общества. Основанное по инициативе Александра I, финансируемое императорской семьей, но считавшееся общественным, это учреждение вызвало немало разногласий в отношении определения его статуса и роли как руководителя частного благотворительного сектора империи. Этой проблеме посвящена статья Джудит Коэн Зачек, определившей заслугу нового учреждения в том, что оно стало примером и дало движение учреждению похожих благотворительных обществ в империи [Zacek, 1975], и отметившей, что формально оно не являлось государственным, хотя было создано императором и пользовалось его поддержкой [Zacek, 1975, 429–430].
Комплексное исследование государственной политики по отношению к частной инициативе в контексте деятельности Императорского человеколюбивого общества было проведено А. Р. Соколовым [Соколов, 2003, 2006]. Учреждение, основанное по инициативе Александра I, являлось попыткой внедрения в России гамбургской системы социальной помощи, но, как отметил А. Р. Соколов, с многочисленными «мелкими» поправками, которые в итоге привели к провалу плана централизации благотворительности. Дорогой аппарат, поддерживавший работу Общества, малая доля частных пожертвований, крупный бюджет, выделявшийся Александром I, предоставление работникам Общества прав государственных служащих и получение ими жалованья привели А. Р. Соколова к выводу о том, что это ведомство было больше государственным, нежели общественным [Соколов, 2003, 110].
Разница задач, преимуществ и недостатков трех видов благотворительности, помимо специально посвященных этой проблеме работ, выделялись косвенно. Частная благотворительность в работах исследователей и публицистов часто характеризовалась как более маневренная, развитая, гибкая и более внимательная к интересам личности нуждающегося (Д’Оссонвиль, 1899); [Апресян, 1997; Милль, 2007], в то время как государственная воспринималась больше как незаинтересованная помощь, необходимая для заполнения пробелов частной (Преображенский, 1898; Д’Оссонвиль, 1899; Горовцев, 1901); [Апресян, 1997; Герье, 1897; Милль, 2007]. Некоторые на первое место ставили общественную благотворительность как наиболее целесообразную и развитую (Henderson, 1904); [Герье, 1897]. Дифференцируя эти характеристики, нужно иметь в виду и то, что не все исследователи разделяли частную и общественную благотворительность, представляя их как всю совокупность негосударственной помощи.
Существующая историография благотворительности и государственной политики в области оказания помощи нуждающимся обширна. В то же время ряд проблем, принципиальных для понимания роли и процесса развития российской благотворительности, остался без должного внимания со стороны исследователей. Например, более подробного анализа и обобщения требует вопрос о значении благотворительности в процессе формирования гражданского общества. В переосмыслении в современной науке нуждается феномен нищенства. За исключением нескольких диссертационных исследований, знания об этом явлении основываются на публицистических и историографических работах рубежа XIX — начала XX века (Виркау, 19[...]; Левен-стим, 1900; Дриль, 1899 и др.); [Ашрот, Мюнстерберг, 1902; Максимов, 1901; Прыжов, 1862]. Исследователи продолжают анализировать российский опыт благотворительности, применяя современные научные методы исследования. В 2000-х гг. появилось несколько работ, задачей которых была систематизация накопленных материалов по истории благотворительности. Учитывая значительное количество исследований, посвященных разным аспектам благотворительности, изучение этого феномена представляется перспективным.
Список литературы Благотворительность в дореволюционной России: основные проблемы и итоги изучения
- Бочечкаров (1859) — Бочечкаров Н. О нищенстве и разных видах благотворительности // Архив исторических и практических сведений по России. Кн. 3. СПб., 1859. С. 50-67.
- Виркау (19[...]) — Виркау К. Борьба с нищенством в России и заграницей. 19[...]. 34 с.
- Гогель (1908) — Гогель С.К. Объединение и взаимодействие частной и общественной благотворительности. СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1908. 146, 92 с.
- Горовцев (1901) — Горовцев А. М Трудовая помощь как средство призрения. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. XXIII, 438, 47 с.
- Д'Оссонвилль (1899) — Д'Оссонвилль Г. П. Нужда, порок и благотворительность / Пер. с франц. и введение Б. К. Ордина. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. 368 с.
- Дриль (1899) — Дриль Д.А. Бродяжничество и нищенство и меры борьбы с ними. СПб.: Издание Я. А. Канторовича, 1899. 47 с.
- Каменский (1904) — Каменский П. В. Проблема борьбы с бедностью посредством общественной самодеятельности. Сообщение П.В. Каменского, доложенное 21 февраля 1904 г. в заседании Екатеринославского научного общества. Екатеринослав: Тип. Губернского земства, 1904. 58 с.
- Левенстим (1900) — Левенстим А.А Профессиональное нищенство, его причины и формы. Бытовые очерки. СПб., 1900. 160 с.
- Преображенский (1898) — Преображенский В. О благотворительности. Красноярск: Тип. Енисейского губернского управления, 1898. 58 с.
- Селиванов (1910) — Селиванов А.Ф. Современное положение русской благотворительности // Труды Первого съезда русских деятелей по общественному и частному призрению. 8-13 марта 1910 г. СПб.: Тип. И. В. Леонтьева, 1910. С. 375-388.
- Фролов (1845) — ФроловГ.И. Частные благотворительные заведения и общества в империи // Журнал Министерства внутренних дел. 1845. Ч. 12. С. 3-42.
- Henderson (1904) — Henderson Ch. R.. Modern Methods of Charity. An Account of the Systems of Relief, Public and Private, in the Principal Countries Having Modern Methods. New York, The Macmillan Company; London, Macmillan & Co. 1904. 715 p.
- Seller (1905) — Seller E. Official Poor Relief in Russia // The Nineteenth Century and After. London, 1905. Vol. 57. No. 340 (June). P. 1020-1030.
- Ажнакина (2004) — Ажнакина Н.Б. Мотивы милосердия и благотворительности в русской религиозной философии конца XIX — начала XX века // VI Социологические чтения преподавателей, аспирантов и студентов, посвященные 65-летию Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. Пенза, 2004. С. 129-134.
- Апресян (1997) — Апресян Р.Г. Дилеммы благотворительности // Общественные науки и современность. 1997. № 6. С. 67-80.
- Апресян (1998) — Апресян Р.Г. Филантропия: милостыня или социальная инженерия? // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 51-60.
- Ашрот, Мюнстерберг (1902) — Ашрот П. Ф., Мюнстерберг Э. Призрение бедных. СПб., 1902. 64 с.
- Бензин (1907) — Бензин В. М. Церковноприходская благотворительность на Руси. СПб.: Государственная типография, 1907. 120 с.
- Благотворительная Россия (1901) — Благотворительная Россия: история государственной, общественной и частной благотворительности в России / Под ред. П. И. Лыко-шина. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1901. 330 с.
- Бобровников (2000) — Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в России / Министерство образования Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. Волгоград: Политехник, 2000. 208 с.
- Власов (2001) — Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. 445 с.
- Георгиевский (1894) — Георгиевский П. Призрение бедных и благотворительность. СПб., 1894. 118 с.
- Герье (1897) — Герье В.И. Записка об историческом развитии способов призрения в иностранных государства и о теоретических началах правильной его постановки. СПб.: Государственная типография, 1897. 110 с.
- Горчева (1999) — Горчева А.Ю. Нищенство и благотворительность в России. М.: Духовное возрождение, 1999. 224 с.
- Дерюжинский (1897) — Дерюжинский В. Ф. Заметки об общественном призрении. М.: Изд-во книжного магазина Гросмана и Кнебель, 1897. 115 с.
- Максимов (1901) — Максимов Е.Д. Происхождение нищенства и меры борьбы с ним. СПб., 1901. 136 с.
- Милль (2007) — Милль Дж. Ст. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: ЭКСМО, 2007. 1037 с.
- Нещеретний (1993) — Нещеретний П.И. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России / Российский государственный социальный институт. М.: Союз, 1993. 31 с.
- Нувахов, Лаврова (1995) — Нувахов Б.Ш., Лаврова И.Г. Этапы развития милосердия и благотворительности в России в XVIII-XX вв. // Проблемы социальной гигиены и истории медицины. 1995. № 4. С. 52-53.
- Павлова (2011) — Павлова О.К. Исторические традиции отношения к нищенству и пониманию благотворительности в России и за рубежом // Международные отношения и диалог культур. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского политехнического университета, 2011. С. 285-295.
- Прохоров (2005) — Прохоров В. Л. Этапы развития благотворительности в России // Вопросы истории. 2005. № 3. С. 158-164.
- Прохоров (2007) — Прохоров В. Л. Благотворение — от Древней Руси к новой России // Вопросы истории. 2007. № 5. С. 156-165.
- Прыжов (1862) — Прыжов И. Г. Нищие на святой Руси: материалы для истории общественного и народного быта в России. М.: Тип. М. И. Смирновой, 1862. 139 с.
- Романов, Ярская-Смирнова (2005) — Романов П., Ярская-Смирнова Е. История социальной работы: методологические аспекты // Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в.: Сборник научных статей / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов: ЦСПГИ; Изд-во «Научная книга», 2005. С. 11-26.
- Ромм (2005) — Ромм М. Понятийный аппарат отечественного призрения: генезис, специфика, традиция // Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в.: Сборник научных статей / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов: ЦСПГИ; Изд-во «Научная книга», 2005. С. 233-239.
- Смирнова (1997) — Смирнова Е. Р. Социокультурный смысл благотворительности // Благотворительность и милосердие: сборник научных трудов / Под общ. Редакцией B. Н. Ярской. Саратов: Изд-во Поволжского филиала Российского учебного центра, 1997. C. 4-35.
- Снегирев (1844) — Снегирев И. Справки о начале богаделен и о быте нищих в Москве до XVIII в. // Литературный вечер. М., 1844.
- Соколов (2003) — Соколов А. Р. Благотворительная деятельность «Императорского человеколюбивого общества» в XIX веке // Вопросы истории. 2003. № 7. С. 96-112.
- Соколов (2006) — Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства: начало XVIII — конец XIX века. Дис. ... докт. ист. наук. СПб.: СПбГУ, 2006. 725 с.
- Сперанский (1897) — Сперанский С.В. К истории нищенства в России. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1897. 46 с.
- Степанец (2002) — Степанец К.В. Традиции милосердия и благотворительности в России // Развитие образования: история и современность. СПб., 2002. С. 257-275.
- Стог (1818) — Стог А.Д. О общественном призрении. Часть 1. СПб., 1818. 131 с.
- Ульянова (2021) — Ульянова Г. Н Благотворительность в России в первой половине XIX в.: итоги и перспективы изучения законодательства и статистики // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2021. Т. 12. Вып. 2 (100) // URL: https://history. jes.su/s207987840014110-0-1/ (дата обращения: 09.03.2022). DOI: 10.18254/S207987840014110-0.
- Ульянова (1996) — Ульянова Г. Н. Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного призрения в России // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С. 405-426.
- Ульянова (1995) — Ульянова Г.Н. Новейшая американская историография российской благотворительности // Отечественная история. 1995. № 1. С. 108-118.
- Ульянова (2006а) — Ульянова Г. Н. Российская благотворительность в освещении историографии XIX — начала XX века // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 160-166.
- Ульянова (2006б) — Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской империи, конец XVIII — начало XX века. Дис. . докт. ист. наук. М.: Институт российской истории РАН, 2006. 608 с.
- Фирсов (2005) — Фирсов М. История социальной работы в России: тенденции становления // Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в.: Сборник научных статей / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов: ЦСПГИ; Изд-во «Научная книга», 2005. С. 67-88.
- Ханыков (1851) — Ханыков Я. В. Исторический очерк правительственных мер по части общественного призрения в России // Журнал Министерства внутренних дел. 1851. Часть 36. С. 60-109, 212-266.
- Чикадзе (2001) — Чикадзе Е. З. Аналитический обзор литературы о благотворительности в современной России (1990-2000гг.) // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования / Под общ. ред. О. Лейкинда. СПб.: Лики России, 2001. С. 102-128.
- Leppington (1913) — C.H. d'E. Leppington. Public and Private Relief in Russia // Charity Organisation Review. New Series. 1913. Vol. 33. No. 196 (April). P. 197-204.
- Kaiser (2004) — Kaiser D.H. Testamentary Charity in Early Modern Russia: Trends and Motivations // The Journal of Modern History. 2004. Vol. 76. No. 1 (March). P. 1-28.
- Lindenmeyr (1982) — Lindenmeyr A A Russian Experiment in Voluntarism: The Municipal Guardianships of the Poor, 1894-1914 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1982. Vol. 30. No. 3. P. 429-451.
- Lindenmeyr (1986) — Lindenmeyr A. Charity and the Problem of Unemployment: Industrial Homes in Late Imperial Russia // Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 1-22.
- Lindenmeyr (1990а) — Lindenmeyr A. Voluntary Associations and the Russian Autocracy: The Case of Private Charity // The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. University of Pittsburgh, 1990. No. 807 (Summer). 64p.
- Lindenmeyr (1990б) — Lindenmeyr A. The Ethos of Charity in Imperial Russia // Journal of Social History. 1990. Vol. 23. No. 4 (Summer). P. 679-694.
- Lindenmeyr (1992) — Lindenmeyr A. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в России. 1856-1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. M., 1992. С. 283-300.
- Lindenmeyr (1993) — Lindenmeyr A. Public Life, Private Virtues: Women in Russian Charity. 1762-1914 // Signs Journal of Women in Culture and Society. The University of Chicago, 1993. Vol. 18. No. 3. P. 562-591.
- Lindenmeyr (2012) — Lindenmeyr A. Building a Civil Society One Brick at a Time: People's Houses and Worker Enlightenment in Late Imperial Russia // Journal of Modern History. 2012. Vol. 84. No. 1 (March). P. 1-39.
- Zacek (1975) — Zacek J. C. The Imperial Philanthropic Society in the Reign of Alexander I // Canadian-American Slavic Studies. 9. 1975. No. 4 (Winter). P. 427-436.