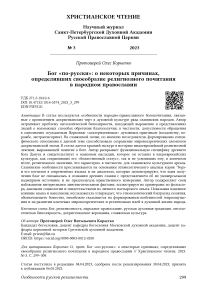Бог «по-русски»: о некоторых причинах, определивших своеобразие религиозного почитания в народном православии
Автор: Корытко О.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Особенности русской религиозности
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности народно-православного богопочитания, связанные с проявлением дохристианских черт в духовной культуре ряда славянских народов. Автор затрагивает проблему онтологической биполярности, находящей выражение в представлениях людей о возможных способах обретения благополучия, в частности, допустимости обращения к однозначно осуждаемым Церковью «альтернативным» духовным практикам (колдовству, ворожбе, экстрасенсорике). На славянской почве, по мнению исследователя, формированию специфического отношения к данной теме способствовало сохранение мировоззренческих элементов дохристианской эпохи. В статье дается краткий экскурс в историю индоевропейской религиозной лексики, выражающей понятие о боге. Автор раскрывает функциональную специфику древнего бога Дьяуса и свидетельствует о языковом наследии, которое он оставил в индоевропейских культурах, как сохранивших его «божественный статус», так и не усвоивших ему, в конечном итоге, религиозного значения, что характерно, в частности, для славянского культурного ареала. Славянские особенности прослеживаются на основании этимологического анализа корня *bogъ и его когнатов в современных языках и их диалектах, которые демонстрируют, что идея получения благ не связывалась в сознании древних славян с представлением об их универсальном надмирном источнике и не предполагала нравственного измерения. Автор подкрепляет свои наблюдения интересными лингвистическими фактами, иллюстрируя их примерами из фольклора, данными социологии и свидетельствами из личного пастырского опыта. Показывая взаимное влияние языка и мышления, исследователь утверждает, что этимологический бэкграунд понятия, обозначающего божество, неизбежно сказывается на формировании особенностей мироощущения и на развитии ключевых мировоззренческих и религиозных идей в духовной жизни народа.
Бог, религиозность, народное православие, русская духовная традиция, онтологическая биполярность, дохристианские верования, славянская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140301644
IDR: 140301644 | УДК: 271.2-184:2-6 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_299
Текст научной статьи Бог «по-русски»: о некоторых причинах, определивших своеобразие религиозного почитания в народном православии
Ситуация религиозной всеядности, обнаруживающаяся в готовности современных, чаще всего номинальных, христиан, обращаться для достижения своих, как правило, вполне утилитарных житейских целей к альтернативным «источникам духовной силы» (целителям, колдунам, гадалкам, экстрасенсам и т. д.), является вполне заметной и довольно распространенной проблемой в приходском служении клириков. Для истории церковной миссии эта проблема, к сожалению, не нова и известна с самых первых веков распространения евангельского учения.
Книга Деяний апостольских повествует, вероятно, об одном из первых столкновений евангельского послания с человеческим желанием соединить дары Духа с магическими действиями, дополнить первым второе. На страницах Нового Завета ярко представлена фигура человека по имени Симон, за которым закрепилось прозвище «волхв», а сам он, как первый задокументированный «покупатель» Божественной благодати, стал символом известного канонического преступления — симонии (Деян 8:9–24). Примечательно, что Симон пытается совместить свои дохристианские, говоря языком Библии — языческие, магические практики с только зарождающейся церковной традицией, одним из важнейших элементов которой стала практика рукоположения, неразрывно связанная с передачей духовных даров.
В более позднее время данная проблема нашла отражение в соответствующих церковных канонах и постановлениях Соборов, предписывающих отлучать от Причастия на длительные сроки тех христиан, которые прибегают к услугам ворожей и гадателей.
Строгость, с которой канонические нормы относятся к совершителям подобных деяний, весьма серьезна. Это вполне объяснимо теми сопоставлениями, которые находим в соответствующих формулировках. Так, свт. Василий Великий уподобляет христиан, употребляющих волшебство, — убийцам, очевидно, имея в виду, что таковые акты ведут к вечной погибели (см.: Василий Великий, Правила, 65, 72). Свт. Григорий Нисский в 3-м правиле поставляет обращающихся к услугам чародеев в один ряд «с отступниками от веры» и предписывает налагать на таковых аналогичную епитимию. Это говорит о том, что святой отец воспринимает само обращение к волхвователю как, может быть, не вполне осознанное, но тем не менее — отречение от Христа. Соборные правила предлагают также довольно жесткие меры в отношении лиц, впавших в подобные грехи: Трулльский Собор предписывает 6-летнее воздержание от Причастия (Трул. 61), повелевая и вовсе отлучать от Церкви тех, кто не желает порвать с этим грехом. 24-е правило Анкирского Собора дает чуть меньший срок епи-тимии за то же преступление, ограничиваясь пятью годами.
Постановка проблемы на самом высоком иерархическом уровне и строгость мер, применяемых для ее решения, с ясностью свидетельствуют, что данное явление всегда сознавалось Церковью как неприемлемое и противоречащее самим основам христианской веры. Подобные представления можно обозначить как проявления онтологической биполярности , под которой понимается специфическое свойство религиозности, являющееся модусом восприятия мира как пространства деятельности Бога и онтологически иных по отношению к Нему сущностей. Последние мыслятся в таком случае как вполне автономные, самостоятельные источники силы и податели даров. По своей природе данное явление должно быть классифицировано как относящееся к сфере политеистических верований, элементы которых продолжают существовать в духовной жизни современных христиан, в том числе и проживающих в России.
Для того чтобы продемонстрировать актуальность для Русской Церкви этого явления с самого раннего времени ее бытия, видится вполне достаточным указать на жесткие обличения данного явления, содержащиеся в поучениях духовенства, а также на специфические постановления Соборов домонгольского и монгольского периодов. Наиболее ярким примером первого рода, несомненно, следует считать знаменитое «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» [Памятники, 1897, 228]. Здесь перечисляются персонажи языческого пантеона древних славян и обличаются современные автору христиане, живущие двоеверно («во двоеверно живущих»). Вероятно, именно данное словоупотребление дало основание некоторым исследователям духовной жизни восточных славян говорить о двоеверии как особой религиозной ситуации в обществе, не до конца отказавшемся от прежних представлений и даже пытающемся интегрировать их в мировоззрение, сформированное при доминирующем влиянии христианства.
Письменные нормативные памятники домонгольского периода содержат ряд предписаний, нацеленных на пресечение духовной неразборчивости древнерусских христиан, их готовности прибегать к магическим средствам или даже альтернативным религиозным практикам1.
С точки зрения историка религии, подобные факты можно рассматривать как проявления архаической человеческой религиозности (или, выражаясь полемическим термином, — язычества), ориентированной прежде всего на поиск материально выраженного благополучия и основанной на представлении о том, что у человека имеется достаточно эффективный механизм, чтобы побудить потусторонний мир оказать помощь в достижении результата. Безусловно, религиозность подобного рода имеет универсальный характер, ее проявления мы находим в совершенно разных культурах и традициях. Однако интересно отметить, что на русской почве эта неприемлемая для христианина тяга к эзотерике, помимо прочего, имеет еще и мощные корни в дохристианской духовной традиции восточнославянского народа.
-
II. Индоевропейские истоки: в начале был Дьяус
Важнейшим элементом религиозного мировоззрения является представление о Боге, о Его природе и качествах2. Поскольку же духовная традиция определяет мировоззрение и культурное самосознание народа, уместно было бы в этом смысле ожидать проявления определенной консервативности языка в отношении лексики, связанной с религиозной сферой.
Однако в случае с индоевропейцами нас ждет большое разочарование. Хотя, как предполагает знаменитый британский историк-индолог Артур Бэшем, «предки ариев, иранцев, греков, римлян, германцев, славян и кельтов имели изначально подобные, если не идентичные верования» [Бэшем, 2007, 206], но по крайней мере к моменту освоения арийскими племенами территории Индостана их религия стала уже существенно отличаться от древних индоевропейских культов. Как отмечал еще Антуан Мейе — выдающийся французский лингвист и автор фундаментальных трудов по сравнительно-историческому языкознанию, «нигде лексики индоевропейских языков не расходятся так разительно, как в терминах, касающихся религии, вероятно, потому что у каждого племени были свои особые культы; нигде мы не встречаем столь мало достоверных сближений, а потому индоевропейская лингвистика может дать сравнительной мифологии мало надежных данных» [Мейе, 1938, 401]. Той же позиции придерживается и Эмиль Бенвенист, составивший знаменитый «Словарь индоевропейских социальных терминов» и отмечавший, что при рассмотрении общей праиндоевропейской лексики на религиозную тему исследователи «обречены наблюдать, как мало-помалу рассыпается сам объект исследования» [Бенвенист, 1995, 343].
Отсутствие общего для всех индоевропейцев религиозного словаря А. Мейе объясняет в первую очередь отсутствием общей идеологии и религиозных институтов, обращая внимание на то, что определенное единство наблюдается лишь в замкнутых группах.
Впрочем, другой известный французский лингвист, Жан Одри, не соглашается с таким объяснением Мейе и полагает, что «в этой области реконструируют означаемое, не имея возможности реконструировать означающее, которое его выражает» [Одри, 1988, 119]. Иными словами, по мысли Ж. Одри, реконструкция мифологии и духовного мира древних индоевропейцев не может и не должна опираться на этимологическую интерпретацию, а призвана восстанавливать лишь смыслы понятий. Столь радикальная исследовательская позиция, отказывающая истории религий и сравнительной мифологии в ценных языковых соответствиях, все же не нашла широкой поддержки в научном сообществе, хотя, очевидно, стоит признать, что по мере продвижения вглубь истории лингвистическая реконструкция носит все более вероятностный характер.
Вместе с тем с уверенностью можно утверждать лишь одно: одним из древнейших божеств индоевропейского пантеона являлся бог Дьяус (санскр. Dyáuṣ от и.-е. *dieus от *di-/ dei- «светить, блестеть» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 791]), олицетворявший, судя по всему, небо и мыслившийся, исходя из текстов Вед, как отец всех богов (санскр. Dyauspitr «отец-небо») и творец мира3. Примечательно, что «само понятие бога у древних индоевропейцев связывалось с небесной сакральностью» [Корытко, 2017, 515], о чем убедительно свидетельствуют и тексты Ригведы, в которых представления о богах тесно сопряжены со светом, блеском, сиянием (см.: [Елизаренкова, 1999, 480]). Таким образом, «божественное понимается индоевропейцами как нечто принципиально ясное, светлое, дневное, небесное» [Бородай, 2015, 62].
О древности культа Дьяуса говорит, в частности, тот факт, что в наиболее ранних по времени создания ведических гимнах и заклинаниях это божество уже имеет статус deus otiosus, его собственное имя превращается из носителя уранической сакральности в лексический оборот со значением «небо», «день». Мирча Элиаде, комментируя произошедшую трансформацию, пишет предельно точно: « бог Неба уступает место слову » [Элиаде, 1999, 145]. Именно поэтому о Дьяусе как о божестве мы знаем совсем немного. Однако на основании сохранившихся в текстах следов его почитания мы можем сделать вывод о том, что Дьяусу были некогда присущи все характерные атрибуты автономного небесного бога: иерогамия, всеведение и творческая способность.
Интересное воззрение на устройство индоевропейского пантеона и место в нем Дьяуса находим у французского филолога-компаративиста Жана Дюмезиля. Пытаясь преодолеть разнородность в пантеонах различных индоевропейских народов, он предложил рассматривать их с точки зрения соотнесенности с трехчастным иерархическим устройством общества: жречество, воинство и земледельцы. Иными словами, каждой социальной страте соответствовало свое божество. Но индоевропейский Дьяус, по мысли Дюмезиля, «остался в пределах своей небесной природы и очень обобщенной роли отцовства, внешней по отношению к трехфункциональной структуре и не имеющей большого влияния на происходящее» [Дюмезиль, 1986, 113], в отличие, например, от своих прямых «языковых» потомков — Зевса и Юпитера — божеств, обладающих реальной властью и активно ее реализующих. Очевидно, что французский исследователь описывает религиозную ситуацию, когда Дьяус уже стал «богом на покое», но некоторые черты его былой творческой активности, несомненно, проявились в его потомках.
Языковые следы «Дьяуса» действительно встречаются во многих индоевропейских культурах: от древних — санскр. deva , авест. daeva , микенск. diwe , греч. Zeug, лат. Jove , luppiter (восходящий по форме к Dyauspitr) и, собственно, divus и Deus 4; наконец, до современных европейских языков романской группы: фр. Dieu , ит. Dio , исп. Dios , португ. Deus , рум. Dumnezeu . В этих языках Дьяус сохранил свой «божественный статус»: слово прочно вошло и в христианский лексикон, став именованием для высший духовной реальности — Бога.
-
III. «Бог убегающий и непознаваемый»: о типологических сближениях и влияниях Deus и Θεός
Невозможно обойти вниманием греческое слово 0Еод, «бог». По мнению большинства лингвистов [Hofmann, 1950, 127; Mallory, Adams, 2006, 410; Beekes, 2009, 540], оно не связано напрямую с *diḙ ṷs и восходит, скорее всего, к другому индоевропейскому религиозному термину *d h eh1s «бог»5, который опознается также в латинских когнатах fēriae «праздничный день, отдых, покой», fēstus «праздничный, торжественный» и fanum «храм». Тем не менее, слово Эеод все же считается довольно «темным». В попытках объяснить его происхождение появлялось немало примечательных версий «народных этимологий», которые во многом отразили глубокое философское и богословское восприятие этого важнейшего религиозного понятия6.
Так, одну из первых и наиболее популярных впоследствии этимологий θεός встречаем у Платона в диалоге «Кратил». Устами Сократа Платон высказывает идею о происхождении слова от глагола θεῖν «бежать, стремиться» [Платон, 1999, 630], так как люди поклонялись тому, что совершает ход: Земле, Небу, Солнцу, звездам, Луне. О божественном как «вечно бегущем», в котором содержится первопричина движения и изменения, пишут и жившие в V в. до Р. Х. древнегреческие философы-пифагорейцы Алкмеон и Филолай [Фрагменты, 1989, 270; 445], а также многие другие античные авторы. Как отмечает заслуженный профессор МДА, на протяжении нескольких лет являвшийся и ее ректором7 прот. Сергий Смирнов, «объяснение Платона очень долго держалось в классическом мире; оно повторяется у писателей даже V в. по Р. Х.» [Смирнов, 1885, 539]. «Бог убегающий» как причина движения мира вещей — знаковая идея для индоевропейской античности. Но эта этимология дает также и еще одно интересное понимание природы божества, предложенное, в частности, Гераклитом: «бóльшая часть божественных вещей ускользает от познания по причине невероятности» [Фрагменты, 1989, 193].
Античные философские представления о природе божественного не могли не оказать определенного влияния и на христианских авторов, многие из которых получили классическое образование и воспитание. Так, в трудах Климента Александрийского и прп. Иоанна Дамаскина, в частности, можно встретить отсылку к платоновской этимологии, которую церковные писатели, впрочем, пытаются осмыслить в христианском ключе8. Можно сказать, что произошло некое наложение культурных смыслов: непознаваемость небесного Deus вполне гармонично согласовывалась с «убегающим», а потому непостижимым и недоступным 0Еод. В западнохристианском и византийском богословии эти идеи получили впоследствии свое развитие.
-
IV. Слав. bogъ и его индоевропейские коннотации
Изоглосса9 *dieus практически не затронула славян, если не считать слова диво и производных от него, историческое родство которых с и.-е. *dieus , впрочем, не считается доказанным, поскольку такое сближение «не объясняет существенных значений славянского лексического гнезда (‘смотреть’, ‘дикий’)» [ЭССЯ, 1978, 34]. Подобный отрыв, как признают авторы «Этимологического словаря славянских языков», «труднообъясним как формально, так и семантически» [ЭССЯ, 1978, 34]. Нельзя не упомянуть также и лексему дьнь (праслав. dьnь), производную с суффиксом -n- от *di-/ dei- «светить», вместе с обширным словообразовательным гнездом того же корня. Однако, так или иначе, славянские языки не обнаруживают достоверных следов древнего индоевропейского *diḙ ṷs , используемого в религиозном контексте.
На данный момент существует две основные этимологии праслав. *bogъ [ЭССЯ, 1975, 161-163]. Первая утверждает исконное происхождение слова, а вторая предполагает его заимствование из иранских языков. Каждая из этих версий имеет свои сильные стороны. Однако для нас важно не столько определение источника появления у славян данного понятия, сколько обнаружение смыслов, за ним стоящих, что становится возможным при установлении родственных связей и соответствий в других индоевропейских языках.
Вполне очевидна и не оспаривается исследователями связь праславянского *Ьодъ с др.-инд. bhága- «благо». У древних индоариев божественной персонификацией блага был Бхага, считавшийся воплощением счастья, богатства, изобилия, удачи и наделявший этими дарами людей, к нему обращавшихся. Бхага — это прежде всего бог-распределитель, поэтому неудивительно, что «богатство во всех видах — основная тема обращенных к нему просьб» [Дюмезиль, 1986, 75]. Бхага обеспечивает также «прочность и благополучие домашнего очага» [Дюмезиль, 1986, 75]. Дюмезиль уточняет, что благо понимается в самом широком смысле слова: не только как материальное сокровище и приобретение, но и в целом как хорошая доля, которая дается человеку на каждое время и во всякий час, в любых делах и обстоятельствах.
Идея наделения и распределения благ органично связана с общей идеей участи и жизненной судьбы. Подобные смыслы отражены, например, в иранском языковом материале (авест. ba у а- «доля, участь, судьба»; иран. baga- «доля, участь, судьба»; то-харск. А pāk и тохарск. B pāke «доля, часть»). Интересно, что персонификация доли и судьбы приводит к появлению у слов значения «господин, бог».
В русском языке смысловую связь Бога с богатством и изобилием можно увидеть, в частности, в словах богатый и убогий , а также в их производных. Примечательно, что данную смысловую связь можно проследить и в других славянских языках. Показательна, например, польская новогодняя колядка с необычным названием «Ширится Бог», записанная в 1980 г. известным польским филологом и собирателем фольклора Ежи Бартминьским и подробно разобранная им в одной из научных статей [Барт-миньский, 2005, 433–449]. Народная песня начинается следующим образом:
Nowe lato szczodro lato, Новый год, щедрый год, nowy wieczór, szczodry wieczór. новый вечер, щедрый вечер.
A wyjddźże, wyjddźże, panie gospodarzu, А выйди же, выйди, пан господарь,
Bóg sie serzy w twym podwórzu… Ширится Бог на твоем дворе…
Фраза Bog sie serzy, которую дословно можно было бы перевести как «Бог расширяется, ширится, множится, приносит достаток» [Бартминьский, 2005, 433], рефреном повторяется несколько раз в куплетах, описывающих, в чем заключается это «расширение Бога». Расширение понимается в категориях аграрной культуры: в плодородии земли и большом приплоде, который приносят различные домашние животные, дарующие их хозяину изобилие материальных благ. В конце концов часть этих благ человек посвящает Богу, заказывая отлить из найденного золота прекрасный кубок, из которого будут пить колядующие Христос, Пресвятая Богородица, святые и ангелы.
Бартминьский обращает особое внимание на очевидно архаичное, восходящее к дохристианской эпохе восприятие Бога, отраженное в начальных строках песни. «Бог — это богатство и одновременно податель богатства, т. е. Тот, кто отдает сам себя» [Бартминьский, 2005, 439]. Идея пространственного распространения, «расширения» Бога имеет глубокие корни и в древнеиндийской философии, на что справедливо указывает польский филолог.
-
V. Проблемы онтологической биполярности в народном православии
Примечательно, что в древности у славян духовные сущности, одаривавшие человека благами, нередко носили теофорные имена: Дажьбог , Стрибог , Белый бог и даже Чернобог .
Последнее имя особенно примечательно, поскольку ярко подтверждает справедливость тезиса Никиты Ильича Толстого — выдающегося отечественного слависта и одного из авторов этнолингвистического словаря «Славянские древности». Толстой отмечал, что « народная религия славян изобилует мотивами дуалистического мироощущения » (курсив мой. — прот. О. К. ) [СД, 1995, 202].
В чем же проявляется это мироощущение? Прежде всего в том, что для носителя традиционной славянской культуры духовный мир оказывается непротиворечиво поделен на «сферы влияния», своего рода зоны ответственности и компетенции между «высокими» и «низкими» силами, каждые из которых могут дать нечто для тех, кто к ним обращается за помощью. Как пишет Толстой, в народно-христианских верованиях «небо принадлежит Богу, а земля — дьяволу, правая сторона — Богу, а левая — дьяволу» [СД, 1995, 202].
Анализ примеров, приведенных авторами «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд», и вовсе наталкивает на интересную и довольно неожиданную мысль. В самом общем смысле древнеславянский bogъ — это некое высшее духовное существо (или его представитель), кто может даровать некие земные блага, действуя при этом вне четких категорий нравственности.
В некоторых современных славянских языках встречаются довольно примечательные значения у слова «богиня». На определенные размышления наводят соответствующие словенские и словацкие примеры10, демонстрирующие связь слова не только с женским божеством, но и с занятием колдовством, ведьмовством. Но и в русском языке, в частности в смоленском диалекте, фиксируется слово бого-вать со значением « думать , размышлять», что исследователи предлагают считать рудиментом некой, как они пишут, «старой черты»: возможно, « культового термина, связанного с гаданием ». Сопоставляя смоленский диалектизм со словенским словом bogovati «гадать», исследователи видят в них некую семантическую общность [ЭССЯ, 1975, 160].
Все эти языковые наблюдения так бы и остались кабинетными штудиями, понятными лишь филологам, если бы не реальные социологические факты и неумолимый пастырский опыт, требующий осмысления.
Показателен социологический опрос 2016 г. об отношении россиян к колдовству [Колдовство, сглаз, порча]. Исследование продемонстрировало, что веру в действенность колдовства разделяет чуть больше трети опрошенных (36%), причем несмотря на то, что колдуны вызывают в основном негативные ассоциации, обращение к ним склонны оправдывать большинство респондентов, считающих это вынужденной мерой. Не менее примечателен рост на 50% продаж эзотерической литературы и падения продаж собственно религиозной литературы, зафиксированный в прошлом году (данные от 1 февраля 2022 г.). Один из издателей объясняет это тем, что эзотерическая литература «работает с базовыми потребностями» человека, помогая ему в обретении счастья, покоя, успеха и благополучия [Карма — источник знаний].
Конечно, все вышесказанное можно было бы отнести к проявлениям духовной всеядности наших современников. Однако подобные духовные девиации встречаются не только в светской, но и, к сожалению, в церковной среде.
История, следующая далее, основана на реальных событиях и рассказана автору клириком, служащим в одном из московских храмов. Прихожанка весьма преклонного возраста, регулярно исповедующаяся и причащающаяся, совершающая ежедневные и довольно продолжительные молитвенные правила, внезапно высказала убеждение, что на ней и на всем роде лежит некое родовое проклятие, которое мешает счастью ее детей и ее самой. Поскольку после многих лет пребывания в церковной ограде, ничего, как уверена женщина, в ее личной жизни и в жизни ее близких не поменялось к лучшему, она решает обратиться за помощью к «специалистам по снятию порчи». Как обычно происходит в подобных мошеннических схемах, «потомственная колдунья» сразу же обнаруживает «серьезную проблему» и рекомендует «клиенту» совершить ряд действий ритуального характера: поставить особым образом свечи, заказать доверенному человеку колдуньи молебен в нескольких труднодоступных «святынях» и т.д. В ряде случаев могут также передавать «заряженную воду», которую необходимо пить по расписанию.
Описанная история не уникальна. Ее даже можно назвать универсальной, поскольку многие священники на личном опыте в своей пастырской практике не раз сталкивались с похожими случаями. В связи с этим главный интерес представляют даже не те действия, которые предлагают совершить экстрасенсы и колдуны, использующие христианскую символику, терминологию и обрядовые формы. Примечателен сам факт обращения воцерковленного человека, практикующего христианина к услугам оккультных деятелей для решения конкретных задач, связанных с устроением земного благополучия.
-
VI. Заключение
История Церкви с самых ранних времен ее бытия обнаруживает попытки некоторых ее членов, вопреки недвусмысленному требованию Священного Писания не преклоняться под чужое ярмо с неверными (2 Кор 6:14), совместить христианскую жизнь с обращением к иным религиозным практикам. И хотя данное явление имеет универсальный характер, однако в процессе усвоения евангельского учения восточнославянскими народами и формирования их национального мировоззрения русская «народно-православная» вера приобрела некоторые оригинальные черты, обусловленные культурной ситуацией и влиянием языковых особенностей.
Этимологический бэкграунд славянского слова «бог» с неизбежностью подталкивает носителя языка к восприятию Творца прежде всего как Подателя благ. С одной стороны, в таком подходе нет ничего противоречащего библейскому Откровению, поскольку и Священное Писание свидетельствует о том, что Господь, не требующий служения рук человеческих, Сам дает всему жизнь, и дыхание, и всё (Деян 17:25). Однако, с другой стороны, сама «внутренняя форма слова» сугубо подчеркивает данный аспект словесного знака, придавая Денотату почти исключительно функции дистрибьютера.
Недостаточная погруженность человека в стихию православной традиции и нетвердость личной веры приводит к сегментации религиозного сознания, в котором могут проявляться элементы дохристианского мировоззрения, предполагающие, в частности, оправданность обращения к противоположным началам. Ощущая себя прежде всего потребителем духовных и материальных благ, личность в случае неудовлетворенности нужд пытается найти дополнительные источники сил и даров и предстает перед исследователем как человек с двоящимися мыслями, который, по слову апостола, неустроен во всех путях своих (Иак 1:18).
Список литературы Бог «по-русски»: о некоторых причинах, определивших своеобразие религиозного почитания в народном православии
- Атхарваведа (2005) — Атхарваведа (шаунака): в 3 т. T.I / Пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил. Т. Я. Елизаренковой. М.: Институт востоковедения — Восточная литература, 2005.
- Бартминьский (2005) — Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Пер. с польск. М.: Индрик, 2005.
- Бенвенист (1995) — Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с фр., общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс — Универс, 1995.
- Бородай (2015) — Бородай С.Ю. Об индоевропейском мировидении // Вопросы языкознания. 2015. № 4. С. 60-90.
- Бэшем (2007) — Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. Екатеринбург: У-Факториал, 2007.
- Гамкрелидзе, Иванов (1984) — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и прото-культуры: в 2 ч. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
- Дюмезиль (1986) — Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Пер. с фр. Т. В. Цивьян. М.: Наука — Главная редакция восточной литературы, 1986.
- Елизаренкова (1999) — Елизаренкова Т.Я. О цветовом коде ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V-VIII. М.: Наука, 1999.
- Карма — источник знаний — Карма — источник знаний. URL: https://www.kommersant. ru/doc/5193414 (дата обращения: 19.07.2023).
- Колдовство, сглаз, порча — Колдовство, сглаз, порча: навстречу Хэллоуину-2016. Аналитический обзор от 31.10.2016. Портал ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/ analiticheskii-obzor/koldovstvo-sglaz-porcha-navstrechu-khellouinu-2016 (дата обращения: 19.07.2023).
- Корытко (2017) — Корытко О., прот. Homo religiosus: на путях поиска истины. Авторский курс лекций по «Истории нехристианских религий». М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2017.
- Корытко (2022) — Корытко О. В., прот. Роль церковной иерархии в борьбе с двоеверием на Руси (XI-XIII вв.) // Сретенское слово. 2022. № 2. С. 73-85.
- Мейе (1938) — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Пер. с фр. М.: Госуд. соц.-экон. изд-во, 1938.
- Одри (1988) — Одри Ж. Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. Сборник статей / Сост. Вяч. Вс. Иванов. Вып. XXI. М.: Прогресс, 1988. С. 24-121.
- Откупщиков (2001) — Откупщиков Ю.В. Очерки по этимологии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001.
- Памятники (1897) — Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / под ред. проф. А. И. Пономарева. Вып. 3. СПб.: Издание журнала «Странник»; Типография СПб. Акцион. Общ. печ. дела «Издатель», 1897.
- Платон (1999) — Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Мысль, 1999.
- СД (1995) — Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Институт славяноведения РАН — Международные отношения, 1995-2012. Т. 1: А-Г. М., 1995.
- Словник — Словник на Портале Института языкознания им. Л. Штура Словацкой академии наук. URL: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=bohyna&s=exact&c=D058&cs=&d=k ssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken# (дата обращения: 29.04.2023).
- Смирнов (1885) — Смирнов С., прот. Терминология Отцов Церкви в учении о Боге. Прибавления к творениям Святых Отцов в русском переводе. М., 1885.
- Фрагменты (1989) — Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Сост. А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989.
- Элиаде (1999) — Элиаде М. Трактат по истории религий: в 2 т. Т.1 / Пер. с фр. А. А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1999.
- ЭССЯ (1975) — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М.: Наука, 1974 — н.в. Вып. 2 (*bez — *bratrb). М., 1975.
- ЭССЯ (1978) — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М.: Наука, 1974 — н.в. Вып. 5 (*delo — *dbrzblb). М., 1978.
- Beekes (2009) — Beekes R. Etymological dictionary of Greek. Brill, 2009.
- Hofmann (1950) — Hofmann J.B. Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München, 1950.
- Mallory, Adams (2006) — Mallory J. P., Adams D. Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World (Oxford linguistics). Oxford University Press, 2006.