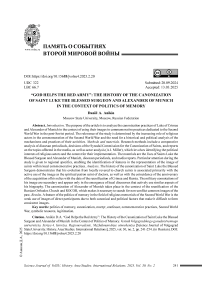«Бог помогает Красной армии»: история канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского в контексте политики памяти
Автор: Аникин Д.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Память о событиях Второй мировой войны
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Целью статьи является анализ практик канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского в контексте задействования их образов в коммеморативных практиках, посвященных Второй мировой войне, в постсоветский период. Актуальность исследования определяется увеличением роли религиозных акторов в коммеморации Второй мировой войны и необходимостью историко-политического анализа механизмов и практик их деятельности. Методы и материалы. Методы исследования включают в себя сравнительный анализ епархиальных периодических изданий, решений Синодальной комиссии по канонизации святых, сообщений по затрагиваемой тематике в средствах массовой информации, а также акторный анализ (А.И. Миллер), предполагающий выявление политических интересов религиозных акторов и контекста их реализации. Материалами выступают жития святых Луки Крымского и Александра Мюнхенского, епархиальные периодические издания, сообщения в средствах массовой информации. Особое внимание в ходе исследования уделяется региональной специфике, позволяющей определить особенности репрезентации образа святых в локальных коммеморативных практиках. Анализ. История канонизации Луки Крымского демонстрирует, что его эволюция от местночтимого в общецерковные святые связана, прежде всего, с активным использованием образа в качестве духовного покровителя медиков, а также с совпадением годовщины обретения его мощей с датой воссоединения Крыма и России. Военные коннотации его образа являются вторичными и проявляются лишь в возникновении локальных дискурсов, активно использующих подобные аспекты его биографии. Канонизация Александра Мюнхенского происходит в контексте воссоединения РПЦ и РПЦЗ, что вызывает к необходимости поиск неконфликтных общих образов прошлого. Результаты. Особенностью политики памяти в сфере религиозных коммемораций Второй мировой войны является слабое задействование образов непосредственных участников в силу как канонических, так и политических факторов, затрудняющих формирование непротиворечивых образов.
Политика памяти, канонизация, мученик, исповедник, коммеморативные практики, Вторая мировая война, символический ресурс, легитимация
Короткий адрес: https://sciup.org/149147763
IDR: 149147763 | УДК: 322 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.20
Текст научной статьи «Бог помогает Красной армии»: история канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского в контексте политики памяти
DOI:
Цитирование. Аникин Д. А. «Бог помогает Красной армии»: история канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского в контексте политики памяти // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 241–254. – DOI:
Введение. 30 марта 2020 г. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, официально открытый 22 июня 2020 г., получил в свое распоряжение на несколько дней уникальную реликвию – часть мощей Епископа Симферопольского и Крымского Луки. Несмотря на то что в архитектуре и иконостасе храма был задействован целый ряд значимых православных святых – от архангела Михаила до святого благоверного князя Александра Невского, – мощи Святителя Луки оказываются принципиально важными для символической репрезентации храма, поскольку позволяют максимально наглядно продемонстрировать непосредственную связь
Русской православной церкви (далее – РПЦ) и Великой Отечественной войны.
Несмотря на огромное значение, которое имеет Великая Отечественная война для современного российского общества, и активное участие различных религиозных сообществ, прежде всего, РПЦ в коммеморациях по поводу этого исторического события, показательным является тот факт, что традиционная религиозная практика канонизации практически не задействована в публичной легитимации памяти о войне. Если говорить о конкретных примерах канонизации исторических персонажей, имеющих непосредственное отношение к войне, то в составе местночтимых или общецерковных святых обнаруживаются два подобных примера: Епископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий), а также Александр Шморель.
Святитель Лука своей врачебной деятельностью внес активный вклад в борьбу с врагом во время Великой Отечественной войны, свидетельством чего является вручение ему медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Не менее важным оказывается и тот факт, что его позиция по поводу войны зафиксирована в публичных выступлениях и письменных документах. В частности, в своей статье «Бог помогает народам СССР в войне против фашистских агрессоров», опубликованной в Журнале Московской Патриархии в 1944 г., Войно-Ясенецкий пишет: «Сердца нацистов и их приспешников смердят пред Ним дьявольской злобой и человеконенавистничеством, а из горящих сердец воинов Красной Армии возносится фимиам беззаветной любви к Родине и сострадания к замученным немцами братьям, сестрам и детям. Вот почему Бог помогает Красной Армии и ее славным союзникам, карая выступивших, якобы, во имя Его гитлеровцев» [16]. Александр Шморель, являвшийся одним из активных участников сопротивления нацистскому режиму и погибший в 1943 г., представляет собой образ, гораздо менее известный и реже используемый в публичных коммеморациях Второй мировой войны.
Цель данной статьи – сравнительный анализ практик канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского и выявление историко-политических аспектов как самого процесса причисления к лику святых, так и его использования в контексте сохранения и поддержания памяти о Великой Отечественной войне и о Второй мировой войне. Для этого следует обратить внимание на особенности символических механизмов причисления к лику святых и различий ликов святости, далеко не всегда понятных для светских исследователей, а также на публичную репрезентацию образов Святителя Луки и Александра Шмореля в контексте современной российской политики памяти, посвященной Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.
Методы и материалы. Общей методологической рамкой исследования является представление об акторном анализе политики памяти, которое опирается на работы А.И. Миллера [21]. В категориальном смысле представляется важным уточнение О.Ю. Малиновой относительно различения понятий «историческая политика» и «политика памяти». Под политикой памяти следует понимать «деятельность государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях – еще и законодательного регулирования» [19, с. 299]. Историческая политика при таких условиях выступает одной из форм политики памяти, демонстрирующей активное вовлечение государства и органов власти в формирование определенных образов прошлого. Акторный анализ предполагает выделение мнемонических акторов и формируемых ими конкурирующих нарративов. Существенным фактором является возможность несовпадения политических и мнемонических акторов, то есть вычленение специфических мнемонических акторов происходит именно на основании их публичной деятельности, демонстрирующей заинтересованность в продвижении того или иного образа прошлого [19, с. 310]
Ключевыми мнемоническими акторами в случае рассматриваемых в статье фигур выступают, прежде всего, религиозные институции (в частности, отдельные епархии РПЦ а также – в более широком контексте – РПЦ и Русской православной церкви за границей (далее – РПЦЗ)), но и также и другие организации. В частности, образ святителя Луки приобретает большое значение для различных медицинских учреждений, выстраивающих стратегию его символического использования, прежде всего, с точки зрения врачебной деятельности.
Проблема религиозных мемориальных практик cравнительно мало разработана в отечественной и зарубежной литературе. Основоположником данной тематики является М. Халь-бвакс, который, опираясь на функционалистскую концепцию сакрального Э. Дюркгейма, сформулировал предпосылки исследования религиозных институтов в качестве субъектов коллективной памяти. Связь религии в ее широ- ком понимании (в том числе как «гражданской религии») с механизмами коллективного воспоминания была исследована Р. Белла, а также отечественными исследователями К.Э. Разлоговым и А.Г. Васильевым [5; 31]. Роль Великой Отечественной войны в качестве фактора формирования религиозной идентичности и религиозной памяти отмечается О.В. Голо-вашиной, А.А. Линченко и другими исследователями [15].
Тем не менее имеющиеся исследования по данной проблематике демонстрируют, что проблема религиозных коммемораций рассматривается либо в контексте трансформации религиозных практик, либо как элемент политической борьбы на уровне отдельных государств. В первом случае упор делается на культурологическом или антропологическом анализе локальных сообществ, что существенно затрудняет политологическую интерпретацию изучаемых ситуаций. Во втором случае игнорируется специфика самих религиозных институций как самостоятельных акторов политики памяти, не только выступающих инструментами реализации государственных целей, но и имеющих собственные цели в формировании и актуализации тех или иных образов прошлого.
Материалами для исследования канонизации святых в контексте исторической политики становятся не только официальные решения Синодальной комиссии, но сообщения епархиальных периодических изданий, а также сообщения средств массовой информации, позволяющие реконструировать контекст принятия решения о канонизации и дальнейшее складывание коммеморативных практик вокруг образа святого.
Анализ. Лики святости в православии. Обязательным условием историко-политического, а не только теологического изучения биографии святого является выяснение того, к какому именно лику святости он относится, поскольку каждый из имеющихся в православии и в католицизме ликов предполагает различные критерии причисления. Применительно к теме данной статьи стоит обратить особое внимание на два лика святости: мученики и исповедники, поскольку Александр Шмо-рель был прославлен в лике святых как Александр Мюнхенский, а В.Ф. Войно-Ясенецкий был причислен к лику святых в качестве исповедника Луки Симферопольского и Крымского.
Мученики, согласно определению в Православной энциклопедии, – это «в христианстве – святые, отдавшие жизнь за Христа. Представления о мученическом подвиге в основном сложились во время гонений на христиан в Римской империи» [22].
РПЦ еще в конце 1980-х гг. начала активно выступать за реабилитацию репрессированных священников. Эта тенденция находит отражение в появлении термина «новомученики». Хотя исторически этот термин применялся к тем мученикам, которые причислялись к лику святых после падения Константинополя (1453 г.), в постсоветских условиях он быстро получил более узкое значение. Под новомучениками стали понимать тех священников, которые погибли во время самой революции или стали жертвами политических репрессий 1920–1930-х гг. [30, p. 47–49].
Стоит отметить, что впервые о новомучениках заговорили представители РПЦЗ в 1940-е гг., причем их информация основывалась на слухах и непроверенных данных по поводу обстоятельств жизни и мученической смерти пострадавших священников. В последние годы существования Советского Союза эти материалы оказались доступны и для РПЦ, которая в 1989 г. создала Синодальную комиссию по канонизации святых, подготовившую материалы для канонизации новомучеников. На Архиерейском соборе 2000 г. к лику святых было причислено сразу 1 097 человек. Однако такая массовая канонизация в большинстве случаев не опиралась на уже существовавшие локальные культы и связные нарративы о жизненном пути новомучеников, поэтому не выполнила свою социальную функцию. Именно поэтому, как отмечает архимандрит Дамаскин, уже в 2011 г. было принято решение сместить акценты с увеличения количества мучеников на популяризацию их жизни среди россиян [9].
Православная энциклопедия дает следующее определение понятию «исповедники»: «сонм святых, прославляемых Церковью за открытое исповедание во время гонений своей веры во Христа и в Его истинное учение; к числу И. причислялись те христиане, которые, претерпев мучения, остались в отличие от мучеников в живых и умерли позже естественной смертью» [13, c. 605]. Это понятие известно еще с первых веков христианства, когда оно возникло для обозначения тех носителей веры, которые продолжали оставаться христианами, даже если понимали степень угрозы для своей жизни. В XX в. термин «исповедник» оказался вновь востребован для обозначения тех христиан, которые продолжали совершать религиозные обряды, но и не допустили поругания своей веры, в частности не отрекались от сана, не отрекались от монашества, не сотрудничали с карательными органами и не обрекали своими показаниями на смерть невинных людей.
Между ликами святости существуют определенные различия, но объединяющим качеством является то, что появление мученичества и исповедничества как социальнорелигиозных феноменов напрямую связано с периодом гонений на веру и церковь. Поэтому показательно, что на Архиерейском соборе РПЦ в 1992 г. было принято решение о праздновании 25 января Собора новомучеников и исповедников Российских, после чего были определены процедуры причисления к лику святых тех священнослужителей и мирян, которые стали жертвами преследований в годы советской власти.
Еще одним важным критерием типоло-гизации святых является вопрос о территории поклонения. В соответствии с этим критерием все святые в православии исторически делились на местнохрамовых, местноепархиальных и общенациональных. Как отмечает митрополит Ювеналий (Поярков), «право канонизации местнохрамовых и местноепархиальных святых принадлежало правящему архиерею с ведома Митрополита (позднее – Патриарха) всея Руси и могло ограничиться лишь устным благословением на почитание местного подвижника. По причине таких устных благословений при рассмотрении истории русских канонизаций можно обнаружить довольно большое число святых, не имеющих письменного определения на их почитание, однако в действительности почитающихся, при этом имеющих большую известность, торжественные службы и чинопоследования. Право канонизации общецерковных святых принадлежало Митрополиту или Патриарху всея Руси при участии Собора русских иерархов» [29].
В современном православии действует различение местночтимых и общецерковных святых, что позволяет выстроить многоступенчатую структуру канонизации, позволяющую минимизировать риск ошибок. Епархиальная комиссия по канонизации готовит документы, содержащие основания для причисления к лику святых, в частности факты поклонения ему и чудес, совершаемых в определенной местности. Далее полученные документы поступают в Синодальную комиссию по канонизации святых, которая осуществляет их проверку, после чего, в случае положительного заключения, местный епископ получает разрешение внесения нового святого в список местночтимых святых своей епархии.
Эти пояснения необходимы для понимания того, почему в различных непрофессиональных источниках могут встретиться разные даты причисления к лику святых одного и того же человека, причем не исключено, что каждая из этих дат является правильной, просто она обозначает определенную стадию канонизации, например, причисление к лику местночтимых святых или переход из числа местночтимых в разряд общецерковных. По отношению к епископу Луке путь от местночтимого святого к общецерковному почитанию занял 5 лет (с 1995 по 2000 г.), у Александра Шмореля путь признания в качестве местночтимого святого занял почти 20 лет – с начала 1990-х гг. по 2012 год.
Канонизация Епископа Луки: от локальной святости к общероссийской славе. Пополнение списка канонизированных в 1990-е гг. Украинской православной церковью (далее – УПЦ) Московского патриархата осуществлялось в условиях усилившейся миссионерской деятельности и потенциальных расколов между различными православными деноминациями, боровшимися за влияние в этом регионе. Так А. Макаркин отмечает: «В октябре 1996 г. комиссия отклонила запрос о канонизации митрополита Петра (Могилы), виднейшего деятеля украинского православия XVII в., которого некоторые российские богословы обвиняли в симпатиях к католицизму. Однако Украинская православная церковь
Московского патриархата все же провела местную канонизацию, чтобы не позволить конкурирующим с ней религиозным организациям в лице Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви монополизировать роль “наследников” знаменитого митрополита» [18, c. 65]. Таким образом, речь шла о подборе для канонизации тех символически значимых фигур, которые бы не становились предметом внутренних расколов для православных верующих и к тому же выступали важным символическим ресурсом для конкурентной борьбы с альтернативными религиозными сообществами.
Стоит учитывать и аспект внутренней символической борьбы – уже не между различными православными церквями, а между различными епархиями в рамках РПЦ за канонизацию наиболее популярных или хотя бы известных фигур, могущих стать объектами для православного паломничества. В этом смысле фигура Епископа Луки, имеющего непосредственное отношение к истории Симферопольской епархии, к тому же обладающего известностью далеко за пределами самой епархии, становилась важным символическим ресурсом в подобной конкуренции.
Биография В.Ф. Войно-Ясенецкого (Луки Крымского) состоит из нескольких этапов, важных в контексте как последующей канонизации, так и символического использования его образа в политике памяти. До революции он успел получить ученую степень доктора медицины, но после смерти супруги в 1919 г. приобщился к православной вере и в 1920 г. принял сан священника, в 1923 г. стал епископом Барнаульским. На протяжении двадцати с лишним лет (до 1946 г.) несколько раз находился в ссылке, совмещая религиозную и врачебную деятельность. Его выдающимся достижением в медицине считается труд «Очерки гнойной хирургии», который впервые был опубликован в 1934 году. Во время войны Лука, будучи архиепископом Красноярским, активно работал в госпиталях, проводя хирургические операции, что сделало возможным его фактическую реабилитацию и перевод сначала на Тамбовскую кафедру (1944 г.), а затем – на Крымскую кафедру (1946 г.), которую он и возглавлял до своей смерти в 1961 году.
Как описывается в житии Святителя Луки, «Чудеса исцелений душевных и телесных недугов, во множестве происходившие на могиле святителя Луки, всенародное почитание приснопамятного крымского архиепископа подвигло священноначалие Православной Церкви к внимательному изучению его жизни и творений. В результате деятельности епархиальной Комиссии по канонизации святых было составлено житие святителя, а также служба и акафист, написана икона» [20, c. 44]. В данном описании мы видим традиционную дискурсивную практику объяснения канонизации, согласно которой сам факт причисления к лику святых становится результатом уже сложившихся неформальных практик поклонения, а сами эти практики выступают как естественное следствие чудес и исцелений, имевших место либо на могиле, либо в местах, связанных с деятельностью канонизируемого. 22 ноября 1995 г. Синод УПЦ причислил Епископа Симферопольского и Крымского Луку к числу местночтимых святых Симферопольской епархии, а также дал разрешение на вскрытие его могилы с целью обретения мощей.
Вскрытие могилы состоялось в ночь с 17 на 18 марта 1996 г., после чего мощи епископа Луки были выставлены в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя для поклонения верующих. Днями церковного поминовения были установлены 11 июня – дата смерти (29 мая по юлианскому календарю) и 18 марта – дата обретения мощей (5 марта по юлианскому календарю).
Показательно, что И.В. Басин в своем кратком описании жизненных и церковных достижений епископа Луки рассматривает его врачебную и церковную деятельность, обращая особое внимание даже на его конфликты в церковной среде, связанные с отстаиванием канонических православия, но при этом абсолютно исключает из его биографии какое-либо участие в Великой Отечественной войне. «В 1941 г., вскоре после начала войны, назначен главой местного госпиталя, а также главным консультантом всех госпиталей Красноярского края. Несмотря на это, по-прежнему жил в крайней нищете, голодал. В 1942 г., когда закончился срок ссылки святого, митрополит Сергий (Страгородский) на- значил его на Красноярскую кафедру в сане архиепископа» [2, c. 228–229].
Нетрудно заметить, что в этом кратком описании упор делается на участии Луки в церковной жизни, а также на его медицинских работах, которые, однако, никак не соотносятся с социально-политическим контекстом их появления. Ключевым аспектом деятельности Луки Крымского в публичном дискурсе становится его врачебная деятельность, которая приводит к активному распространению его образа в медицинских учреждениях.
Параллельная коммеморация Луки Крымского на территории Российской Федерации начинает складываться с 1999 г., когда он был причислен к числу местночтимых святых Красноярской епархии, где в свое время находился в ссылке. Показательно, что мнемоническим актором формирования памяти о Луке Крымском в Красноярске выступила не только местная епархия, заинтересованная в появлении символически значимых и узнаваемых фигур в чине местных святых, но и Красноярская государственная медицинская академия, начавшая использовать образ работавшего в этом вузе в годы войны святителя Луки еще с конца 1990-х годов.
В Красноярске уже в 2002 г. был открыт памятник Святителю Луке, набор визуальных элементов которого репрезентировал сложность его жизненного пути. Как отмечал скульптор Б.И. Мусат, «спокойной, статичной позой я хотел подчеркнуть, что святитель Лука – мудрец и мыслитель. Ряса – это одежда священнослужителя. Особый смысл – расположение рук: как подтверждают врачи, это характерный жест пальцев у хирургов. И еще такая деталь, как ватник. Я считаю, что это символ российского лихолетья. Ватник – это тюрьма, война, непосильная работа, самая дешевая, практичная одежда в России в самые трудные времена» [27]. Сама символика памятника подчеркивает, что ключевым элементом образа выступает сочетание не только религиозных, но и врачебных коннотаций, что объясняется тем, что основным заказчиком памятника выступила Красноярская медицинская академия. Среди почетных гостей на открытии памятника присутствовали представители местной епархии, но визуальный образ оказался сформирован в соответствии с представлениями о ведущей роли врачебной деятельности.
Стоит отметить, что даже в этом объяснении уже прослеживается стремление соотнести образ Луки Крымского не только с его богословской или врачебной деятельностью, но и с его ролью в организации работы тыла в годы войны. Этот аспект образа усиливается в 2007 г., когда его имя присваивается Красноярской медицинской академии (любопытно, что в светском варианте – имени В.Ф. Войно-Ясенецкого), что также позволяет связать его имя с войной, поскольку этот вуз был создан в 1942 г. из эвакуированных в Красноярск частей ленинградских медицинских вузов (в 2008 г. он получил статус университета, что тоже можно считать последствием активно ведущейся символической политики по увековечиванию образа Луки Крымского). В 2017 г. на территории университета был поставлен еще один памятник Святителю Луке, причем его установка была приурочена сразу к двум датам – 140-летию со дня его рождения и 75-летию со дня основания университета [17].
На Архиерейском соборе 2000 г. Святитель Лука, как и большое количество новомучеников и исповедников советского времени, был причислен уже к сонму общецерковных святых, что означало возможность увековечивания его памяти и непосредственно за пределами Симферопольской епархии [3]. Несмотря на повышение своего статуса, Лука на протяжении достаточно длительного времени остается значимым либо в качестве локального святого (Красноярская епархия), либо в качестве профессионального духовного заступника в медицинской среде.
Изменение отношения к нему со стороны Московского патриархата отчетливо прослеживается после событий 2014 года. На многих православных сайтах подчеркивается тот факт, что официальное воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. происходит в день официального обретения мощей Святителя Луки, что позволяет считать его не только духовным заступником Крымской епархии, но и покровителем возвращения самого Крыма в состав России. Например, на сайте православного фонда «Серафим» прямо утверждается: «18 марта 2014 года произошло воссоедине- ние Крыма и России. Этому предшествовали события Крымской весны, начавшейся 26 февраля 2014 г. Таким образом, святитель-хирург Лука, занимавший архиерейскую кафедру в Крыму с 1946 г. до 1961 г. (Владыка преставился 11 июня 1961 г.), причастен к возвращению Крыма, которое произошло в День обретения его мощей» [14].
23 апреля 2015 г. Патриарх Кирилл участвует в публичном кинопоказе фильма «Излечить страх», посвященного биографии Луки Крымского [24]. Показательно, что сам фильм был снят еще в 2013 г. совместно украинскими и белорусскими кинематографистами, в том же году принял участие в нескольких кинофестивалях, но его публичный просмотр с участием руководителя Русской православной церкви состоялся уже в принципиально ином политическом контексте [12].
С 1 октября по 27 ноября 2018 г. по личному благословлению Патриарха Кирилла и при поддержке Фонда Андрея Первозванного осуществляется принесение мощей Святителя Луки сразу в 19 российских городов, включая Калининград, долгое время бывший личной епархией будущего патриарха [25].
Любопытное сочетание сразу трех аспектов деятельности Святителя Луки (врачебного служения, участия в Великой Отечественной войне, содержания в тюрьме и нахождения в ссылке) демонстрирует традиция проведения Бессмертного полка в Бутырской тюрьме, появившаяся в 2017 г. и продолжающаяся до сих пор [23]. Возглавляет колонну сотрудников и заключенных именно образ Луки Крымского, поскольку сам святитель содержался в этой тюрьме под следствием. Как отмечается на сайте благотворительного фонда «Инок», поддерживающего проведение данной акции: «Его страдания, тюрьмы и ссылки, – это долгая череда мучений, неподъемная без Помощи Божьей. Однако, когда владыка узнал о начале войны, – он попросился работать в военный госпиталь, обещая отбыть свой срок заключения потом, после Победы» [4].
Разумеется, медицинский аспект деятельности Святителя Луки не остался без внимания в контексте пандемии коронавируса. Указ Президента РФ сформулировал следующие критерии для награждения медалью
Луки Крымского: «Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники клинических, лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, санаторно-курортных, инженерно-технических, научно-исследовательских, фармацевтических, учебных и других медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарственными препаратами, разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, подготовку кадров для медицинских организаций, за научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья, а также работники органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных социальных услуг, осуществлением квалифицированного стационарного ухода и ухода на дому за гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании, за большой вклад в организацию предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам» [28].
В этом смысле образ Святителя Луки до сих пор остается важным элементом комме-морации медицинских сообществ, что приводит к активной установке памятников и изменениям в топонимике, которые, однако, выходят за пределы тематики данной статьи. Можно констатировать, что образ Луки демонстрирует тенденцию превращения из местночтимого святого в один из ключевых образов РПЦ, причем его связь с Великой Отечественной войной остается в тени более востребованных ипостасей – выдающегося медика и покровителя Крыма в составе Российской Федерации. Отдельные репрезентации Луки в контексте Великой Отечественной войны (Красноярский медицинский университет, Бутырская тюрьма) только подчеркивают эту тенденцию.
Канонизация Александра Шмореля: поиск межцерковного компромисса. Биогра- фия Александра Шмореля (1917–1943), причисленного к лику святых в качестве Александра Мюнхенского, известна гораздо меньше, чем история жизни Луки Крымского, поэтому о ней стоит сказать хотя бы в общих чертах. Александр Гугович Шморель происходил из смешанной семьи: отец – немец на русской службе, мать – дочь православного священника. Он родился в Оренбурге и был крещен по православному обряду, но в 1920 г. семья эмигрировала в Германию, где он впоследствии был призван в ряды вермахта, в годы войны служил в составе санитарной роты на Восточном фронте. В 1942–1943 гг. он являлся организатором и активным участником христианской организации «Белая Роза», которая распространяла листовки, критикующие лично Гитлера и вообще антихристианский режим, установившийся в нацистской Германии. В 1943 г. Шморель был арестован и казнен путем отсечения головы на гильотине 13 июля 1943 г. [11].
Вместе с тем посмертная судьба Александра Шмореля должна рассматриваться в контексте особенностей причисления к лику святых РПЦЗ.
Канонизация новомучеников в рамках РПЦЗ объективно столкнулась с целым рядом трудностей. Во-первых, основания для причисления к лику новомучеников подавляющего большинства погибших священнослужителей или мирян были известны лишь на основании слухов и отдельных свидетельств, что не позволяло полностью установить соответствие кандидатов в новомученики действующим критериям канонизации. Во-вторых, среди русских эмигрантов первой волны отсутствовала сложившаяся и устойчивая традиция почитания новомучеников, что также негативно влияло на вопрос формального закрепления за ними подобного статуса. В-третьих, существенной оставалась проблема институциональных механизмов канонизации, а именно – правомочности РПЦЗ принимать подобные решения. Как отмечает современный исследователь: «В среде самой Зарубежной церкви многие люди горячо возражали против этого прославления, считая, что «не маленькой Русской Зарубежной Церкви браться за него», что надо подождать того времени, пока сама Русская Православная Церковь, освободившись от безбожников, совершит канонизацию» [10, c. 276].
В 1990-е гг. вопросы канонизации мучеников в РПЦЗ вновь возобновляются, причем в контексте противоречивых тенденций внутри нее самой. С одной стороны, усиливаются межцерковные связи между РПЦ и РПЦЗ, а с другой – возникают внутренние расколы внутри самих зарубежных епархий по поводу готовности или неготовности пойти на примирение с РПЦ, которая все годы советской власти подвергалась критике в эмигрантской литературе за сотрудничество с органами власти.
Вопрос о времени канонизации Александра Шмореля является неоднозначным. С одной стороны, о его канонизации в качестве местночтимого святого неоднократно говорили с начала 1990-х годов. В итоге процедура причисления к лику святых была начата. По крайней мере, в Вестнике Германской епархии РПЦЗ указывается: «Архиерейский собор РПЦЗ несколько лет назад благословил совершить прославление Александра Шмореля в качестве местночтимого святого» [26, c. 27]. При этом указывается, что процесс причисления к лику святых так и оставался незавершенным в силу неготовности службы в честь нового святого [26, c. 28].
Очевидно, что запланированный визит епископа Берлинского и Германского Марка на родину Александра Шмореля в Оренбург в 2007 г. привел к ускорению процесса канонизации. Уже 16 июля 2007 г. священник Николай Артемов сообщает о принятом Германской епархией решении [7]. Активизацию процесса канонизации Александра Шмореля стоит рассматривать в связи с подготовкой Акта о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, который был принят 17 мая 2007 года. В контексте этого события, восстанавливающего единство Русской православной церкви, было желательно появление святого, который был одинаково приемлем как для эмигрантского сообщества (в силу принадлежности к нему), так и для РПЦ (в силу возможности вписывания его биографии в историю Второй мировой войны и борьбы с нацизмом). Завершается этот процесс 5 февраля 2012 г., когда в Мюнхенском соборе в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских была отслужена Божественная литургия, ознаменовавшая при- числение Александра Шмореля к лику новомучеников под именем Александра Мюнхенского [6]. Официальной датой его поминовения установлен день его кончины 13 июля (30 июня).
Показательно, что, несмотря на статус местночтимого святого, можно констатировать активное использование образа Александра Шмореля в деятельности еще одной епархии РПЦ – Оренбургской. Еще в 1999 г. земля из Оренбурга была привезена на могилу Александра Шмореля, в 2007 г. состоялся визит Епископа Берлинского и Германского на место рождения новомученика, а в процессе официального признания его канонизации в 2012 г. принял участие митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин. Еще несколько лет спустя, в 2020 г., в рамках празднования 75-летия Победы у входа в Оренбургский государственный медицинский университет был открыт памятник Александру Шморелю [8].
Вместе с тем какого-то сложившегося культа поклонения новомученику Александру Мюнхенскому зафиксировать не удается. Его образ в контексте Второй мировой войны и борьбы с нацизмом локально используется двумя епархиями – Германской и Оренбургской, при этом в стороне остается «неудобный» вопрос о его отношении к советской власти.
Выводы. С политологической точки зрения подбор кандидатур для канонизации, а также особенности протекания данного процесса позволяют отчетливее выявить механизмы взаимодействия различных политических акторов, в качестве которых могут выступать и религиозные институции. Изучение особенностей канонизации Луки Крымского и Александра Мюнхенского дает возможность продемонстрировать, что использование их образов для репрезентации Великой Отечественной войны и Второй мировой войны носит вторичный характер.
В случае Луки Крымского причисление к лику святых изначально не было связано с его деятельностью в годы войны, а подобные коннотации отчетливо проявляются лишь после включения Луки Крымского в символическое пространство российского социума со сложившейся мемориальной культурой, ключевым элементом которой является память о
Великой Отечественной войне. Случай Александра Мюнхенского демонстрирует, что канонизация может являться результатом политического компромисса между различными религиозными акторами – в данном случае РПЦ и РПЦЗ. В данной ситуации определенные негативные коннотации (борьба против большевизма) оказываются в публичном пространстве оттеснены на периферию, а на первый план выходят те аспекты деятельности, которые позволяют избежать острых противоречий.
С точки зрения акторного подхода, следует отметить, что в случае Луки Крымского можно видеть два этапа деятельности политических субъектов. На первом этапе основными мнемоническими акторами выступают религиозные институции (епархии), предлагающие согласованные друг с другом нарративы, на втором этапе происходит постепенное смещение акцентов в публичной репрезентации образа Святителя Луки в сторону нецерковной деятельности, что позволяет включиться в конкуренцию за образ как медицинским учреждениям (особенно в условиях пандемии), так и образовательным. Важную роль после 2014 г. в репрезентации образа Луки Крымского как покровителя Крыма в составе Российской Федерации начинают играть региональные и федеральные органы власти. В случае Александра Шмореля образ канонизированного святого выступает в качестве предмета интереса, прежде всего, религиозных акторов, интерес к нему со стороны других государственных или негосударственных институций носит ситуативный характер.
Вместе с тем изученные сюжеты позволяют поставить более общий вопрос об использовании образов святых в репрезентации Великой Отечественной войны (или Второй мировой войны, как корректнее говорить в контексте фигуры Александра Шмореля). С одной стороны, религиозные коммеморации все активнее используются как в репрезентации самой войны, так и ее вписывании в более широкий контекст воинской славы России [1]. С другой – можно зафиксировать очень важную особенность, заключающуюся в использовании образов святых, непосредственно не связанных с Великой Отечественной войной, как вызывающих меньше затруднений при оп- ределении самого сакрального статуса с точки зрения канонических критериев. Приведенные примеры демонстрируют различные стратегии канонизации, выступающие прежде всего инструментом внутрицерковной дипломатии, а установление связи с образом Великой Отечественной войны (Второй мировой войны) выступает лишь в качестве логичного следствия изменения символического ландшафта современного российского общества. Сделанный выбор демонстрирует, что инструментарий гражданской религии и канонический церковный инструментарий формирования и сакрализации символически значимых образов могут существенно различаться, что приводит к необходимости отказа от наиболее очевидных, с точки зрения невоцерковленных граждан и сообществ, решений (например, призывы к канонизации Зои Космодемьянской периодически звучат в публичном пространстве). Из этого, однако, не следует, что тенденция по причислению к лику святых (разумеется, при наличии соответствующих критериям Синодальной комиссии доказательств) не будет продолжена в ближайшие годы.