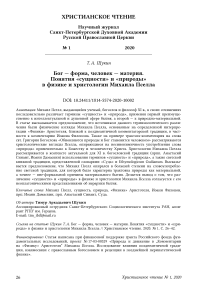Бог - форма, человек - материя. Понятия "сущности" и "природы" в физике и христологии Михаила Пселла
Автор: Щукин Тимур Аркадьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (90), 2020 года.
Бесплатный доступ
Михаил Пселл, выдающийся ученый, богослов и философ XI в., в своих сочинениях последовательно различает термины «сущность» и «природа», применяя первый преимущественно к интеллектуальной и душевной сфере бытия, а второй - к природно-материальной. В статье высказывается предположение, что источником данного терминологического различения были физические взгляды Михаила Пселла, основанные на определенной интерпретации «Физики» Аристотеля, близкой к позднеантичной комментаторской традиции, в частности к комментарию Иоанна Филопона. Также на примере трактата-комментария на слова свт. Григория Богослова «Обновляются природы и Бог становится человеком» рассматриваются христологические взгляды Пселла, опирающиеся на несинонимичность употребления слова «природа» применительно к Божеству и человечеству Христа. Христология Михаила Пселла рассматривается в контексте актуальной для XI в. богословской традиции (прпп. Анастасий Синаит, Иоанн Дамаскин) использования терминов «сущность» и «природа», а также светской книжной традиции, представленной словарями «Суда» и Ethymologicum Gudianum...
Михаил пселл, сущность, природа, "физика" аристотеля, иоанн филопон, прп. иоанн дамаскин, прп. анастасий синаит, суда
Короткий адрес: https://sciup.org/140248983
IDR: 140248983 | DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10002
Текст научной статьи Бог - форма, человек - материя. Понятия "сущности" и "природы" в физике и христологии Михаила Пселла
Associate fellow of the St. Petersburg Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, Postgraduate student of the Herzen State Pedagogical University of Russia.
Financing: ^e article was wri^en with the ^nancial support with a grant from ^e Russian Foundation for basic research, project no. 17-03-00329 «Nature and movement in „Сomments On the «Physics» of Aristotle“ by Michael Psellos. Study of the in^uence of the late-romantic tradition, the relationship with Orthodox theology, and reception in later peripatetic physics».
В одной из наших предыдущих статей [Щукин, 2019] мы рассмотрели трактовку Михаилом Пселлом терминов «сущность» (οὐσία) и «природа» (φύσις) преимущественно на космологическом материале и пришли к выводу, что византийский философ более или менее строго различает данные термины, используя их согласно следующему принципу: термин «сущность», как правило, применяется к реальностям высших сфер иерархии (умной и душевной), в то время как термин «природа» зарезервирован за собственно космическим, материальным бытием. При этом к Богу могут применяться в равной степени оба термина, так как ни тот, ни другой в строгом смысле к Нему неприложимы.
В упомянутой статье мы обошли стороной идейный источник различения сущности и природы, а именно физические взгляды Михаила Пселла1. Представление о них мы можем получить, прежде всего, из его комментария на соответствующий трактат Аристотеля. Византийский философ, работая с этим аристотелевским текстом, анализирует указанные понятия в их максимально отвлеченном виде куда более тщательно, чем в других своих сочинениях, по большей части учебных или компилятивных. Вполне естественно, что определения природы, с которыми солидаризируется Михаил Пселл в этом сочинении, были использованы им в иных богословско-философских контекстах. Как известно, определение природы, базовые параметры природных вещей, специфику знания о природе и физического объекта Аристотель рассматривает в первой книге трактата. Разбирая его, Михаил Пселл приводит следующее различение:
Подлежащая природа, очевидно, материя; заметь, что эллины одно, а именно материю, называют природой, другое — сущностью, то есть формой. И хотя сама подлежащая природа познаваема, но по преимуществу познаваема форма (ибо она постигается умом с помощью науки), материя же познаваема не просто и непосредственно, а по аналогии, потому что она, при отсутствии собственной формы, постигается по аналогии с оформленным. Так, если от статуи отнять форму статуи, останется медь, а если от огня отнять форму огня, то, используя незаконное умозаключение, можно постичь материю.
Сущностью он называет форму, порожденное из самого себя, чувствуемое, это-вот и сущее. Поэтому и материя получила наименование природы. Если же сущность сказывается от бытия (ёк той eivai), то каким же образом материя, будучи не-су-щим, будет названа сущностью? Но все же мы понимаем ее по аналогии с оформленными, и материя называется познаваемой с помощью незаконного умозаключения.
Итак, одно начало — это подлежащее, хотя оно не так едино, как это-вот и одно, ибо оно имеет в себе самом и лишенность. Второе же [начало] — это логос (ὁ λόγος)… логосом же он называет форму, потому что логос существующего и есть форма [Михаил Пселл, 2017, 467].
Ἡ δὲ ὑποκειμένη φύσις, δηλονότι ἡ ὕλη — καὶ ὅρα πῶς ἔχουσιν οἱ Ἕλληνες ἄλλην τὴν φύσιν, τὴν ὕλην δηλαδή, καὶ ἄλλην τὴν οὐσίαν, τουτέστι τὸ εἶδος — αὕτη γοῦν ἡ ὑποκειμένη φύσις ἐπιστητὴ ἐστιν, ἀλλὰ τὸ εἶδος ἦν κυρίως ἐπιστητὸν (νῷ γὰρ κατ’ ἐπιστήµην ἐγνωρίζετο), ἡ δὲ ὕλη οὐχ ἁπλῶς ἐπιστητὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν, ἀλλὰ κατ’ ἀναλογίαν· ἀναλόγως γὰρ ἐκ τῶν εἰδοποιημένων τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ εἴδους γνωρίζεται αὕτη. Ὅταν γὰρ ἐκ τοῦ ἀνδριάντος το ἀνδριάντειον εἶδος ἀφαιρεθῇ, ἐναπελείφθη χαλκός, καὶ ὅτε ἐκ τοῦ πυρὸς τὸ πύρινον εἶδος ἀφαιρεθῇ, νόθῳ λογισμῷ ἡ ὕλη γνωρίζεται.
Οὐσίαν λέγει τὸ εἶδος, τὸ δ҆ ἐξ αὐτοῦ ἀπογέννημα, τὸ αἰσθητόν, τόδε τι καὶ ὄν. Ὥστε ἡ ὕλη τὸ φύσις λέγεσθαι ἐκληρώσατο. Εἰ δὲ οὐσία ἐκ τοῦ εἶναι λέγεται, μὴ ὂν ἐκείνη οὖσα, πῶς οὐσία κληθείη; Ὅμως ἐλάβομεν πῶς κατ’ ἀναλογίαν ἀπὸ τῶν εἰδοποιημένων καὶ νόθῳ λογισμῷ ἡ ὕλη λέγεται ἐπιστητή.
Μία οὖν αὕτη ἀρχὴ ὡς ὑποκείμενον, οὐχὶ δὲ μία οὕτως ὡς τόδε τι καὶ ἕν· ἔχει γὰρ ἐν ἑαυτῇ καὶ τὴν στέρησιν. Δευτέρα ἡ ὁ λόγος… λόγος δὲ λέγει τὸ εἶδος. τοῦ γὰρ ὄντος ὁ λόγος τὸ εἶδος ἐστιν [Benakis, 2008a, 53.11 — 54.11].
Во-первых, в данном отрывке присутствует искомое противопоставление терминов «сущность» и «природа», которого мы не находили эксплицитно в иных текстах Михаила Пселла. Противопоставление отсылает к самому тексту «Физики», в котором Аристотель говорит о двух противоположных началах и который можно трактовать в том смысле, что термин «природа» соотносится с материей, а термин «сущность» ближе к форме или определению:
Что касается лежащей в основе природы, то она познаваема по аналогии: как относится медь к статуе, или дерево к ложу, или материал и бесформенное [вещество] еще до принятия формы ко всему обладающему формой, так и она относится к сущности, к определенному и существующему предмету. Итак, одно начало — этот [субстрат] (хотя он не так един и существует не в том смысле, как определенный предмет), другое же — определение… [Аристотель: Физика, 77].
ἡ δὲ ὑποκειμένη φύσις ἐπιστητὴ κατ’ ἀναλογίαν. ὡς γὰρ πρὸς ἀνδριάντα χαλκὸς ἢ πρὸς κλίνην ξύλον ἢ πρὸς τῶν ἄλλων τι τῶν ἐχόντων μορφὴν [ἡ ὕλη καὶ] τὸ ἄμορφον ἔχει πρὶν λαβεῖν τὴν μορφήν, οὕτως αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. μία μὲν οὖν ἀρχὴ αὕτη, οὐχ οὕτω μία οὖσα οὐδὲ οὕτως ὂν ὡς τὸ τόδε τι, μία δὲ ἧς ὁ λόγος, ἔτι δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ, ἡ στέρησις [Aristoteles: Phys., I 7, 191a 7–13].
Круг значений термина φύσις и соотношение его с термином οὐσία Аристотель рассматривает в пятой книге «Метафизики» [Aristoteles: Met. V 4, 1014b 16 — 1015a 19], в той же книге дается и определение сущности [Aristoteles: Met. V 8 1017b 10–26]. Круг значений φύσις гораздо шире, но, как кажется, данное понятие связывается с до-формальным бытием вещи, с ее движением, ростом, внутренней связью элементов, ее материальным субстратом. В то время как οὐσία определяется либо как единичная вещь, либо как форма вещи. При этом, оговоримся, Аристотель вполне мог использовать данные термины как взаимозаменяемые и синонимичные, допуская возможности антинонимичного именования [Aristoteles: Phys., II 1, 193a 27–33]2. Классическим и консенсусным для последующей традиции стало определение природы как «начала движения и покоя» [Aristoteles: Phys., II 1, 192b 13–14; Sorabji, 2012, 33], то есть вне-формальной причины вещи и всего бытия. Этого определения придерживается и Пселл3, хотя осознает неоднозначность аристотелевской терминологии [Benakis, 2008a, 68.16 — 69.3; Варламова, 2018, 331].
В данном контексте четкого противопоставления сущности и природы у Аристотеля нет. Здесь материя соотносится не с формой, а с единичной вещью, с «определенным и существующим предметом», с тем, что обладает формой. Далее утверждается наличие двух противоположных начал: материи и ее определения, но в данном случае нельзя однозначно утверждать, что сущность и определение тождественны. Безусловно, они соотносятся с материей и противостоят ей в одном контексте, но вполне допустима интерпретация, согласно которой сущность в данном контексте — это единичное, а определение — это его форма или смысл. Если речь идет о познании, что именно познается в единичном (и по аналогии с чем познается материя)? Вероятно, все-таки сущность с точки зрения своего определения и смысла, но не в смысле чтойности.
Откуда же Михаил Пселл заимствовал противопоставление «сущности» и «природы»? На наш взгляд, источником могут быть позднеантичные толкования на «Фи-зику»4, среди которых мы бы выделили комментарий Иоанна Филопона:
Что касается лежащей в основе природы, то она познаваема по аналогии. Отсюда начинается изложение некоего способа познания материи, а именно познания «по аналогии». Мы ранее также сказали, что Платон пользуется методом, основанным на отнятии. Так и она относится к сущности, к определенному и существующему предмету. Говоря сначала «к сущности» и «к определенному», а потом говоря «и существующему», он продвигается к более общему. Ведь материя является подлежащим по отношению к сущности, благодаря сущности, очевидно, материя становится подлежащим и для привходящих свойств. Он бы мог сформулировать так: материя является подлежащим для сущности, сущность является подлежащим для привходящих свойств и, следовательно, материя также является подлежащим для привходящих свойств.
῾Η δ’ ὑποκειμένη φύσις ἐπιστητὴ κατὰ ἀναλογίαν. ᾿Εντεῦθεν τίς ὁ τρόπος τῆς γνώσεως τῆς ὕλης ὑποτίθεται, ὅτι κατὰ ἀναλογίαν, εἴπομεν δ’ ὅτι ὁ Πλάτων καὶ τῷ ἐξ ἀφαιρέσεως
τρόπῳ κέχρηται. οὕτως αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. εἰπὼν πρὸς οὐσίαν καὶ τόδε τι, ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸ καθολικώτερον εἰπὼν καὶ τὸ ὄν· ὑποκειμένη γὰρ ἡ ὕλη τῇ οὐσίᾳ, δι’ αὐτῆς δηλονότι καὶ τοῖς συμβεβηκόσιν ὑπόκειται. καὶ συλλογίσῃ αὐτὸ οὕτως· ἡ ὕλη τῇ οὐσίᾳ ὑπόκειται, ἡ οὐσία τοῖς συμβεβηκόσιν ὑπόκειται, καὶ ἡ ὕλη ἄρα τοῖς συμβεβηκόσιν ὑπόκειται [Joannes Philoponus: In Phys., 166, 20 — 167, 2].
В данном контексте у Иоанна Филопона «природа» отождествляется с материей. В случае же сущности делается различение сущности как единичного (или определенного) и сущности как существующего, причем существующее оказывается более общим, чем единичное. Представляется, что здесь идет речь именно о той дистинкции сущности как единичности и сущности как познаваемого смысла, которая не проговорена в толкуемом отрывке из Аристотеля. Действительно, термин «сущность» у Ста-гирита, не только в данном отрывке, неизбывно двойственен, и Иоанн Филопон эту двойственность подчеркивает. Материя является подлежащим для сущности, но сама сущность двойственна, и, следовательно, само это бытие в качестве подлежащего оказывается двойственным. Действительно, материя соотносится с сущностью как чем-то существующим, еще не определенным привходящими свойствами, то есть речь идет еще не о единичном существовании, а о существовании как таковом, о простом соотнесении материи и бытия, и, видимо, корректно было бы отождествить сущность с видом, но не отвлеченным видом (формой), а видом, соотнесенным с определенной материей. В другом месте Иоанн Филопон говорит, что поскольку сложная (то есть составленная из материи и вида) сущность является самоипостасной (αὐθυπόστατον), то и причины ее должны быть самоипостасными. Из этого Иоанн Филопон делает вывод о том, что и вид, и материя являются в некотором роде сущностями. При этом все же вид специфичен для каждой сущности, а материя является общей. Следовательно, вид все же в большей степени соотносится с сущностью, а материя — постольку поскольку она является материей для конкретного вида [Joannes Philoponus: In Phys., 138, 7–16]. На втором этапе — вернемся к предыдущему отрывку — материя соотносится уже не только с существующей сущностью, но с сущностью определенной. На этом этапе она получает привходящие свойства и становится определенной материей определенной сущности. В любом случае именно у Иоанна Филопона мы наблюдаем соотнесения сущности с видом, формой и смыслом вещи, а природы — с материей. Последние, исходя из других рассуждений Филопона, составляют до неразличимости единое целое, в котором природа выступает субъектом становления, а материя — субстратом [Joannes Philoponus: In Phys., 201, 10 — 202, 12].
Вернемся к комментарию Михаила Пселла. Второе, что нужно в нем отметить, это объяснение того, почему сущностью по преимуществу называется именно форма. Потому, что именно она является носителем смысла единичной вещи, а материя только воспринимает этот смысл. Михаил Пселл объясняет это различие, опираясь на слова Аристотеля о познании «по аналогии». Византийский мыслитель пишет: если сущностью является то, что является носителем смысла, то оно познается с помощью науки, а природа, поскольку она лишь воспринимает смысл, не может быть и познана в собственном смысле, будучи постигаема только с помощью незаконного умозаключения. Это происходит благодаря возможности мыслительно «отнять» форму от материи при сохранении за ней определенности по отношению к этой форме, то есть материя сохраняет за собой все, что дает ей форма, за исключением самого бытия в оформленной вещи. Тем самым, материя мыслится ровно так же, как если бы она мыслилась, пребывая в форме, в ней не пребывая. За счет этого она может мыслиться как носительница смысла.
В-третьих, Пселл в этом отрывке перечисляет четыре возможности использования термина «сущность»: форму, порожденное из самого себя, чувствуемое, это-вот и сущее, то есть (1) собственно форму, (2) то, что существует обособленно и независимо, (3) то, что чувственно воспринимается, а также (4) существующее. Первые три объекта именования так или иначе связаны с формой — в ее «чистом» виде, в таком аспекте формы, как способность обосабливать вещь, а также в аспекте делать ее чувственно воспринимаемой. Очевидно, что и четвертый объект именования сложно трактовать как отвлеченное, «идеальное» сущее: речь идет о бытии наличном и определенном. Тем самым, термин «сущность» в трактовке Михаила Пселла накрепко привязан к форме, он также привязан к любому другому объекту, который является или обладает формой. Далее, из того, что подлинное бытие, бытие сущностью, это бытие в форме, Михаил Пселл заключает, что материя не имеет никакого права называться сущностью. И именно поэтому, додумываем мы, она должна называться как-то иначе, а именно, как сказал Михаил Пселл выше, природой.
Завершая свое рассуждение о дихотомии сущности и природы, Михаил Пселл договаривает то, что недоговорено Аристотелем и не вполне очевидно из его текста. Он отождествляет подлежащее с материей, оговариваясь, что его единство — это единство, обусловленное единством формы, а саму форму отождествляет с логосом вещи.
Если в противопоставлении сущности и природы Михаил Пселл находился под влиянием позднеантичных комментариев на «Физику» Аристотеля, в частности — под влиянием соответствующего комментария Иоанна Филопона, те христоло-гические выводы, которые он сделал из этого учения, были сделаны им совершенно самостоятельно. Действительно, Михаил Пселл не был знаком с христологическими сочинениями Иоанна Филопона, да и христология Филопона, разрабатываемая существенно позже комментария на «Физику», базируется уже на немного ином физическом учении [Sorabji, 1987, 18–19]. Учение Михаила Пселла о Боговоплощении ориги-нально5, в том числе в интерпретации терминов «сущность» и «природа».
Обратимся к ключевому в этом отношении тексту — трактату-толкованию на слова свт. Григория Богослова «Природы обновляются и Бог становится человеком» [Gregorius Nazianzenus, 13, 164]. Михаил Пселл пытается истолковать термин «природа», приводя множество мнений языческих и христианских авторов и, в конце концов, останавливаясь на том же определении, которое он дает в трактате «О всеобщем учении» и в толковании на «Физику»6, — на определении природы как начала движения и покоя. Перед мыслителем встает закономерный вопрос: если природа — это то, что является началом и концом природной вещи, каким образом можно применить данный термин к тому, что не имеет ни начала, ни конца, ни движения? Почему мы вообще называем Божество и человечество природами, если между этими реальностями нет ничего общего?
Итак, обратимся к словам «обновляются природы». Но из этих природ одна человек, другая — Бог, одна — сложная, другая — простая, одна душа, нуждающаяся в теле, другая нематериальная и бестелесная. Каким же образом и то и другое природы? Ведь приведенное выше определение ограничило природу телами, а из бестелесных, будучи выше судьбы, тем более превосходит природу Бог, который не только признается лучшим, чем природа, но и сам является ее Творцом.
῞Ορα γοῦν ἐπὶ τοῦ λόγου· ‘καινοτομοῦνται φύσεις’. ἀλλὰ τῶν φύσεων τούτων ἡ μέν ἐστιν ἄνθρωπος, ἡ δὲ θεός, καὶ ἡ μὲν σύνθετον, ἡ δ’ ἁπλοῦν, καὶ ἡ μὲν ψυχὴ χρωμένη τῷ σώματι, ἡ δὲ ἄυλον καὶ ἀσώματον. πῶς οὖν ἀμφότεραι φύσεις; ἄνω γὰρ ὁ λόγος τὴν φύσιν ἐπὶ τῶν σωμάτων ἀπέξεσε· τὸ δὲ ἀσώματον κρεῖττον ὂν εἱμαρμένης κρεῖττον καὶ
φύσεως πέφυκε καὶ μᾶλλον θεός, ὃς οὐ μόνον τὴν φύσιν ὑπερεφώνησεν, ἀλλὰ καὶ αὐτός ἐστι ταύτης δημιουργός [Gautier, 1989, 268, 84–90].
Михаил Пселл предлагает объяснение, основанное на многозначности термина «природа». По его мнению, «природа» в случае Божества — это совсем не то же самое, что «природа» в случае человека:
Поэтому следует знать, что одним из обозначаемых словом «природа» является то, что каким-то образом существует (τὸ ὁπωσοῦν τι πεφυκός). По этой причине мы говорим «природа» применительно к душе, уму и Богу, не потому, что они чем-то таким обладают, но потому что вообще существуют. Итак, применительно к человеку мы должны трактовать слово «природа» согласно тому значению, которое содержится в определении выше. О Боге же мы говорим «природа», потому что Он существует.
ἴστε τοιγαροῦν ὅτι ἓν τῶν σημαινομένων ὑπὸ τῆς φύσεώς ἐστι καὶ τὸ ὁπωσοῦν τι πεφυκός· κατὰ τοῦτο γὰρ καὶ ψυχῆς φύσιν φαμὲν καὶ νοῦ καὶ θεοῦ, οὐχ ὅτι τοιῶσδ’ ἔχουσιν, ἀλλ’ ὅτι ὅλως πεφύκασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἀνθρώπου τὴν φύσιν ἀκουστέον καθ’ ἣν ἀνωτέρω σημασίαν ὁ λόγος εὕρηκεν· ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ διότι πέφυκεν. [Gautier, 1989, 268, 90-94].
Прежде чем проанализировать данный пассаж, обратимся к тому контексту, в котором он возник, к тем расхожим определениям «природы», которые бытовали в XI в. Таковыми для данного времени были два определения, одно из которых можно назвать «этимологическим», а второе «онтологическим». Примером первого, за пределами богословского круга текстов, является то, которое дает Etymologicum Gudianum7:
Природа — от «производить ипостаси» или от «рождать» или от «быть».
Φύσις, παρὰ τὸ φύειν τὰς ὑποστάσεις, ἤτοι τίκτειν· ἢ παρὰ τὸ πεφυκέναι. [Sturz, 559, 46–47].
Примером онтологического определения является определение словаря «Суда» (X в.):
Природа — это то, что связывает космос и порождает земные вещи. Или так: состояние, от себя получающее движение согласно семенным логосам, завершающее и связывающее то, что из нее произошло в определенные сроки, и тем и делающее тех, от чего взято. Из творения неба ясно, что целью природы является сообразное. Или природа есть начало всех вещей, движения и покоя каждого из сущих. Например, движение земли выражается в росте, порождении живых существ и в целом изменении. Покоится же она в смысле перемещения с места на место, будучи совершенно неподвижной и непреходящей. Итак, начало такого движения и покоя, сущностно или природно или не привходящим образом свойственное земле, называют природой. Не сами движение и покой вещей названы природой, но начало, то есть причина, согласно которой не привходящим образом, но сущностно сущности движутся и покоятся. Когда же Апостол сказал «мы были по природе чадами гнева» (Еф. 2, 3), как и прочее в этом духе, он употребил слово «природа» не в собственном смысле, поскольку это был бы упрек сотворившему природу. Но здесь о природе говорится в смысле устойчивого и давнего самого плохого душевного задатка и дурного навыка.
Φύσις ἐστὶν ἥ τε συνέχουσα τὸν κόσμον καὶ ἡ φύουσα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἢ οὕτως· ἕξις ἐξ αὑτῆς κινουμένη κατὰ σπερματικοὺς λόγους, ἀποτελοῦσά τε καὶ συνέχουσα τὰ ἐξ
αὐτῆς ἐν ὡρισμένοις χρόνοις καὶ τοιαῦτα δρῶσα, ἀφ’ οἵων ἀπεκρίθη. ταύτην δὲ τοῦ συμφέροντος στοχάζεσθαι, ὡς δῆλον ἐκ τῆς οὐρανοῦ δημιουργίας. ἢ φύσις ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ὅλων, τῆς ἑκάστου τῶν ὄντων κινήσεώς τε καὶ ἠρεμίας. οἷον ἡ γῆ κινεῖται μὲν κατὰ τὸ βλαστάνειν καὶ ζῳογονεῖν καὶ τὸ ὅλως ἀλλοιοῦσθαι· ἠρεμεῖ δὲ κατὰ τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον μετάστασιν, ἀκίνητος οὖσα παντελῶς καὶ ἀπόρευτος. τὴν οὖν ἀρχὴν τῆς τοιαύτης κινήσεώς τε καὶ ἠρεμίας οὐσιωδῶς, ἤγουν φυσικῶς, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκὸς τῇ γῇ ἐνυπάρχουσαν, φύσιν καλοῦσιν. οὐ τὴν κίνησιν δὲ αὐτὴν καὶ τὴν ἠρεμίαν τῶν πραγμάτων φύσιν εἰρήκασιν, ἀλλὰ τὴν ἀρχήν, τουτέστι τὴν αἰτίαν, καθ’ ἣν οὐ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ’ οὐσιωδῶς αἱ οὐσίαι κινοῦνται καὶ ἠρεμοῦσιν. ὅταν δὲ λέγῃ ὁ ᾿Απόστολος, καὶ ἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί, οὐ κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον τῆς φύσεως λέγει· ἐπεὶ τοῦ ποιήσαντος ἂν ἦν τὸ ἔγκλημα· ἀλλὰ τὴν ἔμμονον καὶ κακίστην διάθεσιν καὶ χρονίαν, πονηρὰν συνήθειαν [Adler, 2001, 777, 11–28].
В комплексе «этимологическое» и «онтологическое» определения дают нам тот круг значений, которые были актуальны для византийского книжника XI в. Во-первых, он знал, что вполне уместно называть природой то, что соотносится с ипостасями или единичными вещами и как общий для них род, и как источник их бытия. Во-вторых, природа — это то, что просто существует, это синоним определенного вида бытия. В-третьих, книжник воспринимал определения, заимствованные из уже обезличенной античной философской традиции8, в которой природа предстает источником бытия космоса в его наличном виде, источником его движения, наличной самотождественности и конечного оформления. В этом определении природа противопоставлена семенным логосам, которые придают природе определенные границы, однако природа оказывается содержанием и оформленным бытием для всего, что есть в видимом космосе, она зависит от логоса, но является причиной его «реальности», а значит, и определенного, хотя и по отношению к логосам, бытия. Это определение очень близко к тому прочтению Аристотеля, которое мы видели у позднеантичных комментаторов, в частности у Иоанна Филопона.
Также важно подчеркнуть, что для византийского книжника библейское значение термина «природа» оказывается второстепенным и даже немного неудобным, поскольку не укладывается в позднеантичную философскую парадигму. Ему приходится различать собственное и несобственное значение термина, из чего следует первичность определения, заимствованного из философской традиции. Трактовка же термина «природа» как истинного бытия (или вида истинного бытия) оказывается ближе к «этимологической», которая, в свою очередь, представляется оппозиционной по отношению к «онтологической» или стоико-аристотелевской.
Противопоставление этих традиций9 было вполне отрефлексировано [Щукин, 2019] прп. Иоанном Дамаскином10, который полагал, что, с точки зрения внешних философов, природа является видом, ближе всего стоящим к единичному бытию, тем, что непосредственно связано с определенной в бытии вещью. Сущность и природа трактуются язычниками, полагал Дамаскин, как то, что противоположно материи, то есть соотносятся с ней как форма. Фактически в трактовке прп. Иоанна Дамаскина обобщенные внешние философы различали сущность и природу как разные уровни бытия формы и под сущностью понимали родовое бытие, а под природой видовое. Возможно, подобная трактовка восходит к александрийской школе неоплатонизма и нашла свое отражение также в православной христологии VI в.11. Для нас, однако, важнее то, что прп. Иоанн Дамаскин считает подобную «онтологическую» трактовку чуждой христианской традиции, а христианское понимание связывает с трактовкой этимологической, которую он артикулирует далее12. Этимологическая интерпретация в богословском контексте первых своих приверженцев нашла в начале VI в. Вероятно, первым, кто предпринял соответствующую ревизию богословской терминологии, был Севир Антиохийский13. Отголоски этимологической аргументации присутствуют у Леонтия Византийского14, позже у прп. Иоанна Дамаскина, но особенное значение определение природы как чистого бытия или вида этого чистого бытия имело для прп. Анастасия Синаита. Весь пафос его полемики с монофизитами заключался в растождествлении природы и ипостаси15, а для этого требовалось растождествить природу и единичное тварное бытие, придав термину φύσις отвлеченное значение. В частности прп. Анастасий Синаит, следуя богословам VI в., отождествляет сущность и природу и подчеркивает, что различие между ними свойственно эллинской мудрости, а христианское словоупотребление восходит — через свт. Василия Великого и Климента Александрийского — к апостолу Павлу16. Саму же природу прп. Анастасий определяет строго в соответствии с «этимологической» интерпретацией, которая работает на понимание термина «природа» в духе истинного бытия или вида истинного бытия:
Природа, в соответствии с церковным образом мыслей, есть истинное существование вещи, а согласно Аристотелю и прочим эллинам, природа определяется многоразличным образом, и в этих определениях заблудились севириане. По божественному Апостолу, природа есть все то, что существует поистине, а не то, что изрекается как плод воображения… Церковь называет природой реальность существующих, то есть их восуществленность 17 . Она называется природой, потому что произошла и есть, подобно тому как и сущность познается как поистине существующая.
По церковному учению природа, сущность, род и вид суть одно и то же, как одно и то же хлеб, кусок (хлеба) и лепешка. Поэтому одним и тем же является природное и восуществленное... для обозначения природы используются четыре понятия: «сущность», «природа», «род» и «вид» [Пашин, 2018a, 162–163].
Καὶ φύσις μέν ἐστι κατὰ τὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας, ἀληθὴς πράγματος ὕπαρξις. Κατὰ δὲ Ἀριστοτέλην καὶ τοὺς λοιποὺς Ἔλληνας, πολυτρόπως ἡ φύσις ὁρίζεται• οὕστινας ὅρους οἱ ἀπὸ Σευήρου κρατοῦντες ἀπεπλανήθησαν. Φύσις ἐστὶ κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, πᾶν τὸ ἐν ἀληθείᾳ ὄν, άλλ’ούκ έν φαντασία ἀλλʼ οὐκ ἐν φαντασίᾳ λεγόμενον, καθὰ πλατύτερον λέξομεν ἐξῆς. Φύσιν λέγει ἡ Ἐκκλησία τὴν τῶν ὑπαρχόντων ἀλήθειαν, ῆγουν τὸ τούτων ἐνούσιον. Φύσις δὲ εἴρηται διὰ τὸ πεφυκέναι καὶ εἶναι, ὥσπερ καὶ οὐσία ὡς οὖσα καὶ ἐν ἀληθείᾳ γνωριζομένη. Φύσις καὶ οὐσία καὶ γένος καὶ μορφή ἓν καὶ τὸ αὐτὸ εἰσιν ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς δόγμασιν, ὥσπερ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ψωμίον καὶ βουκίν.
Διὸ καὶ τὸ ἔ μφυτον καὶ τὸ ἐνούσιον ταὐτόν τί ἐστι. Τετραχῶς δὲ εἴρηται ἡ φύσις... οὐσία кас фиохд кас Y^vog кас цорф^ [Uthemann, 1981, 31-32].
Цель рассуждений прп. Анастасия Синаита — не усложнить, не утончить понятие природы, а напротив, сделать его максимально простым, понятным почти на уровне интуитивного схватывания. Для этого богослов, во-первых, противопоставляет монофи-зитское понимание, которое, с его точки зрения, коренится в аристотелевском и вообще эллинском, и христианское, которое основывается на Священном Писании. Монофизит-ская трактовка предполагает многозначность термина и производит ошибки, второе основывается на единственном и самом очевидном значении и потому себя от подобных ошибок обезопасило. Во-вторых, термин «природа» трактуется, со ссылкой на апостольский и вообще церковный авторитет, максимально обобщенно, как то, что существует не умозрительно, но в реальности. Данный вывод прп. Анастасий поддерживает отсылкой к этимологии слова «природа». В-третьих, природа явно отождествляется не только с сущностью, которой прп. Анастасий также приписывает истинное существование, но и с чисто логическими понятиями рода и вида. Следует задать вопрос: если природным называется реально существующее, но при этом природа отождествляется с родом и видом, не следует ли из этого, что род и вид приобретают реальное существование? Ответ, видимо, следует искать в противопоставлении существующего поистине и воображаемого, где воображаемое не тождественно умопостигаемому. Тем самым, в интерпретации прп. Анастасия Синаита, понятие природы охватывает огромную область бытия, которая включает в себя и умопостигаемую реальность рода, и вид, непосредственно соотнесенный с единичностью, и, кажется, даже бытие единичностью со стороны формы, проще говоря, всякое бытие, не тождественное бытию в качестве конкретной единицы.
Наконец, последний важный для поздневизантийского богословия момент. Бо-гословы-халкидониты настаивали на том, что богословская терминология сохраняет свои значения при переходе от триадологии к христологии и, соответственно, она актуальна для описания как Божественной, так и человеческой реальности. Первым с обоснованием подобной точки зрения выступил Леонтий Византийский [Daley, 2017, 276, 278, 280]. Прп. Анастасий Синаит, который стремился свести употребление термина к некоему общему значению, на практике делает это и в отношении различных объектов применения термина — в отношении Троицы и Боговоплощения. Сам он не артикулирует тождество терминологии для разных уровней бытия (хотя это самоочевидно из общего контекста его богословия), но высмеивает соответствующую позицию монофизитов18.
Еще более внятно терминологический универсализм манифестирует прп. Иоанн Дамаскин, говоря, что «сущностью, стало быть, является Бог и всякое творение (πᾶν κτίσμα), хотя Бог есть и „пресущественная сущность“ (ὑπερουσίος οὐσία)» [Ko^er, 1969, 59]. Поскольку для прп. Иоанна Дамаскина сущность и природа неразличимо тождественны, можно констатировать, что и термин «природа» используется только в одном значении и для всех уровней бытия.
Итак, для поздневизантийских богословов природа — это (а) нечто истинное, (б) общее (в) универсальное понятие, применимое на всех уровнях бытия. Подобная трактовка максимально сближает термин «природа» с термином «сущность», вплоть до их полного отождествления. Однако уже для книжника X в. («Суда») подобная трактовка не является самоочевидной. Характерно, что, интерпретируя апостола Павла (см. цитату выше), он фактически полемизирует с прп. Анастасием Синаитом, который «природу» в данном новозаветном тексте трактует именно в смысле истинного и общего бытия, отвергая лишь трактовку ее как единичности19. Тем самым, если для прп. Анастасия Синаита именно библейское значение термина является буквальным и собственным, то для книжника X в. вновь актуальна многозначность, и при выборе определения приоритет отдается скорее научному, заимствованному у стоиков и Аристотеля.
При этом богословской нормой XI в. все же остается определение природы как истинного бытия или вида истинного бытия. В частности, св. Симеон Новый Богослов, говоря о Божественной и человеческой природе и сущности, хотя довольно произволен в словоупотреблении [Кривошеин, 1996, 217–218], что, возможно, обусловлено архаичными источниками его терминологии [Perczel, 2001], в целом следует парадигме прп. Анастасия Синаита, трактующего природу как определенный вид истинного бытия, почему данный термин может быть применен как к Богу, так и к человеку20. Другой богослов XI в., современник Михаила Пселла Никита Стифат, в полемике с армянами употребляет термины «сущность» и «природа» как синонимы, под природой понимает общий вид для ипостасей, а соединение природ во Христе называет «сущностным, то есть истинным» [Шленов, Рапава, 2008, 68].
Тем самым, рассуждая о различных значениях термина «природа», Михаил Пселл по некоторым параметрам отошел от поздневизантийского богословского консенсуса. Во-первых, он полагает, что применительно к Богу, уму и душе, с одной стороны, и материальным вещам, с другой, термин «природа» используется несинонимично. В первом случае он означает нечто, существующее в самом общем смысле, во втором — начало движения и покоя материальных вещей. Во-вторых, в собственном смысле природой называется обобщенная материально-телесная реальность, противопоставленная обобщенной духовной реальности, которая оказывается природой в несобственном смысле. В-третьих, и в этом Михаил Пселл совершенно оригинален, несобственное значение природы как «некоего бытия» ограничивается только духовной сферой и в этом значении совпадает с понятием сущности. Единственное, что роднит собственное и несобственное значение термина «природа» — это его логический смысл, то есть способность быть чем-то общим для множества единичностей (впрочем, даже это «родство» эксплицитно у Михаила Пселла не выражено). Наконец, стоит обратить внимание, что византийский философ обращает этимологическую аргументацию против традиции, отождествляющей сущность и природу. Если прп. Иоанн Дамаскин из сходной семантики слов «сущность» и «природа» выводит тождество понятий («слово „сущность“ происходит от [глагола] „быть“ (εἶναι), а слово „природа“ — от „становиться“ (πεφυκέναι), а εἶναι и πεφυκέναι означают одно и то же» [Ko^er, 1969, 94; Иоанн Дамаскин, 2002, 84]), то Михаил Пселл из той же семантики выводит их различие («Если же сущность сказывается от бытия (ἐκ τοῦ εἶναι), то каким же образом материя, будучи не-сущим, будет названа сущностью?» [Benakis, 2008a, 54.4–5; Михаил Пселл, 2017, 467]).
Можно констатировать, что в случае Михаила Пселла внебогословская парадигма использования термина «природа», нормативная уже для «Суды», оказалась сильнее, чем нормативное богословское словоупотребление (характерное, как мы видели, и для халкидонитов, и для монофизитов). Ключевой причиной данной терминологической трансформации стало принятие Михаилом Пселлом определенной интерпретации аристотелевской «Физики», возможно, восходящей к Иоанну Филопону, где «сущность» и «природа» не только не являются синонимами, но сказываются о противоположных реальностях формы и вне-формального бытия.
В заключение следует сказать о том, каким образом данная трансформация отразилась в христологии Михаила Пселла. В заключение 69-го трактата он предлагает пять объяснений того, что такое обновление природ. Первое объяснение: наша земная и низменная природа словно на крыльях возносится к небу, а запредельная и безграничная природа Бога нисходит к нашему пределу, так что происходит сочетание нашего смешения и Бога — в этом совместном движении и заключается обновление [Gautier, 1989, 268, 95–100]. Второе объяснение: беспредельный и ничем не ограниченный Бог поселяется в ограниченном и имеющем предел человеке [Gautier, 1989, 269, 101–104]. В этом парадоксе и заключается обновление. Третье объяснение: Бог соединяется с человеком, как огонь опаляет материю, но не сжигает ее [Gautier, 1989, 269, 105–110]. Очевидно, что по смыслу второе и третье объяснение дублируют друг друга. Четвертое объяснение: обновляется человеческая природа при зачатии и Рождестве Христа, поскольку зачатие происходит без семени мужа, а Рождество без родовых мук — способом рождения воздается должное почтение Творцу [Gautier, 1989, 269, 111–120]. Наконец, пятое объяснение, которому Михаил Пселл посвящает больше всего строк [Gautier, 1989, 269, 121–146] и которое, как кажется, является для него наиболее адекватным, заключается в том, что слова свт. Григория Богослова «обновились природы и Бог стал человеком» в большей степени описывают изменение природы человека, но «Бог стал человеком», выступающее пояснением к «обновились природы», звучит эффектнее и выразительнее.
Попытка объяснить термин «природа» привела Михаила Пселла не только к признанию случайности и необязательности выразительных средств свт. Григория Богослова, но и к пересмотру устоявшейся терминологической модели, которая предполагала тождество термина для всех описываемых уровней бытия. Если «природа» применительно к Богу и к человеку означает разные вещи, то в случае Боговоплощения будет идти речь о соединении чистого бытия и бытия материального, а точнее вне-формального, такого, которое предполагает определенную форму, но само не тождественно ей. Исходя из общего представления о соотношении формы и материи в физике Михаила Пселла и о терминологическом оформлении этого соотношения, следует сказать, что в данном случае все то, что он называет τὸ ὁπωσοῦν τι πεφυκός, оказывается формой для человеческой природы, то, что в его комментарии на «Физику» называется «сущностью». Это вполне соответствует неоплатоническим представлениям Михаила Пселла об иерархической организации бытия [Zervos, 1919, 148–161], где единое является причиной ума, ум причиной и «формой» души, а вместе они оказываются сложносоставленной причиной и формой для материальной природы. Однако в данном трактате византийский философ не делает никаких выводов из своих терминологических рассуждений. Он предлагает ряд благочестивых интерпретаций, которые не имеют никакого отношения к значению термина «природа», и лишь поэтически описывают механизм Боговоплощения, а также отсылку к риторической стратегии свт. Григория Богослова, которая оправдывает его терминологическую неточность. Логика и философия, которые у Михаила Пселла работали в сфере терминологии, остановились и передали эстафету поэзии и риторике именно в том месте, где следовало дать ответ по существу. В этом тоже специфика литературной стратегии Михаила Пселла, который стремился в своих публичных лекциях избегать суждений, которые могли бы вызвать нарекания в образованном обществе, особенно у тех его представителей, которые обладали властью [Jenkins, 2017, 450].
Сделаем выводы. Последовательное противопоставление терминов «сущность» и «природа», которое берет начало в специфической интерпретации «Физики» Аристотеля, нашло свое отражение не только в космологии Михаила Пселла, о чем мы писали ранее, но и в его в его христологии, где термин «природа» в его точном значении может быть применим только к человечеству в его материальном аспекте, в то время как Бог, ум и душа являются природой в несобственном смысле, то есть «сущностью» или формой. Тем самым, на уровне терминологии, на уровне общих физических представлений, в космологии и в богословии прослеживается одна и та же логика: тварное бытие иерархически структурировано и верхние слои данной структуры имеют большее сродство с Божественным, чем нижние. При этом собственно Божество и «более Божественное» из тварного составляют сложную форму Богочеловеческого единства, в то время как человечество оказывается его материей21.
Список литературы Бог - форма, человек - материя. Понятия "сущности" и "природы" в физике и христологии Михаила Пселла
- Lexicographi Graeci. Vol. I: Suidae Lexicon. Α - Ω. Ιndex. Pars 4: P - Ps / Ed. A. Adler. München - Leipzig: K. G. Saur, 2001. XVI, 864 s.
- Aristotle's metaphysics, 2 vols / Ed. by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1970.
- Aristotelis physica / Ed. by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1966.
- Michael Psellos. Kommentar zur Physik des Aristoteles / Einleitung, text, indices von Linos G. Benakis // Corpus Philosophorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina, 5. Athenis: Akademia Atheniensis, 2008. X, 96*, 453 s.
- Theodorus Smyrnaeus. Epitoma de natura et de principiis naturalibus / Ed. by L. G. Benakis // Corpus Philosophorum Medii Aevi. Philosophi byzantitni, 12. Athenis: Akademia Atheniensis, 2013. 38*, 80 p.
- Leontius of Byzantium. Complete works / Ed. by B. E. Daley // Oxford Early Christian Texts. Oxford: Oxford University Press, 2017. XVIII, 616 p.
- Syméon le Nouveau Théologien. Traités théologiques et éthiques / Introd., texte crit., trad. fr. et notes par Darrouzès J. // SC, 122. Paris: Cerf, 1966. Vol. 1. 455 p.
- Diogenis Laertii Vitae philosophorum. In 3 vols. / Ed. by M. Marcovich. Vol. 1: Books I-X // Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Stuttgart- Lipsia: Teubner, 2008. XLVIII, 826 p.
- Michaelis Psellis Theologica. Vol. 1 / Ed. P. Gautier // Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: Teubner, 1989. XX, 499 S.
- Le Synodikon de l'Orthodoxie. Edition et Commentaire / Ed. par J. Gouillard // Travaux et memoires. 1967. № 2. P. 1-316.
- Gregorius Nazianzenus. In Sancta Lumina (Orat. 39) // Gregoire de Nazianze: Discours 38-41 / Ed. par Cl. Moreschini - P. Gallay // SC, 358. Paris: Belles letters, 1990. P. 150-196.
- Ioannis Philoponi in Aristotelis physicorum libros octo commentaria, in 2 vols / Ed. by H. Vitelli // Commentaria in Aristotelem Graeca, 16-17. Berlin: Reimer, 16: 1887; 17:1888. 908 s.
- Johannes von Damaskos "Dialectica" // Die Schriften des Johannes von Damaskos. Bd. I: Institutio elementaris. Capita philosophica (Dialectica) / Ed. P. B. Kotter // Patristische Texte und Studien, 7. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1969. XV, 199 s.
- Severi Antiocheni orationes ad Nephalium, eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae / Ed. by J. Lebon // Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 120; Scriptores Syri, 65. Louvain: Durbecq, 1949. VII, 157 p.
- The Philosophy of the Commentators, 200-600 AD. A Sourcebook. In 2 vols. / Ed. by R. Sorabji. Vol. 2: Physics. Bristol: Bristol Classical Press, 2012. 401 p.
- Clemens Alexandrinus. Fragmenta // Clemens Alexandrinus. Bd. 3. Stromata Buch VII und VIII. Excerpta ex Theodoto, Eclogae propheticae, Quis diues saluetur, Fragmente / Ed. by O. Stählin, L. Früchtel, U. Treu // GCS 17.2. Berlin: Walter de Gruyter, 1970. P. 219-221.
- Sturz F. W. Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita. Lipsiae: apud J. A. G. Weigel, 1818 [repr. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1973]. 679 s.
- Themistii in Aristotelis physica paraphrasis / Ed. by H. Schenkl // Commentaria in Aristotelem Graeca, 5.2. Berlin: Reimer, 1900. 236 s.
- Anastasiae Sinaitae opera Viae Dux / Ed. by K.-H. Uthemann // Corpus christianorum. Series Graeca, 8. Brepols; Turnhout: Leuven University Press, 1981. CCLI, 463 p.
- Michael Psellus: De Omnifaria Doctrina. Critical text and introduction / Ed. by L. G. Westerink. Nijmegen: Centrale drukkerij, 1948. 118 p.
- Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Перевод, вступ. статья и примеч. И. Д. Рожанский. М.: Мысль, 1981. Т. 3. 613 с.
- Иоанн Дамаскин, прп. Философские главы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М.: Индрик, 2002. С. 52-122.
- Иоанн Итал. Сочинения. Греческий текст с вариантами и примечаниями по материалам Г. Ф. Церетели / Ред. и предисл. Н. Н. Кечакмадзе. Тбилиси: Мецниереба, 1966. XXI, 251 с.
- Мудрейшего и славнейшего Михаила Пселла краткое и точнейшее толкование на "Физику" Аристотеля (Комментарий на "Физику" Аристотеля. Кн. I. Гл. 1, 7-9) / Пер. Т. Щукина под ред. М. Варламовой; коммент. М. Варламовой // Esse: Философские и теологические исследования. 2017. № 2, 1. С. 458-474.
- Мудрейшего и славнейшего Михаила Пселла краткое и точнейшее толкование на "Физику" Аристотеля. Физика. Книга Β / Пер. Т. Щукина под ред. М. Варламовой; коммент. М. Варламовой // Esse: Философские и теологические исследования. 2018. № 3, 1. С. 339-355.
- Преподобный Анастасий Синаит. "Путеводитель" // Пашин А. В. Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита "Путеводитель". СПб.: Изд-во СПбДА, 2018. С. 147-359.
- Прп. Никита Стифат. Первое обличительное слово против армян / Публ. греч. текста, пер., вступ. ст. и прим. игумена Дионисия (Шленова), публикация груз. текста М. А. Рапава // Богословский вестник. 2008. № 7. С. 39-104. литература
- Варламова М. О единстве сущего как предмета первой науки в комментарии Александра Афродисийского на "Метафизику" Аристотеля // Esse: Философские и теологические исследования. 2017. № 2, 1. С. 353-369.
- Варламова М. Предисловие к переводу комментария Михаила Пселла на 1-3 главы II книги "Физики" Аристотеля // Esse: Философские и теологические исследования. 2018. № 3, 1. С. 329-338.
- Давыденков О., прот. Христологическая система Севира Антиохийского: догматический анализ. М.: ПСТГУ, 2007. 328 с.
- Давыденков О., прот. Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли. Дисс. … докт. теол. М.: ПСТГУ, 2018. 525 с.
- Кривошеин В. Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022). Нижний Новгород: Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 1996. 386 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: в 2 кн. М.: Фолио, 2000. Кн. 2. 694 с.
- Пашин А. В. Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита "Путеводитель". СПб.: Изд-во СПбДА, 2018. 408 c.
- Щукин Т. А. Иерархия в терминах: различие между "сущностью" и "природой" в сочинениях Михаила Пселла // Актуальные проблемы языка и культуры. Труды Второй межвузовской научно-практической конференции со всероссийским участием (Екатеринбург, 31 октября 2018 г.). Научный вестник Уральской государственной консерватории. 2019. № 1 (19). С. 105-116.
- Alpers (2015) - Alpers K. Difficult Problems in the Transmission and Interrelation of the Greek Etymologica // Literature, Scholarship, Philosophy, and History. Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos / Ed. by G. A. Xenis. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015. P. 293-314.
- Benakis L. G. Studien zu den Aristoteles-Kommentaren des Michael Psellos. Erster Teil // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1961. № 43, 3. P. 215-238.
- Benakis L. G. Studien zu den Aristoteles-Kommentaren des Michael Psellos. Zweiter Teil // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1962. № 44, 1. P. 33-61.
- Benakis L. G. Einleitung // Michael Psellos. Kommentar zur Physik des Aristoteles / Einleitung, text, indices von Linos G. Benakis. Athenis: Akademia Atheniensis, 2008 (Corpus Philosophorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina. Vol. 5). S. 3*-65*.
- Benakis L. G. Einzeluntersuchung zu dem Kommentar des Michael Psellos über Buch A der Physik" // Benakis L. G. Byzantine philosophy. Athens: Parousia, 2013. P. 263-396.
- Benakis L. G. Michael Psellos' Kritik an Aristoteles und seine eigene Lehre zur "Physis"- und "Materie-Form"- Problematik // Byzantinische Zeitschrift. 1963. № 56, 2. S. 213-227.
- Bergjan S.-P. Clement of Alexandria on God's Providence and the Gnostic's Life Choice: The Concept of "Pronoia" in the "Stromateis", Book VII (with Appendix: Fragments from Clement of Alexandria, Περ προνοίας) // The Seventh Book of the Stromateis: Proc. of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, Oct. 21-23, 2010) / Ed. by M. Havrda e. a. Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 63-92.
- Fawcett W. W. N. Aristotle's Concept of Nature: Three Tensions. Thes. in philos. The University of Western Ontario, 2011. X, 165 p.
- Hovorun C. Anastasius of Sinai and His Participation in the Monothelite Controversy // Ephemerides Theologicae Lovanienses. 2019. Vol. 95. № 3. P. 505-27.
- Jenkins D. Michael Psellos // The Cambridge Intellectual History of Byzantium. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 447-461.
- Kumpfmüller J. B. De Anastasio Sinaita. Würzburg: Friedr. Pastet, 1865.
- Karahalios G. The philosophical trilogy of Michael Psellos. God - Cosmos - Man. Thes. In philos. Heidelberg, 1970. 170 p.
- Lourje B. Michel Psellos contre Maxime le Confesseur: l'origine de l' "hérésie des physéthésites" // Scrinium. Revue de patrologie, d'hagiographie critique et d'histoire ecclésiastique. 2008. № 4. P. 201-227.
- Perczel I. Saint Symeon the New Theologian and the Theology of the Divine Substance // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 2001. № 41. P. 125-146.
- Sciarra E. Note sul codice Vat. Barb. gr. 70 e sulla tradizione manoscritta dell'Etymologicum Gudianum // Selecta colligere. № 2: Beiträge zur Technik des Sammelns und Kompilierens griechischer Texte von der Antike bis zum Humanismus / Ed. by R. M. Piccione, M. Perkams // Hellenica, 18. Alessandria: Ed. dell'Orso, 2005. P. 355-402.
- Shchukin T. Identity in Difference: Substance and Nature in Leontius of Byzantium's Writings // Scrinium. Journal of Patrology, Critical Hagiography, and Ecclesiastical History. 2016. № 12. P. 308-321.
- Sorabji R. John Philoponus // Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science / Ed. by R. Sorabji. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987. P. 1-40.
- Spáčil S. La teologia di S. Anastasio Sinaita // Bessarione. 1922. №. 38. P. 157-178; 1923. №. 39. P. 15-44.
- Uthemann K.-H. Anastasios Sinaites: Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft (AKG, 125/I-II). Berlin, Boston: De Gruyter, 2015. 990 S.
- Uthemann K.-H. Studien zu Anastasios Sinaites: Mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien (TU, 174). Berlin: De Gruyter, 2017. 701 S.
- Zervos C. Un philosophe néoplatonicien du XIe siècle: Michel Psellos. Paris: Éditions Ernest Leroux, 1919. 275 p.