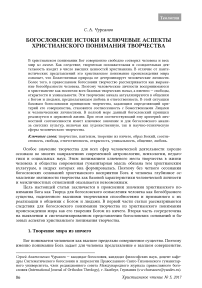Богословские истоки и ключевые аспекты христианского понимания творчества
Автор: Чурсанов Сергей Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В христианском понимании Бог совершенно свободно сотворил человека и весь мир из ничего. Как следствие, творческая познавательная и созидательная деятельность входит в число высших ценностей христианина. В отличие от пантеистических представлений это христианское понимание происхождения мира означает, что Божественная природа не детерминирует человеческие личности. Более того, в православном богословии творчество рассматривается как выражение богообразности человека. Поэтому человеческие личности воспринимаются в христианстве как носители всех базовых творческих начал, а именно - свободы, открытости и уникальности. Эти творческие начала актуализируются в общении с Богом и людьми, предполагающем любовь и ответственность. В этой ситуации базовым богословским принципом творчества, задающим определяющий критерий его совершенства, становится соотнесенность с Божественными Лицами и человеческими личностями. В полной мере данный богословский принцип реализуется в церковной жизни. При этом соответствующий ему критерий лич- ностной соотнесенности имеет ключевое значение и для богословского анализа светских культур, включая как художественную, так и научно-техническую сферы человеческого творчества
Творчество, пантеизм, творение из ничего, образ божий, соотнесенность, свобода, ответственность, открытость, уникальность, общение, любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/140223476
IDR: 140223476
Текст научной статьи Богословские истоки и ключевые аспекты христианского понимания творчества
Особое значение творчества для всех сфер человеческой деятельности хорошо осознано во многих направлениях современной антропологии, психологии, педагогики и социальных наук. Этим пониманием ключевого места творчества в жизни человека и общества современная гуманитарная мысль обязана тем христианским культурам, в недрах которых она формировалась. Поэтому без четкого осознания богословских оснований христианского восприятия Бога и человека глубинное осмысление значимости творчества как базовой характеристики человеческой личности и межличностных отношений оказывается невозможным.
Цель настоящей статьи заключается в прояснении значения христианского понимания Бога как Творца для богословского осмысления человека как богоо́бразного существа, наделенного высшими творческими способностями и призванного к их реализации в общении с Богом и людьми. В первой части статьи рассматриваются следствия для богословского понимания творчества из христианского понимания происхождения мира как его творения Богом из ничего. Вторая часть сосредоточена на выявлении и систематизированном представлении богословских оснований и базовых аспектов христианского понимания творчества.
1. Творение мира из ничего
Бог понимается человеком как высшее предельно совершенное существо. Поэтому именно понимание Бога задает для человека представление о высшем совершенстве.
В свою очередь, понимание высшего совершенства имеет определяющее значение для всего мировоззрения человека, включая не только восприятие Бога и отношений с Ним, но и сферу межчеловеческих отношений, а также отношений с окружающим безличным миром.
Раскрывая мировоззренческое значение святоотеческого богословия для христианского понимания человека, православные исследователи XX–XXI веков часто предварительно останавливаются на устойчивых онтологических представлениях нехристианской древнегреческой и эллинистической мысли. В качестве инвариантной аксиоматической характеристики всего многообразия античных философских систем они выделяют монизм как убежденность в природном единстве всего бытия , объемлющем как эмпирически наблюдаемый чувственный мир, так и высшие божественные сферы вплоть до единого сверхсущего абсолюта.
Так, протоиерей Георгий Флоровский приходит к следующему обобщенному выводу: «Вся античная философия представляет собой систему „общей морфологии“ бытия. <…> Всюду видится лишь реализация универсальной схемы»1. И хотя, продолжает отец Георгий, «внутри этой общей для древних греков концепции встречались самые разные оттенки воззрений и взглядов; возникали резкие напряжения и конфликты, которые необходимо замечать и изучать… тема вариаций оставалась прежней: „вечный Космос“, „бесконечное возвращение“, мрачное „колесо возникновений и уничтожений“»2.
Митрополит Иоанн (Зизиулас), развивая основные линии анализа особенностей античного и эллинистического менталитета, намеченные протоиереем Георгием Флоровским, подчеркивает, что «древнегреческая мысль оставалась связанной основополагающим законом, установленным ею самой для себя и гласившим, что в конечном счете бытие составляет единство, несмотря на разнообразие существующих предметов, поскольку реально существующие предметы в конце концов восходят в своем бытии обратно к своему необходимому соотношению и „родству“ с „единым“ бытием»3. Останавливаясь далее на понимании Бога, характерном для пантеистического мировоззрения, владыка Иоанн поясняет: «Даже Бог не может отстраниться от этого онтологического единства… Бог тоже связан с миром онтологической необходимостью, а мир связан с Ним либо посредством творения в „Тимее“ Платона, либо посредством логоса стоиков, либо посредством „эманаций“ „Эннеад“ Плотина»4.
В этой ситуации в силу своей необходимой связи с миром Бог оказывается не свободным, а значит — к нему становится невозможно отнести категорию творчества. Поэтому в пантеистическом образе мысли человек не включает творчество в число высших ценностей. Как лаконично замечает протоиерей Георгий Флоровский, «если нет Творчества Божия, то не может творить и человек»5. В пантеистической картине мира история понимается как «лишь одна из сторон всеобъемлющего космического процесса, управляемого нерушимыми законами, заключенными в самой структуре Вселенной»6. «Отсюда, — продолжает протоиерей Георгий, — ярко выраженный фатализм. Миром правит τύχη или εἱμαρμένη, космический рок, фатум. Судьба человека определена и охвачена астрономической „необходимостью“. Сам Космос рассматривается как существо „вечное“ и „бессмертное“, но периодическое и подчиненное циклическому ритму. Происходит бесконечное, непрекращающееся повторение одного и того же; события вечно развиваются по неизменному шаблону»7.
Иллюстрируя антропологические следствия пантеистического мировоззрения, протоиерей Георгий Флоровский отмечает: «Отказ от подвига, от дерзновения свободы, включает человека в огненное колесо рождений и смертей, обрекает его на страдную суету бесконечного бега»8. Такое метафизическое ви́дение оставляет человеку две альтернативные поведенческие стратегии. «С одной стороны, — объясняет отец Георгий, — он может покориться, смириться с неизбежностью „рока“ и даже находить радость и удовлетворение в созерцании гармонии и великолепия Космоса, сколь бы он ни был равнодушен и враждебен к желаниям и заботам личности и общества. <…> С другой стороны, человек мог стремиться к „бегству“, исчезновению из истории, из текучего и меняющегося мира, безнадежного колеса возникновений и уничтожений , — в область неизменного»9.
Что касается христианского осмысления творческого призвания человека, то для него первостепенное значение приобретает учение о творении Богом мира «из ничего (οὐκ ἐξ ὄντων, ex nihilo)» (2 Макк 7:28).
Православное восприятие мира как сотворенного Богом из ничего несовместимо, в частности, с пантеистическими представлениями о его возникновении или создании из Божественной природы. Поэтому в православном богословии делается решительный вывод об отсутствии необходимой природной связи Бога и сотворенного Им мира. Таким образом, утверждение о творении мира из ничего означает, что для Бога оно не было необходимостью.
Другими словами, Бог творит мир не для того, чтобы восполнить Свое бытие с помощью сотворенных существ. «…Разве может человек доставлять пользу Богу?», — риторически вопрошает Иов (Иов 22:2). Подобные риторические вопросы он задает и далее: «Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? и если преступления твои умножаются, что причиняешь ты Ему? Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает Он от руки твоей?» (Иов 35:6–7). Эту же мысль выражает псалмопевец Давид: «Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны» (Пс 15:2). В проповеди в афинском ареопаге апостол Павел подчеркивает полноту Божественного бытия, несовместимую ни с какими магическими представлениями о Его зависимости от человека: «Бог… не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду» (Деян 17:24–25). Этот значимый богословский вывод он поясняет также следующим образом: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» (Рим 11:34–35).
На безусловной свободе Бога как Творца настаивает святитель Григорий Нисский: «…Бог-Слово… — это Творец человеческой природы (τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ποιητής), не некой необходимостью (οὐκ ἀνάγκῃ τινί) приведенный к созданию человека (πρὸς τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατασκευὴν ἐναχθείς), но по преизбытку любви (ἀλλ’ ἀγάπης περιουσίᾳ) создавший (δημιουργήσας) начало (τὴν γένεσιν) этого живого существа (τοῦ τοιούτου ζῷου)»10. Аналогичным образом отвергает типовое магическое представление о том, что сотворенный мир для чего-либо нужен Богу, преподобный Максим Исповедник: «Преизобильный Бог (ὁ ὑπερπλήρης Θεὸς) привел в бытие появившихся (παρήγαγεν εἰς τὸ εἶναι τὰ γεγονότα), не как нуждающийся в чем-либо (οὐχ ὡς προσδεόμενός τινος), но чтобы они наслаждались в подобающей причастности Ему (ἀλλ’ ἵνα αὐτὰ μὲν αὐτοῦ ἀναλόγως μετέχοντα ἀπολαύσῃ), а Он веселился бы о делах
Своих (αὐτὸς δ’ ἐυφρανθῇ ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ)11, видя их веселящимися (ὁρῶν αὐτὰ εὐφραινόμενα) и всегда ненасытно насыщающимися Ненасытимым (καὶ τὸν ἀκόρεστον ἀκορέστως ἀεὶ κορεννύμενα)»12.
В. Н. Лосский подчеркивает, что подобные богословские формулировки не означают необходимости сотворенного мира для реализации полноты любви в Божественном бытии. Раскрывая значение христианского понимания Бога как Пресвятой Троицы, он утверждает: «Бог-Троица есть полнота любви. Чтобы изливать Свою любовь, Он не нуждается в „другом“, потому что другой — уже в Нем, во взаимопроникновении Ипостасей»13. Таким образом, в православном восприятии весь сотворенный мир предстает как свободный дар Бога, не обусловленный «никакой „внутренней необходимостью“»14. Поэтому христианское переживание сотворенного мира побуждает человека к такой деятельности, которая выражает благодарность Творцу и любовь к Нему. Это понимание отношений человека с Богом несовместимо с проистекающими из пантеистического мировоззрения магическими представлениями о «взаимовыгодной» связи с богами и духами или необходимой связи с божественными субстанциями. Другими словами, христианскому пониманию богочеловеческих отношений оказываются чуждыми стереотипность и формализм, характерные для пантеистических религиозных воззрений. Христианское восприятие Бога предполагает и любовь к людям, то есть к тем, кого любит Бог и кому Он даровал бытие.
Второе существенное следствие из православного понимания происхождения мира как творения из ничего состоит в том, что сотворенный мир, включая человека, не связан необходимым образом с Божественной природой, не детерминирован ею.
Принципиальная новизна христианского вывода о свободе человека становится особенно ясной на фоне пантеистических выводов о его «встроенности» в мир, определяемой высшими божественными реалиями. В самом деле, как отмечает протоиерей Георгий Флоровский, античная философия «на всем протяжении от фалесовского пандемонизма до спекулятивных высот новоплатонического гнозиса не выходила из натуралистического тупика»15. Так, «при всей аскетической настроенности утомленного житейской сутолокой эллинистического духа, при всей обращенности в за-небесные тайны, новоплатонизм приемлет Великого Пана, ибо все — „ из Единого “»16. Эта типичная для языческого мира пантеистическая мировоззренческая установка ведет к представлению о детерминированности всего сущего, включая и каждого конкретного человека, и общество. Она уничижает и подавляет человека, обессмысливая любые попытки свободного творческого самоопределения, порождая «самочувствие раба стихий, окованного незримою „системой тончайших принуждений“»17. На опасность подобного самопонимания, характерного для языческого окружения Церкви, обращает внимание апостол Павел. «Смотрите, братия, — предупреждает он колос-ских христиан, — чтобы кто не увлек вас философиею (διὰ τῆς φιλοσοφίας) и пустым обольщением (καὶ κενῆς ἀπάτης), по преданию человеческому (κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων), по стихиям мира (κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου), а не по Христу» (Кол 2:8. Ср.: Гал 4:3, 9; Рим 8:39; Еф 3:18).
Дохристианское монистическое мировоззрение, не оставляющее сколь-либо существенного места для человеческого творчества, типично для автономизирован-ной, то есть не опирающейся на богословие, философской мысли. В частности, рассматривая предпосылки зарождения и распространения немецкого идеализма XVIII–XIX веков, протоиерей Георгий Флоровский выделяет тот факт, что «Реформация отказалась от христианской инициативы в философии»18. «Это и сделало возможным, — продолжает отец Георгий, — то возрождение дехристианизированного эллинизма, которое совершилось в XVIII веке и из которого родился немецкий иде-ализм»19. Подобно дохристианской античной философии, немецкий идеализм основывался на пантеистическом миропонимании, сущность которого состоит «в утверждении неразрывной и необходимой связанности Бога и мира, и притом связанности двусторонней, обоюдной»20. При этом, как и в древнегреческой философской мысли, «весь пафос идеализма был в отыскании недвижных устоев мира, в раскрытии его вечного идеального каркаса или его вяжущей схемы; иначе сказать — во всеобщем обосновании»21. В результате идеализм подобно античному мировоззрению оказывается «замкнут в каком-то застывшем, окаменевшем, неподвижном мире, — пусть даже прекрасном, но неживом… В этом мире не видно Бога, сокрыт Его Лик. В этом мире искажается лицо человеческое. Человек притязает на божественность и низводит себя в необходимость природы»22.
Положение о творении мира из ничего позволяет православным авторам богословски обоснованно утверждать не только свободу Бога в творении мира, но и свободу, дарованную Им человеку. Так, рассматривая творение из ничего в проблемном контексте соотнесения категорий свободы и необходимости, митрополит Иоанн (Зизиулас) отмечает, что как из свидетельств Священного Писания, так и из святоотеческих размышлений следует, что сотворенный мир «онтологически не необходим»23. Святые отцы, исходившие из библейской картины происхождения мира, в отличие от древнегреческих мыслителей, считавших, что он «представляет собой нечто необходимое само по себе», вынесли «онтологическую причину мира за его пределы, возведя ее к Богу»24. Тем самым, святые отцы «разорвали круг замкнутой онтологии греков и вместе с тем… превратили бытие… в производное от свободы »25. Таким образом, заключает владыка Иоанн, «с учением о творении мира ex nihilo „начало“ греческой онтологии, „ἀρχή“ мира были перенесены в сферу свободы. То, что существует, было освобождено от самого себя, бытие мира стало свободно от необходимости»26.
В. Н. Лосский, раскрывая богословское понимание человеческой свободы, подчеркивает, что в христианстве в силу представления о творении мира из ничего Бог не может восприниматься как «безликая „необходимость“»27. Творить мир из ничего значит «созидать новое бытие, когда тебя не принуждают к тому ни внешние условия, ни внутренняя необходимость»28. При этом ничем и никем не детерминируемое Божественное творчество «достигает наибольшей полноты в сотворении ликов ангельских и личностей человеческих», которые «наделены свободой самоопределения…
αὐτεξουσιότης», рассматриваемой в святоотеческом богословии в качестве «основной отличительной черты существ, созданных по образу Божию»29.
2. Богоо́бразность человека
В православной богословской антропологии существенные следствия для понимания человека выводятся из его восприятия как образа Божия 30. Этот методологический подход означает, что творение Богом мира из ничего задает высший образец для человеческого творчества. Будучи образом Божиим, но не Самим Богом, человек не может творить из ничего . Однако он призван в общении с Богом к свободному созиданию нового. В православном богословском понимании человек одарен особыми совершенствами и, тем самым, выделен из числа сотворенных существ. Актуализация высших совершенств, выражающих богоо́бразность человека, позволяет ему исполнить свое творческое призвание.
Существенную предпосылку для актуализации человеком своих творческих возможностей составляет его владычественное положение в сотворенном мире, о котором сообщается уже в первом стихе библейского повествовании о творении человека: «И сказал Бог: сотворим (Ποιήσωμεν) человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют (ἀρχέτωσαν) они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт 2:26). Несколько далее владычество над сотворенным миром характеризуется как непосредственное призвание человека: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте (ἄρχετε) над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт 2:28).
Согласно книге Бытия, человек призван к непосредственному воздействию на сотворенный мир, к возделыванию и хранению рая: «И взял Господь Бог человека… и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать (ἐργάζεται) его и хранить (φυλάσσειν) его» (Быт 2:15). Опираясь на это библейское свидетельство, архимандрит Софроний (Сахаров) утверждает, что уже самим своим изначальным устроением безличный мир предполагает творческую деятельность человека в нем31. Призвание человека к глубинному осмыслению и упорядочению сотворенного мира в творческом общении с Богом, выражено также в повествовании о наделении живых существ именами: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт 2:19). Характеризуя антропологические воззрения преподобного Максима Исповедника, касающиеся призвания человека по отношению к сотворенному миру, протопресвитер Иоанн Мейендорф приходит к следующему заключению: «Несомненно, он за то, чтобы вселенной свободно, осознанно и творчески управлял человек, носящий образ Творца и поэтому со-ответчик за творение, но он против того, чтобы мы были порабощены миром»32. При этом, как отмечает архимандрит Софроний (Сахаров), «чтобы быть сотрудником Бога в творении мира, человек должен непрестанно стремиться к возможно большему познанию Самого Бога»33.
Полнота творческого образа бытия, к которому призван человек, открыта совершенным образом Божиим — Иисусом Христом (2 Кор 4:4; Кол 1:15; Евр 1:3). Согласно Евангелию от Иоанна, Христос неоднократно свидетельствует, что все Его слова и дела произносятся и совершаются только исходя из непосредственной соотнесенности с Отцом. «Я люблю (ἀγαπῶ) Отца (τὸν πατέρα) и, как заповедал Мне Отец (καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ), так и творю (οὕτως ποιῶ)», — говорит, например, Христос (Ин 14:31. См. также: Ин 5:19–20, 30; 6:38; 8:28; 10:24–25, 37–38; Откр 21:5).
Следуя примеру, явленному Христом, человек достигает творческой наполненности своего бытия в соотнесенности с Божественными Лицами и человеческими личностями. «…Без Меня (χωρὶς ἐμοῦ) не можете (οὐ δύνασθε) творить (ποιεῖν) ничего (οὐδέν)», — свидетельствует Второе Божественное Лицо, ставшее человеком (Ин 15:5). В данной цитате греческое слово ποιεῖν передано не более широким по своему содержанию словом делать , как в Синодальном переводе, а более определенным словом творить . В форме творити этот вариант восходит к Елизаветинскому церковнославянскому переводу. Этот же вариант избран в переводе Нового Завета, подготовленном под редакцией епископа Кассиана (Безобразова)34. О тех, кто пребывает с Ним, и через Него — с Отцом, в отношениях веры Христос говорит: «Верьте Мне (πιστεύετέ μοι), что Я в Отце (ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ) и Отец во Мне (ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί). <…> Верующий (ὁ πιστεύων) в Меня, дела, которые творю (ποιῶ) Я, и он сотворит (ποιήσει), и больше сих (μείζονα τούτων) сотворит (ποιήσει), потому что Я к Отцу (ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα) Моему иду (πορεύομαι)» (Ин 14:11–12). Как заключает архимандрит Софроний (Сахаров), «во Христе мы призваны стать общниками всего творческого акта Бога и Отца нашего»35. При этом «только то творчество, которое совпадает с волей Отца Небесного, производит плоды, могущие перейти в вечность»36. В конечном счете, богословское понимание творчества, предполагающее актуализацию человеком своей богоо́бразной свободы, неразрывно связанно с ответственностью перед Богом и людьми.
В предельной мере творческий дар реализуется в христианской аскетике, ориентированной на бескомпромиссное единение с Богом. « Аскеза не ограничивает творчества; наоборот, она освобождает его, потому что ставит его своей целью как таковое. Здесь на первом месте — творческая работа над собой, творческое созидание своего „Я“», — констатирует протоиерей Георгий Флоровский37. «…Процесс восхождения в познании Бога есть также творческий акт, — поясняет архимандрит Софроний (Сахаров), — однако особого порядка; цель сего — соучастие в вечном творческом акте Отца»38. Поэтому «христианин в своем творческом искании, постепенно покидает все, что носит относительный и временный характер»39. Неудивительно, что в преддверии Великого поста в беседе с монахами эссекского монастыря отец Софроний восклицает: «О, как я хочу, чтобы вы все стали поэтами! Без творческого вдохновения трудно провести даже единый день как подобает христианину»40.
Человеческое творчество тесно связано не только со свободой, но и с открытостью. Протопресвитер Иоанн Мейендорф, опираясь на святоотеческие антропологические размышления, решительно дистанцируется от представлений о человеке как обособленном, сосредоточенном на самом себе индивиде. В качестве одной из ключевых сторон святоотеческой антропологии он выделяет мысль об открытости человека
«Абсолюту, бессмертию, творчеству по образу Творца» и о «том, что Бог, когда творил человека, был лицом к лицу с этой открытостью»41.
Действительно, Бог творит из ничего мир, который никак не дополняет и не умаляет полноту Его бытия. В высшем богословском понимании человек в общении с Божественными Лицами и с личностями сотворенными тогда уподобляется Богу как Творцу, актуализируя в себе образ Божий как образ Творца, когда создает то, чего еще нет, то, что не нужно для его индивидуализированной природы, что не связано с удовлетворением природных потребностей, с корыстью или эгоистической заинтересованностью. «Человек созидает себя самого в полном посвящении себя Богу. Он становится самим собой только в этом творческом процессе», — указывает протоиерей Георгий Флоровский42. «Это задача творческая, — поясняет он, — ибо должно быть приведено к существованию нечто совершенно новое»43. При этом характерное для христианского образа жизни преодоление прагматической обусловленности творчества, или, выражаясь словами отца Георгия, его освобождение «от всех видов утилитаризма», становится осуществимым только в аскетической устремленности к Богу44.
Протоиерей Георгий Флоровский характеризует христианскую аскезу следующим образом: «Это — деятельность, „выработка“ своего истинного „Я“. Она динамична. Она содержит в себе стремление к бесконечному, вечный призыв, неуклонное движение вперед»45. При этом творчество, предполагающее соотнесенность человека с Божественными Лицами и человеческими личностями, неотделимо от любви. Поэтому творческое превосхождение христианином своих индивидуальных границ направлено не в обезличенную божественную беспредельность, а на Божественные Лица и человеческие личности. В отличие от пантеистических мировоззренческих парадигм, в христианском образе мысли творческое экстатическое превосхождение человеческой личностью своей индивидуальной ограниченности представляет собой не «движение к неизвестному и бесконечному», а «движение по утверждению иного »46.
В богословском понимании личностная уникальность, составляющая одну из базовых предпосылок творчества, даруется каждому человеку Богом и актуализируется в личных отношениях с Ним. В статье, посвященной христианскому пониманию веры, архимандрит Софроний (Сахаров) утверждает: «Вера может и должна быть духовным творчеством»47. И далее для выражения аскетического опыта актуализации личностной уникальности в самозабвенной устремленности к Богу он привлекает выразительный потенциал метафорического языка: «Каждый из нас является как бы призмою, через которую преломляются лучи Божественного Света у всех нас по-разному!»48. Митрополит Антоний (Блум), раскрывая уникальность отношения Бога к каждому сотворенному человеку, обращается к библейской категории имени. Отталкиваясь от свидетельства Откр 2:17, он развивает ту мысль, что Бог изначально наделяет человека неким высшим таинственным уникальным именем. «…Это то имя, — поясняет владыка Антоний, — то державное, творческое слово, которое произнес Бог, вызывая каждого из нас из небытия, слово неповторимое и личное, и вместе с тем имя это определяет неповторимое, личное, ни с чем не сравнимое отношение, которое связывает каждого из нас с Богом»49. И именно это имя, как замечает он в другой беседе, «определяет нашу абсолютную и неповторимую единственность по отношению к Богу»50. «Ищи имя», — призывает, поэтому, владыка Антоний, размышляя о межличностном общении51. А «если не найдешь имени, то не удивляйся, что никто не слышит: ты не зовешь», — заключает он, подчеркивая значимость христианского восприятия человека в его дарованной Богом уникальности 52.
Творческие возможности человека реализуются в христианской культуре, цель которой состоит в создании благоприятных предпосылок для общения человека с Богом. Протоиерей Георгий Флоровский обращает внимание на значение аскетического опыта для созидания культуры. В частности, он отмечает, что «благодаря аскетической практике открылось множество новых многообразных проблем культуры, была явлена новая иерархия ценностей и целей»53. В свою очередь митрополит Иоанн (Зи-зиулас) указывает, что «порыв личностности к утверждению иного настолько силен, что не ограничивается „иным“, которое уже существует, но направлен на утверждение „иного“, которое представляет собой совершенно свободное благоволение лич-ности»54. В этом творческом порыве человек действует по образу Божию. «Подобно тому, — продолжает владыка Иоанн, — как Бог сотворил мир полностью по Своей благости, личность хочет сотворить свое собственное „иное“. Это происходит в искусстве. Только личность может быть художником в истинном смысле, то есть творцом, который создает совершенно новую идентичность как акт свободы и общения»55. Реализуя свои творческие возможности, человек придает неповторимое своеобразие всему, что он создает. Поэтому именно творчество играет особую роль при восприятии личности в ее абсолютной, несводимой ни к каким природным характеристикам уникальности. «„Личное“ может восприниматься в жизни только непосредственной интуицией или же передаваться каким-нибудь произведением искусства», — поясняет В. Н. Лосский56. Эту мысль он иллюстрирует, прибегая к опыту восприятия человеческих творений: «Когда мы говорим: „Это — Моцарт“ или „это — Рембрандт“, то каждый раз оказываемся в той „сфере личного“, которой нигде не найти эквивалента»57.
Творческий образ бытия предполагает актуализацию высших интеллектуальных способностей человека, открывающих для него возможность интуитивного схватывания постигаемых реалий в их глубинном внутреннем единстве, в пределе — возможность того высшего познания, которое на традиционном святоотеческом языке именуется созерцанием (θεωρία).
При этом, несмотря на ограниченность законами логики и вследствие этого — подчиненное положение в творчестве, целенаправленное рациональное мышление, позволяющее человеку преобразовывать окружающий мир, также рассматривается в святоотеческом богословии в качестве одной из ключевых составляющих образа Божия. Среди святых отцов, уделивших особое внимание этому направлению человеческого творчества, архимандрит Киприан (Керн) выделяет блаженного Феодорита Кирского, святителя Василия Селевкийского, преподобных Анастасия Синаита и Иоанна Дамаскина, а также святителя Фотия Константинопольского58. В самом деле, блаженный Феодорит Кирский указывает: «…Человек, подражая (κατὰ μίμησιν) сотворившему [мир] Богу (τοῦ πεποιηκότος Θεοῦ), строит дома, стены, города, пристани, корабли, верфи, колесницы и многое другое»59. А святитель Григорий Нисский, опровергая уничижительные представления Евномия о рационально-понятийном мышлении, отмечает: «…Кто признал бы мышление ценнейшим (τὴν ἐπίνοιάν τις προτιμοτέραν κρίνων) из всего доброго, чему дано действовать в нас в этой жизни и что вложено в нашу душу Божественным Промыслом, тот в правильности этого суждения не ошибся бы (μὴ ἂν τῆς πρεπούσης κρίσεως διαψευσθῆναι)»60. Поясняя этот вывод, он перечисляет множество впечатляющих научных достижений, изобретений и технических приспособлений своего времени: «Откуда геометрия, наука о счислении, учение о логических и физических закономерностях, изобретения в механике и удивительные наблюдения времени и часов посредством меди и воды? Откуда… созерцание умопостигаемого, и, кратко говоря, всякое занятие души великими и высокими предметами? А земледелие? А мореплавание? А прочее обустройство того, что связано с нашей жизнью? Отчего море стало проходимо для человека? Как живущему на земле стало служить живущее в воздухе? Как дикое делается ручным? Как укрощается свирепое? Как сильнейшее не сбрасывает узду? Не посредством ли мышления (ἆρ᾽ οὐ δι᾽ ἐπινοίας) создано (ἐφευρέθη) все это в человеческой жизни?»61.
Грехопадение повредило человеческую природу, затруднив проявление высших творческих способностей, но не лишило человека богоо́бразности и особого места в сотворенном мире. При этом осталось неизменным и призвание человека к творческому познанию и упорядочению мира в общении со своим Творцом. «…Тварь, — пишет апостол Павел римлянам, — с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8:19–21). Размышляя о творческом призвании человека, архимандрит Софроний (Сахаров) констатирует: «Многогранен образ Божий в человеке. Один из аспектов — творческая сила, проявляющаяся в различных областях культуры всех видов, то есть цивилизации, искусства, науки»62.
Согласно православному богословскому пониманию, после грехопадения человек пребывает в сложном состоянии, в значительной степени определяемом различными проявлениями греха как ориентации на мотивы, цели и ценности, не связанные с устремленностью к Богу. Другими словами, человек оказывается склонен к обособлению от Бога. В книге Бытия об этом трагическом следствии грехопадения сообщается следующим образом: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт 3:8). Так после грехопадения человек пытается превратить сотворенный мир из средства общения с Богом, позволяющего в полной мере реализовать бого-о́бразные творческие дары, в средство отделения от Бога, обрекая себя на страдания и постепенное умирание. В конечном счете, отделение от Бога ведет к разобщению людей, к умалению любви в межчеловеческих отношениях, к умножению взаимной вражды63. Все эти губительные следствия обособления от Бога в полной мере охватывают и сферу человеческого творчества. По строгой оценке архимандрита Софрония (Сахарова), когда люди сосредотачиваются на совершенствовании своей жизни вне общения со Христом, «результат их творчества до смерти банален и скучен»64.
Заключение
Базовый богословский принцип человеческого творчества заключается в личной соотнесенности с Богом. Этот богословский принцип означает, что любая совершенная творческая деятельность выполняется христианином так, чтобы ее результаты в наибольшей мере выражали любовь к Богу и людям. Руководствуясь этим принципом, человек не допустит вырождения ни духовного, ни научного, ни технического творчества в формализованные стереотипные процедуры, направленные на удовлетворение его индивидуального любопытства или повышение уровня его индивидуального довольства. Деятельность объективированная, то есть не соотносимая ни с Богом, ни с людьми, неизбежно ведет к разрушению мира и межчеловеческих отношений и в строгом богословском понимании творчеством не является. К высшему состоянию творческого созидания человек приближается по мере приближения к святости. Таким образом, сформулированный принцип соотнесенности предполагает встро-енность творчества в весь спектр как отношений человека с Богом, так и межчеловеческих отношений. В конечном счете, этот принцип задает высший ценностный ориентир и служит основным богословским критерием соответствия человеческого творчества христианскому мировоззрению.
Список литературы Богословские истоки и ключевые аспекты христианского понимания творчества
- Антоний (Блум), митр. Труды/пер. с англ. и фр. Е. Л. Майданович и Т. Л. Майдано-вич при участии А. И. Кырлежева и Е. В. Шохиной. М.: Практика, 2002. 1080 с., 51
- Антоний (Блум), митр. Школа молитвы/пер. Е. Л. Майданович. Клин: Фонд «Хри-стианская жизнь», 2000. 393 с.
- Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово//Творения святого ГригорияНисского. М., 1862. Ч. 4. С. 1-111.
- Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия//Творения святого Григория Нисско-го. М., 1863. Ч. 5. С. 10-500; М., 1864. Ч. 6. С. 1-510.
- Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие/пер. с англ. С. А. Чурсанова//Бого-словский сборник. 2002. Вып. X. С. 22-50.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Париж: ИМКА-Пресс,1950. 452 с.
- Лосский В. Н. Богословие и боговидение: сб. статей/под общ. ред. В. Пислякова. М.:Свято-Владимирское братство, 2000. 631 с.
- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-гословие/пер. с фр. . М.: Центр «СЭИ», 1991. 288 с.
- Лосский В. Н. Спор о Софии: Статьи разных лет. М.: Свято-Владимирское братство,1996. 196 с.
- Максим Исповедник, преп. Главы о любви//Творения преподобного Максима Испо-ведника. Кн. 1/пер., вступ. ст. и коммент. А. И. Сидорова. М.: Мартис, 1993. С. 96-145.
- Мейендорф И., протопр. Пасхальная тайна: Статьи по богословию/пер. с англ., фр.;сост. И. В. Мамаладзе. М.: Эксмо; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. 832 с.63
- Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Толшент Найтс (Эссекс): Свято-Иоан-но-Предтеченский монастырь; М.: Паломникь, 2003. Т. 1. 384 с.
- Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Толшент Найтс (Эссекс): Свято-Иоан-но-Предтеченский монастырь; М.: Паломникь, 2002. 288 с.
- Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. Толшент Найтс (Эссекс):Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра,2009. 272 с.
- Феодорит Кирский, блаж. Толкование на книгу Бытия//Творения блаженного Феодорита Кирского. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1905. Ч. 1. С. 7-88.
- Флоровский Г., прот. Вера и культура/сост. и вступ. ст. И. И. Евлампиева; примеч.И. И. Евлампиева и В. Л. Селиверстова. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 2002. 862 с.
- Флоровский Г., прот. Догмат и история/сост. Е. Холмогоров; под общ. ред. Е. Карманова; ред. В. Писляков. М.: Свято-Владимирское братство, 1998. 488 с.
- Флоровский Г., прот. Избранные богословские статьи. М.: Пробел, 2000. 318 с.
- Чурсанов С. А. Богословские основания социальных наук. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. 200 с.
- Чурсанов С. А. Понятие«индивид» и богословское осмысление индивидуализмаправославными авторами XX-XXI веков//Церковь и время. 2014. № 4 (69). С. 39-64.
- Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium/ed. W. Jaeger//Gregorii Nysseni opera. Vols. 1.1& 2.2. Leiden: Brill, 1960: Vol. 1.1: P. 3-409; Vol. 2.2: P. 3-311.
- Gregorius Nyssenus. Oratio catechetica magna/ed. J. Srawley. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1903. P. 1-164.
- John (Zizioulas), metr. Communion and Otherness: Further Studies in Personhoodand the Church/ed. P. McPartlan. Edinburgh: T&T Clark, 2006. XIV, 316 p.24. Maximus Confessor. Capita de caritate//Massimo Confessore. Capitoli sulla carita/ed.A. Ceresa-Gastaldo. Rome: Editrice Studium, 1963. P. 48-238.
- Teodoretus Cyrensis. Qaestiones in Genesim//Teodoreti Cyrensis quaestionesin Octateuchum/red. N. Fernández Marcos y A. Sáenz-Badillos. Madrid: Poliglota Matritense,1979. P. 3-99.