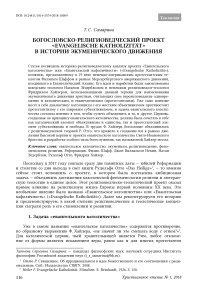Богословско-религиоведческий проект "Evangelische katholizit"at" в истории экуменического движения
Автор: Самарина Татьяна Сергеевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историко-религиоведческому анализу проекта «Евангельского католичества» или «Евангельской кафоличности» («Evangelische Katholizität»), понятию, предложенному в 19 веке немецко-американским протестантским те- ологом Филипом Шаффом в рамках Мерсерсбургского американского движения, входившего в Евангелический Альянс. Его идеи и наработки были заимствованы шведским теологом Натаном Зёдербломом и немецким религиоведом-теологом Фридрихом Хайлером, использовавшими данный термин для наименования экуменического движения христиан, считающих свое вероисповедание одновре- менно и католическим, и евангелическим (протестантским). Уже само понятие несет в себе диалектику: католицизм с его жестким объективизмом противостоит протестантизму с его широким субъективизмом, и задача евангельского католичества состояла именно в том, чтобы суметь объединить и то, и другое. Церковь, созданная по принципу евангельского католичества, должна была сочетать в себе как католический элемент объективизма и единства, так и протестантский элемент субъективизма и свободы. В трудах Ф. Хайлера богословие объединилось с религиоведческой теорией Р. Отто, что привело к созданию им в рамках движения Высокой церкви и проекта евангельского католичества Свято-Иоановского братства и разработке особого типа богослужения, так называемой Хайлер-мессы.
Евангельское католичество, экуменизм, религиоведение, феноменология религии, реформация, филип шафф, джон вильямсон невин, натан зёдерблом, рудольф отто, фридрих хайлер
Короткий адрес: https://sciup.org/140223502
IDR: 140223502
Текст научной статьи Богословско-религиоведческий проект "Evangelische katholizit"at" в истории экуменического движения
Поскольку в 2017 году совпало сразу две памятных даты — юбилей Реформации и столетие со дня выхода в свет книги Рудольфа Отто «Das Heilige»1, — то именно сейчас стоит вспомнить о проекте, в котором была поставлена амбициозная задача — объединить достижения классической феноменологии религии и лютеранскую теологию в единое целое. Этот религиоведческо-теологический проект оказал прямое влияние на религиозную жизнь Европы первой половины XX века. Это необычное явление было названо «Евангельское католичество» или «Евангельская кафоличность» («Evangelische Katholizität»). Далее мы реконструируем его историю и продемонстрируем, в какой степени религиоведческие и теологические концепции сыграли роль в его становлении и развитии.
1. Задача «евангельского католичества»
Уже в самом названии «евангельское католичество» содержится противоречие, по образному выражению Ф. Хайлера, «не значит ли это смешать воду с огнем?»2. Для католической церкви, чьей хранительницей является Рим, любое отклонение от формы является искажением веры, равно как и для многих протестантов
католицизм является искажением чистоты христианской истины, строго следующей Новому Завету. Великие деятели реформации, прежде всего Лютер, боролись против католицизма, и эта борьба в протестантизме никогда не прекращалась, даже если порой обретала мягкие и благородные формы.
Как попытка примирения враждующих сторон в середине XIX века в кругах немецких и американских богословов возникает движение, названное «Мерсербургская теология». По мнению исследователей, мерсербургская теология стала реакций против «безудержного индивидуализма и субъективизма в американском протестантизме»3. Изначально идеи движения были оформлены в трудах двух теологов — Филипа Шаффа (Philip Schaff, 1819–1893) и Джона Вильямсона Невина (John Williamson Nevin, 1803–1886). В своем труде 1846 года «Мистическое присутствие»4, посвященном богословию Евхаристии, Невин выступил за объективную эффективность таинств, высказав мысль о том, что протестантизм в той форме, в какой он существует, не соответствует образцу изначальной христианской Церкви, главной причиной такого несоответствия является полное игнорирование мистической жизни Церкви.
Идеи Невина развил и дополнил его коллега Филип Шафф5. Шафф применил к истории богословия модель диалектической философии Гегеля. Согласно Шаффу, в богословии мы также можем наблюдать несколько сменяющих друг друга эпох. Первой была эпоха Петра — эра авторитета и объективности богословия католической церкви, этот период в диалектической теории рассматривался как тезис. Затем наступила Реформация, которую Шафф расценивает как эпоху Павла, характеризующуюся реакцией на авторитаризм и переходом к субъективности и свободе в богословии, говоря тем же языком диалектики, это был антитезис. Шафф писал, что «реформация всё еще не завершена, необходим акт объединения того, что распалось, чтобы воссоединить субъективное с объективным»6. Проецируя логику Гегеля дальше, очевидно, что на смену второй должна прийти третья эпоха, по Шаффу — эпоха Иоанна, в которой тезис и антитезис объединятся в синтезе. Таким синтезом и должно было стать евангельское католичество. Церковь, созданная по принципу евангельского католичества, должна была сочетать в себе как католический элемент объективизма и единства, так и протестантский элемент субъективизма и свободы. Центральной особенностью евангельского католичества стало представление об объективном характере литургии. В отличие от классической протестантской литургии, центром которой является проповедь, а Евхаристия сводится лишь к воспоминанию Жертвы Христа, центром литургии в евангелическом католичестве должно было стать совершаемое на алтаре таинство.
2. Аспекты экуменических идей Зёдерблома
Идеи Мерсербургской теологии в XX веке были восприняты, развиты и продолжены шведским теологом Натаном Зёдербломом (1866–1931). Именно с его именем связывается новый виток истории евангельского католичества в XX веке. Сам термин «католичество» не очень устраивал Зёдерблома, поскольку он в протестантских кругах ассоциировался с римской церковью и поэтому вызывал ненужные ассоциации. Зё-дерблом предпочитал заменять его на «экуменизм» (ökumenisch) или «универсализм» (universell)7. По сравнению с американскими предшественниками у Зёдерблома идея объединения христианства несла большую социальную окраску. В 20-ые годы
Зёдерблом возглавил движение «Life and Work», ставившее своей целью обновить послевоенное общество на основе христианских принципов. Это движение делало особый акцент на практической жизни церкви, обозначив в качестве основополагающей идею о том, что «вера без дел мертва». Таким образом, активное христианское участие в делах мира должно было объединить разрозненные христианские деноминации. Вершиной такой деятельности шведского епископа стала Стокгольмская конференция 1925 года, объединившая более 600 представителей различных христианских конфессий, только римо-католики отказались от участия в ней, девизом конференции стал лозунг: «Доктрина разделяет, служение объединяет»8. Фактически именно эта конференция стала основой для возникшего в 1948 году «Всемирного совета церквей»9.
Но кроме социального измерения экуменический проект Зёдерблома имел и более тонкую богословскую основу. Зёдерблом всегда подчеркивал, что лютеранская реформация была односторонней, и ряд положений протестантизма обеднил церковную жизнь10. По его мнению, современная церковь, чтобы объединиться, должна вернуться к некоторым положениям дореформационного христианства. Первое из них — епископат. Зёдерблом считал, что все лютеранские церкви нуждаются в епископате, чтобы предать им силу традиции, которой они не имеют. Стоит отметить, что в Швеции, в отличие от других протестантских стран, сохранилось епископское преемство, к линии которого и принадлежал Зёдерблом, именно этот образец он хотел распространить на всё лютеранство. Второе положение — сакраментальная жизнь. Зёдерблом особо подчеркивал мысль Лютера о том, что исповедь «превосходная, изысканная, утешительная вещь»11, без которой не может быть настоящей заботы о душе прихожан.
Хотя Зёдерблом не проводил особых реформ литургического характера, но он стремился к пышности богослужения, дабы подчеркнуть его значение. Особую роль в богослужении он предавал совершению Евхаристии, в личных разговорах со своими учениками подчеркивая, что алтарь для него — знак божественного присутствия, претворяющий пространство в церковь12. Для Зёдерблома в протестантской церкви должны быть две тайны — алтарь и кафедра, первая выражает единство христиан, а вторая — их преданность слову Божьему. Но эти черты экуменического проекта не были доведены Зёдербломом до конца, зато именно на них основал свой проект евангельского католичества религиовед и теолог Фридрих Хайлер13.
3. «Евангельское католичество» по Ф. Хайлеру
Зёдерблома и Хайлера связывали сложные духовные отношения, Зёдерблом считал Хайлера своим духовным сыном. Спустя год после защиты хабилитационной диссертации и будучи самым молодым хабилитационным доктором в Германии — ему было всего 25 лет — Хайлер с гостевым докладом посетил Швецию, где впервые лично встретил знакомого ему лишь по переписке Натана Зёдерблома. Эта встреча произвела на Хайлера неизгладимое впечатление, личное благочестие Зёдерблома так повлияло на молодого ученого, что он, будучи тогда еще католиком, участвовал в евангелическом богослужении и причастился там14. Хотя с точки зрения канонов католической церкви Хайлер причастием у евангеликов отлучил себя от католической Церкви, но сам он не стремился оставить католицизм, а напротив, хотел тем самым выразить свое представление о единстве Церкви. По мнению Йозефа Бернхарта, всю жизнь в Хайлере «боролась католическая душа с протестантской учёностью»15, сам же Хайлер опосредованно именовал себя «криптокатоликом». Как-то Хайлер заметил, «прошли многие годы неутомимой работы и болезненных конфликтов, прежде чем я проник во внутренние глубины евангельского христианства, прежде чем эта форма христианства стала мне так же знакома, как та, в которой я вырос»16. Во многом именно это желание объединить две познанные на личном опыте формы христианства вкупе с влиянием Зёдерблома и подвигли Хайлера к разработке своего проекта евангельского католичества.
Стоит заметить, что выход в свет первого труда Хайлера «Молитва»17, его широкий успех и академическое признание выдвинули Хайлера кандидатом в лидеры протестантского движения, способного обновить его и вдохнуть в него новую жизнь. Проект, который Хайлер начинает активно разрабатывать в эти годы, и был ответом на возложенные на него чаяния. Изложению своего проекта Хайлер посвятил работу «Католицизм»18, выдержавшую несколько переизданий, его идеи получили широкое освещение в прессе, а на конференции «Life and Work» в Стокгольме в 1925 и Лозанне в 1927 были одобрены и приняты значительным числом участников19.
Согласно Хайлеру, разделение Церкви привело к возникновению двух, противоположных друг другу миров. «Католицизм, — пишет Хайлер, — грандиозный, бесконечно сложный, трудно постижимый синкретизм, в котором сошлись все религиозные формы, самые высшие и самые низшие, грубейшие и утонченнейшие, в котором язычество, иудаизм и христианство соединились в странную смесь, … его фундамент — абсолютное послушание церковному авторитету, а его вершина — надцерковная и надхристианская мистика, которая своим экстатическим благочестием преодолевает пространство и время, устремляясь в бесконечность»20. Протестантизм, напротив, полностью простая форма личной религии, «его основа — вера в откровение вечного Бога во Христе, его цель — блаженство отпущения грехов и осуществление господства Бога на земле»21. Как говорит Хайлер, «там [в католицизме] — пестрое проникновение друг в друга примитивного культа и сублимированной мистики, внешнего служения закону и внутреннего богопознания, светской политики и духовной аскезы, античной религиозности и библейского христианства, здесь [в протестантизме] — библейское христианство в своем чопорном целомудрии и жесткой исключительности, там — «complexio oppositorum», здесь — чисто Евангелие»22. Это два религиозных мира, которые хотя имеют много общих элементов, но все же внутренне противостоят друг другу так сильно, что живущим в одном из них очень сложно проникнуть во внутреннюю жизнь другого. По Хайлеру два этих мира невозможно объединить механически, никакой унии здесь быть не может. Также невозможно разработать единую для двух миров теологическую систему, которая удовлетворила бы и протестантов, и католиков, равно и любой проект политического объединения заведомо обречен на полный провал. Любой из этих вариантов приведет лишь только к внешнему единению Церкви, но внешнее воссоединение двух разъединившихся конфессий, считал Хайлер, — второстепенное дело. Необходим внутренний синтез непреходящих ценностей, которыми обладают обе формы христианства — это и есть евангельское католичество.
Евангельское католичество, по Хайлеру, должно стать противоположным римскому католичеству. Католицизм, представленный римской церковью, хотя и универсален, хотя и объединил разнообразные религиозные формы в одно единство, но этот универсализм был куплен оттеснением на второй план евангельских идей. В римском благочестии все еще живет новозаветное Евангелие, но оно уже не является его краеугольным камнем, рядом с ним стоят, как величины одинаковой ценности, примитивный ритуализм, иудейское законничество, римская правовая религия и эллинская мистика23. Согласно Хайлеру, это само по себе неплохо, так строятся все мировые религии, но чуждые элементы должны были стать на службу Евангелию как средства, помогающие осуществить главную цель — спасение, они же, напротив, затмили собой евангельскую истину. Именно это затмение и привело к реформе Лютера.
Согласно Хайлеру, «Лютер взорвал гигантское строение католической церкви, так как оно оставляло мало места для свободного личного христианства». И хотя Хайлер считает Лютера «единственным в своем роде религиозным гением»24, но подчеркивает, что он не был организатором и строителем, он вернул свободное личное христианство, но церковное строение, которое он для него создал, было, по образному выражению Хайлера, «лишь убогим убежищем, сооруженным из старых строительных камней, без тектонической утонченности и красоты…»25. Многочисленные эпигоны Лютера считали эти убежища за абсолютные учреждения, в которых запрещено что-либо менять, благодаря им было забыто то задание, которое отображается в идее лютеровского личного христианства. Его последователи оказались не способными создать на евангельском фундаменте нового здания.
И чтобы восполнить эти упущения, считает Хайлер, нужно придерживаться некоторых абсолютных ценностей, которые евангельское христианство должно взять у католицизма, чтобы возведение здания новой полноценной Церкви было завершено. Это идея единства церкви; епископат и церковное преемство; индивидуальная забота о душе; богослужебная жизнь, включающая семь церковных таинств, и органично связанная с ней мистика. Как мы рассмотрели ранее, некоторые из этих идей уже были высказаны предшественниками Хайлера, пожалуй, особый интерес для нас представляют два последних пункта.
4. Экуменический проект Ф. Хайлера
Но, чтобы пояснить их, нужно отметить, что у хайлеровского проекта было два источника — теологический и религиоведческий. Согласно мысли Хайлера, католики и протестанты должны быть объединены в литургическом служении на основании центрального для этого служения таинства — Евхаристии, в котором в Боге происходит единение верных26. Именно это таинство, по мысли Хайлера, было способно «разрушить стены, отделяющие различные части сада»27 единого христианства. Поскольку своим центром проект имел таинственную жизнь церкви, то именно представление о таинстве стало узлом, связующим теологию и религиоведение воедино. Согласно Хайлеру, протестантскому богослужению «не достаем таинства, которое стоит в центре богослужения восточной и западной Церкви и … которое стояло в богослужении древней Церкви, выражаясь точнее, древнецерковное таинство»28. По Хайлеру, литургическая деградация в протестантизме главным образом произошла из-за чрезмерной привязанности к слову в смысле рационального и субъективного (и отсюда чисто человеческого) узкого восприятия действительности, засвидетельствованной в Библии и вероучении29.
Согласно Хайлеру, антитезисом такому центрированию на рациональном аспекте религии стал труд Р. Отто «Святое». Отто строит всю свою работу вокруг описания иррационального аспекта в представлениях о божественном, именно эту мысль и использует Хайлер для обоснования необходимости таинств для обновления жизни Церкви. Отто определяет нуминозный момент в Святом как мистерию, тайну, которая не может быть узнана и понята на основании мирского разума, склонного всё объяснять, понимание этой тайны возможно лишь опытно через переживание удивляющего чуда. Святое вызывает в верующем противоречивые чувства, одновременно повергая его в страх, трепет, поражая и притягивая. Таким образом, религиоведческая концепция Святого, постигаемого как мистериум, легла в основу теологического проекта евангельского католичества Хайлера30.
Как отмечалось выше, именно богослужебная практика в проекте Хайлера была призвана убрать на второй план догматические различия. Средоточием евангельского католичества должна была стать месса, она была лично разработана Хайлером, позже названная исследователями «немецкой Мессой» или «Мессой Хайлера»31. Месса была составлена на основании древних литургических текстов, восходящих еще ко времени до церковного раскола 1054 года. Структурно она делилась на предмессу с проповедью (Vormesse mit Predigt), Мессу-приношение (Opfermesse), где и происходит приложение Святых Даров, и заключительную мессу (Nachmesse)32. В ее разработке Хайлер использовал структуру православной литургии, молитвы из Дидахе и кельтской литургии. Хайлер отказался от лютеровской идеи Евхаристии как простого воспоминания, введя литургические элементы освящения и приложения Святых Даров, тем самым следуя мысли Зёдерблома и концепции Отто, сместив центр литургии с проповеди на момент эпиклезы.
Согласно идее Хайлера, через участие в богослужении все верующие должны соучаствовать в мистериальном действии. Протестантская идея общего священства верных также особо подчеркивается в строе службы на символическом уровне: хлеб и вино переносятся к алтарю именно из среды общины и там предлагается Богу как церковная жертва. Община приносит себя в жертву Богу вместе со Христом.
По мысли Хайлера, его месса может рассматриваться еще и как мистерия литургического паломничества к голгофскому Кресту, состоящая из общих для мистической традиции стадий33. Предмесса в таком контексте соответствовала первой мистической ступени — очищению; сама месса с освящением Даров соответственно выражала вторую ступень — освящение; Причастие же завершало ступени мистического паломничества фактическим единением с Богом.
Литургический проект Хайлера имел особое влияния в кругах студенчества, например, как замечает Эми Марга, «студенты были в восторге от возможности образовать новый тип сообщества, собранного вокруг объективной божественной реальности, переживаемой в молитве и литургии»34. При этом реакция на мессу Хайлера в среде теологов была разной. Некоторые видели в ней удачную попытку преодоления разделения Церкви, замечая, что разработанная Хайлером литургия и по языку, и по структуре сильнее, чем ее лютеранские предшественницы. Николай Арсеньев, например, видел в этом проекте выражение стремлений всего современного христианства, замечая, что «Хайлер как человек с необычайно чуткой религиозной душой, угадывает, куда тянется душа современного религиозного ищущего человека: не к индивидуальному только блаженству в Боге, а к общению любви в Боге, к объединению с братьями в Боге, к организму Тела Христова»35. Другие же, напротив, считали мессу Хайлера непозволительным синкретизмом, так, например, Карл Барт, принявший в ней участие в 1922 году, охарактеризовал ее как эклектичное смешение из различных литургических действ и текстов, базирующееся на сомнительных исторических источниках, а концепцию Церкви ее автора — как «романтичную», самого же автора — «невыносимого как теолога»36. По мнению Барта, евангельское католичество Хайлера могло скорее посеять смущение в немецком протестантизме, чем дать ему новую жизнь37.
Как бы там ни было, в евангельском католичестве Фридриха Хайлера был произведен уникальный синтез не только богословия католицизма и протестантизма, но и религиоведения с теологией. Ибо, как было продемонстрировано, в основу своего обращения к мистериальной жизни Церкви Хайлер положил идеи Р. Отто о Святом. Описание католицизма как сложного конгломерата различных традиций (от примитивной религиозности до эллинистического мистицизма) является развитием идеи Хайлера о том, что любая религия представляет собой сложный сплав различных уровней религиозности38. Представление о мистике, как одной из высших форм религии, развиваемое Хайлером, стало центральным для разработанной им мессы, в основу которой была положена универсальная для всех религий, как это было продемонстрировано Хайлером в его труде «Молитва», схема мистического восхождения.
В заключение хотелось бы отметить, что до сих пор существуют основанные Хайлером братства, которые используют в богослужении его мессу39. Но, несмотря на то, что Хайлер и его предшественники стремились своим проектом принести единство Церкви, к сожалению, вокруг идеи евангельского католичества образовалось множество мелких разрозненных протестантских групп, так и не смогших добиться какого-то единства даже в своей среде. Впрочем, это не удивительно, вся история евангелического католичества демонстрирует присущую протестантизму скрытую тоску по утраченному единству, возможному только через реальное священнодействие Евхаристии. При этом сами основы протестантского вероучения, провозгласившего всеобщее равенство верных, упраздняют необходимость особого харизматического дарования, присущего через благодать рукоположения лишь священнику, а ведь священнослужения не может быть без священнослужителя. Таким образом, задача возвратить протестантизму таинственное измерение, не изменив его основ, заведомо не имеет решения. Это подтверждается и историей, ведь большую роль для развития экуменического движения сыграла не мистериально ориентированная евангелическая католичность, а социально направленное движение «Life and Work».
Список литературы Богословско-религиоведческий проект "Evangelische katholizit"at" в истории экуменического движения
- Арсеньев Н. О современном положении христианства//Путь. 1927. № 7. С. 99-106.
- Винокуров В. В. Структура священного мира в феноменологии религии ФридрихаХайлера//Точки. Puncta. 2010, № 1-2 (9). С. 175-177.
- Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношениис рациональным. Спб.: Издательство СПбГУ, 2008. 274 с.
- Пылаев М. А. Западная феноменология религии. М.: РГГУ, 2006. 100 c.
- Самарина Т. С. Влияние теологии К. Барта на феноменологию религии Ф. Хайле-ра // Богослов. ру. Дата обновления: 26.01.2016. URL: htp://www.bogoslov.ru/text/4825616.html (дата обращения: 25.08.2017)
- Самарина Т. С. Феноменология религии Ф. Хайлера//Вестник Волгоградского уни-верситета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2016. № 1 (31).С. 36-49.
- Bjork D. E. Unfamiiliar Paths: Te Challenge of Recognizing the Work of Christ in StrangeClothing. Pasadena, California: William Carey Library, 2014. 137 p.
- FitzGerald T. E. Te Ecumenical Movement: An Introductory History. London: Praeger, 2004.288 p.
- Fritsche R. Friedrich Heiler und die Mystic. Frankfurt-am-Main: der Johann Wolfgang-Goethe-Universität, 1993. 276 S.
- Hartog H. Evangelische Katholizität. Weg und Vision Friedrich Heiler. Mainz: Mathias-Grünewald-Verlag, 1995.
- Heiler F. Das Gebet: Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung.München: Verlag von Ernst Reenhardt,1920. 594 S.
- Heiler F. Der Katholizismus. Seine Idee und seine Erscheinung. München: Reinhardt, 1923.704 S.
- Heiler F. Deutsche Messe oder Feier des Herrenmahls nach altkirchlicher Ordnung.München: Federmann, 1948. 56 S.
- Heiler F. Evangelische Katholizität. München: E. Reinhardt, 1926. 351 S.
- Heiler F. Urkirche und Ostkirche: Die Katholische Kirche des Ostens und Westens.München: Reinhardt, 1937. 580 S.
- Heiler F. Vom Neuentzünden des erloschenen Mysteriums//Zeitschrif Die Hochkirche.Hef 3/4, München.1931. S. 102.
- Kloeden Gesine von. Evangelische Katholizität: Philip Schaffs Beitrag zur Ökumene; Einereformierte Perspektive. Münster, Germany: Lit,1998. 270 S.
- Luther Martin. Großer Katechismus/in heutiges Deutsch übertragen von Detlef Lehmann.Berlin: Sola-Gratia-Verlag, 2014. 151 S.
- Marga A. Karl Barth’s Dialogue with Catholicism in Gotingen and Munster: Its Significancefor His Doctrine of God. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. 199 p.
- Nevin J. W. Te Mystical Presence: a Vindication of the Reformed or Calvinistic Doctrineof the Holy Eucharist. Philadelphia: J. B. Lippincot, 1846. 244 p.
- Schaff P. Te Principle of Protestantism. Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2004. 268 p.
- Söderblom N. Einigung der Christenheit: Tatgemeinschaf der Kirchen aus dem Geistwerktätiger Liebe. Halle: C. Ed. Müller (Paul Seiler), 1925. 248 S