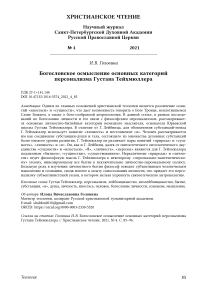Богословское осмысление основных категорий персонализма Густава Тейхмюллера
Автор: Головина Илона Вячеславовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Одним из главных положений христианской теологии является различение понятий «ипостаси» и «сущности», что дает возможность говорить о Боге Троице, воплотившемся Слове Божьем, а также о бого-сообразной антропологии. В данной статье, в рамках исследований по богословию личности и его связи с философским персонализмом, рассматриваются основные личностно-бытийные категории немецкого мыслителя, основателя Юрьевской школы Густава Тейхмюллера. В отличие от Г. Лейбница, для обозначения субстанций-монад Г. Тейхмюллер использует понятие «личность» и местоимение «я». Человек рассматривается им как соединение субстанции-души и тела, состоящего из множества духовных субстанций более низкого уровня развития. Г. Тейхмюллер не различает пары понятий «природа» и «сущность», «личность» и «я». Он, как и Г. Лейбниц, далек от святоотеческого онтологического двуединства «сущности» и «ипостаси». «Я», «личность», «персона» являются для Г. Тейхмюллера подлинным «бытием», «сущностью», «существованием». Неразличение «природы» и «личности» ведет философскую мысль Г. Тейхмюллера к некоторому «персонально-пантеистическому» уклону, нивелирующему все бытие к исключительно личностно-персональному полюсу. Большую роль в изучении личностного бытия философ отводит субъективным человеческим мышлению и сознанию, сводя многое к опыту самосознания личности, что придает его персонализму субъективистский уклон, в котором нельзя упрекнуть святоотеческую антропологию.
Густав тейхмюллер, персонализм, лейбницианство, неолейбницианство, бытие, субстанция, «я», душа, личность, ипостась, человек, богословие личности, сознание, мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/140290143
IDR: 140290143 | УДК: 27-1+141.144 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_85
Текст научной статьи Богословское осмысление основных категорий персонализма Густава Тейхмюллера
В свете богословия личности человека особенный интерес представляет русский персонализм, который является не просто отдельным философским направлением, но и интереснейшим мировоззрением, ставящим во главу своего учения личное бытие. Ввиду значения для антропологии мировоззренческих матриц важной задачей для нас стал сравнительный анализ генезиса и основных положений русского персонализма и богословских представлений о личности. В рамках этой задачи представляет интерес анализ взглядов немецкого философа Густава Тейхмюллера, который принес на русскую почву своеобразную попытку синтеза идей монадологии Г. Лейбница. В данной статье мы рассмотрим особенности употребления Г. Тейхмюллером понятий «личность», «бытие», «субстанция» и других, смежных с ними, и сравним с христианскими богословскими представлениями о личности и природе.
Густав Тейхмюллер и его философские взгляды
Густав Тейхмюллер (1832-1888) — немецкий философ, историк философии, системный специалист по античной философии [Румер, 1914, 385]. Он хорошо знал не только древнюю философию, но и патристику [Козлов, 1894, 531], а также обладал обширными познаниями в разных областях естествознания [Бобров, 1899, 28]. Г. Тейх-мюллер известен как основатель такой отрасли знания, как «история философских понятий»1, часть его работ посвящена именно динамике смыслового развития философских терминов2. Работая в Юрьевском университете, Тейхмюллер формирует свое оригинальное учение, основанное на идеях Г. В. Лейбница, Ф. А. Тренделен-бурга и Р.Г. Лотце3, которое он называет персонализмом [Бобров, 1899, 29]. Именно благодаря Г. Тейхмюллеру в Россию были принесены как идеи Г. В. Лейбница, так и вообще идеи философского персонализма, который также именуют лейбнициан-ством или неолейбницианством.
Исследователи характеризуют Г. Тейхмюллера как «немецкого постгегелевского теиста», принадлежащего к «представителем европейской теистической философии XIX века» [Эзри, 2018b, 66]. Философ различает, но не разделяет богословие и философию, и считает, что богословие есть «совокупность двух элементов: религии и философского исследования» [Бобров, 1899, 36]. По его мнению, философия и религия не могут конкурировать потому, что источники их познания совершенно различны, философия имеет источником один «чистый разум» [Таубе, 1912, 77], а религия — Откровение.
Важными для оценки и осмысления творчества Г. Тейхмюллера являются труды Е. А. Боброва, А. А. Козлова, И. Б. Румера, которые мы используем в данной работе. Из современных исследователей Юрьевской философской школы и идей Г. Тейхмюл-лера в первую очередь мы выделим работы кандидата философских наук, доцента Марины Ивановны Ивлевой (см.: [Ивлева, 2011; Ивлева, 2019]). Незаменимыми в изучении русского персонализма являются работы кандидата философских наук Александры Юрьевны Бердниковой. В ее диссертации [Бердникова, 2016b] и научных статьях [Бердникова, 2016a] персонализм Г. Тейхмюллера рассматривается в философско-историческом аспекте. Интересными для нашего анализа являются две работы Г. К. Эзри «Философия Тейхмюллера и Бердяева: общность подходов в онтологии и антропологии»
[Эзри, 2018b] и «Философия Лотце и Тейхмюллера и русская религиозная философия „всеединства11: общность подходов в онтологии и антропологии» [Эзри, 2018а]. Отдельно выделим переведенную на русский язык работу крупнейшего немецкого исследователя творчества Тейхмюллера Х. Швенке «Теория познания как основа онтологии. Новый взгляд на философию Густава Тейхмюллера» [Шванке, 2009; Schwenke, 2006]. Также для анализа мы используем работы В. И. Сатухина, Л. Г. Федотовой и других современных исследователей творчества дерптского профессора.
«Метафизика четвертого мировоззрения» или персонализм
Свою философскую систему, которую он именует «новым основанием метафизики», или «метафизикой четвертого мировоззрения»4, Г. Тейхмюллер начинает выстраивать с двух пунктов. Во-первых, это уничтожение границ между материальным и духовным (Тейхмюллер, 1895, 25). Основание для этого философ находит в монадологии Г. Лейбница, который стал первым в европейской мысли, кто стер границу между материальным и идеальным, положив, что существуют только духовные атомы — монады [Лейбниц, 1982, 413]. А во-вторых — поиск определения понятия «бытия» [Ryzhkova, 2013, 287]. При этом Г. Тейхмюллер, как и Г. Лейбниц, отводит большую роль мыслительной деятельности и внутреннему опыту человека (Тейхмюллер, 1895, 10).
Как и большинство лейбницианцев, Г. Тейхмюллер уделял большое значение гносеологии. Понятно, что процесс определения бытия как такового происходит именно в рамках разума и сознания человека и поэтому неразрывно связан с гносеологическим аспектом человеческого бытия. Однако, хотя онтология и описывается «изнутри» гносеологии, но сводить всю онтологию к гносеологической сфере, по сути, отождествляя их, — все же крайность. Неслучайно А. Ю. Бердникова называет систему взглядов Г. Тейхмюллера «онтологической гносеологией» [Бердникова, 2018, 353]. Познание бытия действительно дано как возможность и задача человеческой личности с ее сознанием, но сведение всей онтологии лишь к тому, что познано личностью, есть впадение в субъективизм, соответствующий уходу от природно-ипостасного баланса в сторону одного лишь личностного начала [Бердникова, 2017а, 37], и то понятого лишь в ракурсе индивидуализма.
Опираясь на силы человеческого разума, Г. Тейхмюллер выводит три рода бытия [Федотова, 2014]. Первый род — идеальное бытие, содержание наших деятельностей, которое отвечает на вопрос «что́» (Was) (Тейхмюллер, 1913, 70). Второй род — реальное бытие, или деятельности , а также «бытие-что» (dass), «бытие в себе» или «существование», развивающее временные формы и соответствующее союзу «что» (dass)5. И, наконец, третий род бытия — субстанциальное1 бытие.
«Я» и индивидуальность
Третий род бытия Г. Тейхмюллер именует «бытие-я», «бытие-субъект», «бытие-сущность» или коротко выражает его местоимением «я» (Тейхмюллер, 1913, 74). «Я» имеет содержание бытия в себе, знает о существовании своих деятельностей
(Тейхмюллер, 1913, 87). «Я» «никогда не выступает в качестве предиката» (Тейхмюл-лер, 1913, 85), и это логично, ибо предикат — признак субъекта, субъект или личность не может быть признаком себя. «Я» «принадлежит не одному только какому-либо предикату, но и любому другому» (Тейхмюллер, 1913, 85), т. е. имеет множество свойств, логически различных между собой.
Активно используя понятие «я», Г. Тейхмюллер трансформирует «монадологию Лейбница в персонализм» [Бердникова, 2014], который получит свое развитие в русском лейбницианстве. Для Г. Тейхмюллера каждый простейший атом, субстанция, монада обладает индивидуальностью, или «я». Философ подразумевает под «я» «сознание индивидуальности, то есть то, что кто-нибудь знает о себе, что он единая субстанция и имеет бытие в самом себе» (Тейхмюллер, 1895, 86). Индивидуальность субстанций обнаруживается в том, что каждый атом «испытывает влияния извне, воспринимает их и отвечает на эти влияния сам из себя, как самостоятельная причина» (Тейхмюллер, 1895, 87). Таким образом, мы наблюдаем у Г. Тейхмюллера развитие идеи взаимодействия субстанций между собой, возможность их общения и влияния друг на друга, в отличие от монадологии Г. Лейбница, монады которого замкнуты и не взаимодействуют [Лейбниц, 1982, 413].
Г. Тейхмюллер действительно стремился преодолеть принцип предустановленной гармонии Г. Лейбница и «обосновать законы реального взаимодействия между монадами-личностями» [Бердникова, 2017b, 44], но, на наш взгляд, у него не совсем получилось это сделать. Говоря об идее взаимодействия, Г. Тейхмюллер ссылается лишь на «постулат координации сущностей» (Тейхмюллер, 1913, 171), но чего-то более конкретного для описания их сосуществования не предлагает. Идея взаимодействия между субстанциями у Г. Тейхмюллера тесно связана с материальностью и телесностью. Каждая субстанция являет себя другим через телесность (Тейхмюллер, 1895, 128). А материя рассматривается как феномен взаимодействия между субстанциями.
Интересно, что похожие взгляды мы находим и у современных богословов, например у митр. Иоанна (Зизиуласа), для которого «природа есть „общение“» [Мефодий Зинковский, 2018, 80–83]. По-видимому, подобные идеи имплицитно опираются на философский персонализм, что подтверждает как влиятельность идей персонализма, так и актуальность его исследования для развития современного богословия.
Субстанциальное единство и синтетичность «я»
Определение «я» Г. Тейхмюллер связывает с понятием «единство», и это единство носит своеобразный характер, не количественный и не качественный, а субстанциальный (Тейхмюллер, 1913, 95). Субстанциальное единство «я» говорит о целостности и непрерывности самосознания личности (Тейхмюллер, 1895, 84–86). Тут налицо интуиция Г. Тейхмюллера об уникальности и целостности личности, которые, по сути, не имеют аналога в физическом мире, ибо в нашем земном опыте все делится и распадается.
Г. Тейхмюллер определяет «я» как «данное в численном единстве, само себя сознающее основание соотношения для всего данного в сознании идеального и реального бытия» (Тейхмюллер, 1913, 94). В этом определении отражены единство «я», его синтетичность и самосознание. «Я» «есть всегда тоже самое единое, оно остается безразличным ко всем переменам состояния и времени» (Тейхмюллер, 1913, 102). Это интуиция Г. Тейхмюллера о постоянстве личностного бытия как данности, а не как набора перемежающихся психологических состояний. Синтетичность «я» важна для богословия личности, но она все-таки далеко не во всем «безразличная» синтетичность с точки зрения богословской антропологии. Тейхмюллеровская «безразличность» применима только к самому факту личностного бытия, ибо оно есть данность независимо от деградации или развития личности за счет включения или исключения из себя энергий Бога и сотворенных энергий (включая, например, знания, опыт других людей и т. д). Содержание личного бытия изменяется, что меняет и делает «различимым» для нее синтетичное включение/исключение того или иного бытия в/из себя.
Субстанция
От «я» Г. Тейхмюллер переходит к общему понятию «субстанция», ведь «по аналогии с „я“ можно прийти к „ты“, „он“ и „оно“» (Тейхмюллер, 1913, 86). Третий род бытия именуется не только местоимением «я», но и «субстанцией», «субстанциальным бытием», «субстанциальным единством», и это неслучайно, ибо все эти понятия являются ключевыми для берущей свое начало от монадологии Г. Лейбница философии персонализма. Г. Тейхмюллер, в частности, постулирует, что «субстанция есть то, что содержит в себе все другое, а само ни в чем не содержится» [Румер, 1914, 395]. Подобное определение можно рассматривать как попытку философско-богословского определения ипостаси. Субстанция у Г. Тейхмюллера, в русле мысли Г. Лейбница, это духовная сущность, первооснова всякого бытия, и сама она и есть собственно подлинное бытие.
Г. Тейхмюллер отождествляет понятия «бытие», «я», «субстанция», «сущность». Отметим здесь, что с богословской точки зрения «я» или «личность» обладает сущностью, эти два понятия не сливаются в синонимичность, но при неразделимости различны и составляют единую природно-личностную онтологию (см.: [Мефодий Зинковский, 2014]). Но у Г. Тейхмюллера мы не находим подобного различения, у него «я» просто тождественно «бытию» до неразличимости понятий «природа» и «ипостась», «я» есть просто «сущность».
Душа
В одном ряду с понятиями «бытие», «субстанция» и «я» у Г. Тейхмюллера стоит понятие «душа». Философ дает следующие определение этому понятию: «душа есть самобытная причина, а не простая деятельность или функция, и потому — не простая акциденция, но субстанция» (Тейхмюллер, 1895, 82). Душа — «это не функция различных частей мозга, но единая субстанция, тождественное „я“» (Тейхмюллер, 1895, 86). Душа «есть особенная, самобытная сущность» (Тейхмюллер, 1895, 84), а сущность души состоит в том, что она есть субстанция, что она «сознает свою тождественность в воспоминании и доказывает свое тождество в каждом чувствовании и в каждом суждении» (Тейхмюллер, 1895, 88). Используя слово «личность» как синоним «души», философ говорит, что «тождество личности покоится на тождестве субстанции души, которая при всех изменениях мыслей, настроений и желаний пребывает одной и той же» (Тейх-мюллер, 1895, 95). Надо отдать должное Г. Тейхмюллеру в том, что уже за человеческим зародышем он признает наличие самотождественной души (Тейхмюллер, 1895, 96).
Понятие «душа» для Г. Тейхмюллера сливается с понятиями «бытие», «я», «субстанция» и «сущность». Существование души состоит в ее сознательных и бессознательных функциях (Тейхмюллер, 1895, 91). Напомним, что в европейской философии одним из первых о бессознательном стал размышлять тот же Г. Лейбниц [Гайденко, 2010, 170-173], рассуждая о бесконечно малых восприятиях, или перцепциях [Лейбниц, 1982, 415]. Вопрос происхождения душ связан у Г. Тейхмюллера с понятием «ничто». Он отрицает возможность существования этого «ничто» (Тейхмюллер, 1913, 198) и своеобразно поясняет христианскую идею о сотворении мира Богом из ничего. Вслед за Г. Лейбницем Г. Тейхмюллер утверждает идею о том, что подлинных рождения и смерти субстанций-душ не существует, а существуют только их качественные переходы (Тейхмюллер, 1895, 113).
Человек
Представление о человеке стоит у Г. Тейхмюллера обособленно. Философ не отождествляет человека с душой или субстанцией. Несмотря на девальвацию всего чувственного и телесного, он, однако, полагает, что человек есть соединение субстанции-души и ее тела, которое состоит из субстанций более низкого уровня развития. Философ настаивает на монадной простоте души, а тело сравнивает с конгломерат-ностью семейства или этноса, пытаясь объяснить телесность с помощью аналогий органических форм с формами государственного устройства и мелодиями. Все эти аналогии, по мнению философа, «указывают на самобытность, с одной стороны, души, с другой — атомов тела» (Тейхмюллер, 1895, 98).
Г. Тейхмюллер подчеркивает, что «наше телесное существование непостоянно», и добавляет, что «мы никогда не тождественны по веществу, из которого состоим» (Тейхмюллер, 1895, 38), но «в потоке сменяющегося вещества сами-то мы всегда остаемся все теми же личностями» (Тейхмюллер, 1895, 39). Даже при «полном обмене веществ организма душа сохраняет свою идентичность и тождество» (Тейхмюллер, 1895, 92).
Сведение бытия лишь к личностно-духовному аспекту приводит философа к пренебрежению телесной составляющей природы (Тейхмюллер, 1895, 93). Внутренний мир личности человека, его сознание и мышление первичны для Г. Тейхмюллера. Человек ценен потому, что он «есть единственное существо, носящее в себе другой мир, кроме того, что он видит и слышит» (Тейхмюллер, 1895, 7). Поэтому система Г. Тейхмюллера в своей полноте не вписывается в исконно христианскую парадигму синтеза души и тела, которую зачастую исследователи недооценивают и даже искажают в силу аскетического акцента христианских авторов в отношении к телесному началу в рамках несовершенного земного бытия.
Личность и христианство
Лейтмотивом всей философии Г. Тейхмюллера является утверждение «реальности личного бытия» [Schwenke, 2016, 106], которое он относит к субстанциальному бытию [Бобров, 1898, 22–23]. Через «исследование онтологической проблемы (бытия)» философ стремился доказать, что «человек — это личность» [Эзри, 2018b, 67]. Будучи отличным знатоком античной мысли, Г. Тейхмюллер утверждал, что «во всей древней философии нет определенного понятия индивида и личности» (Тейхмюллер, 1913, 20) и «только христианство покинуло тропинку перспективного рассмотрения мира и призвало нас к бодрствованию, придав значение личности, „я“» (Тейхмюллер, 1913, 387).
Отмечая заслугу христианства в разработке понятия «личность», философ писал, что «христианство открыло действительного, т. е. личного Бога, а не Идею, равную ничто» (Тейхмюллер, 1913, 387). Г. Тейхмюллер убежден в том, что многие сегодня недопонимают или вовсе забыли, что только благодаря христианству «отдельное „я“ перестало восприниматься текущим, проходящим, малоценным явлением, но стало бессмертным и историческим членом действительного целого мира» (Тейхмюллер, 1913, 387). Особая заслуга христианства, по мнению философа, состоит в том, что оно «не поставило себя в мир, окутав первое начало вещей и последний конец брамани-стическим, буддистским, озирисовским и платоновским туманом» (Тейхмюллер, 1913, 387). Для философа ключевым моментом являлось «выдвинуть нетленное личное „я“». Именно на этом фундаменте Г. Тейхмюллер и строит свое новое основание метафизики, в основу которой он ставит исключительно «личное бытие», не знакомое философам, но хорошо известное христианству (Тейхмюллер, 1913, 388). При этом Г. Тейхмюл-лер не стремится выстроить баланс духа и материи, но сводит все бытие к личному, считая, что именно и только личность может «с возвышенной смелостью» включить «целое действительного мира в прочный исторический порядок Провидения, которое удерживает в своих руках нить с начала до конца» (Тейхмюллер, 1913, 387).
К сожалению, используя обоснованное христианством понятие «личность», Г. Тейх-мюллер, тем не менее, не смог уловить подлинного новшества в мысли отцов Церкви о личностном бытии. Он считал, что «у отцов Церкви и в схоластике нельзя найти новую, независимую от греков, философию» (Тейхмюллер, 1913, 388). Дерптский мыслитель не оценил то великое открытие, основания для которого заложены в Писании и Предании Церкви, хотя и не без трудностей в его рецепции, состоявшее не только в утверждении важности личного бытия, но и в установлении одновременного различия и тождества ипостаси/лица и природы/сущности. Уже великие каппадокийцы при разработке тринитарной терминологии провели различие между «сущностью» и «ипостасью», тем самым положив «основание для богословского осознания человеческой личности» [Киприан Керн, 2006, 261]. Различая сущность и ипостась, христианская антропология одновременно утверждает единство онтологии природы и личности, определяя, что человеческая природа является «воипостазированной», так как «вне ипостаси природа существовать не может» [Киприан Керн, 2006, 259].
Но Г. Тейхмюллер, при всей убежденности в ценности личностного бытия, не различает «сущность» и «ипостась». Если в святоотеческой традиции человечество — это единая сущность во многих ипостасях, то у Г. Тейхмюллера оно есть множество самостоятельных сущностей-субстанций. Выдающийся православный богослов ХХ в. В. Н. Лосский отмечал, что «в единстве общей природы личности не являются ее „частями“, но каждая представляет собою некое целое, завершающее свое совершенство в единении с Богом» [Лосский, 2012, 369]. При таком подходе можно осмыслить, как все человечество является образом Пресвятой Троицы, отражая тайну единства природы и множественности ипостасей. Для Г. Тейхмюллера же множество сущностей и множество ипостасей есть одно и то же. А единство субстанции он не может принять, так как для него это означало бы и единство личности.
С нашей точки зрения, односторонней является изначальная опора Г. Тейхмюл-лера только на «чистый разум» и, в частности, на схему платоновских врожденных идей (Тейхмюллер, 1913, 40). На опыте подобного «рафинированного» философского дискурса мы видим, что естественный разум не в состоянии достигнуть различия ипостаси и сущности, открытого в Писании и Предании Церкви о Боге и о человечестве, созданном по образу Божьему. Поэтому, строго говоря, философ и не мог воспринять эту «революционную» идею, которая остается мало оцененной и осмысленной и до сих пор. И Г. Тейхмюллер думал, что богословы лишь «перепевали» идеи античности, как думает ряд мыслителей и теперь (см. о «бесплодности византийской философии»: [Димитракопулос, 1996]).
Густав Тейхмюллер «свою высшую гордость всегда полагал в том, чтобы быть философским выразителем христианства» [Румер, 1914, 384]. Согласно анализу исследователей, его философские взгляды представляют собой «вариант христианского персонализма, противостоящий как позитивизму и эволюционизму, так и традиционному платонизму» [Румер, 1914, 384]. Исследователи, пытавшиеся вписать философию Г. Тейхмюллера в полную меру христианской системы координат, сами признают, что в его философии «природно-энергийное» начало стало принадлежностью, предикатом личного начала [Сатухин, 2017, 29-30]. А это, по сути, есть разрушение единства двухполюсного ипостасно-природного или субъект-объектного бытия в пользу личного начала, чем больны, к сожалению, многие персоналистические системы, даже выстроенные серьезными богословами. Например, митр. Иоанн (Зизиулас), подчеркивая значимость личностного бытия, «приходит к пренебрежению природным аспектом онтологии и сведению этого аспекта на уровень служебно-подчиненный по отношению к личности» [Мефодий Зинковский, 2018, 89]. Подобный уклон мы находим и у современного богослова Х. Яннараса [Мефодий Зинковский, 2012].
Бог-Абсолют-Личность
Бога Г. Тейхмюллер понимает как Личность, как Абсолютный Дух (Тейхмюллер, 1913, 267) или Субстанцию (Тейхмюллер, 1913, 205). Но, к сожалению, у философа нет рассуждений о христианских триадологии и христологии. В «Философии религии» (Teichmüller, 1886), запланированной как часть проекта «Теологика» («Theologika»), христианство не рассматривается. Тейхмюллер планировал посвятить этому вопросу отдельную работу — «Философия христианства» (Teichmüller, 1931), также он планировал написать работу «Жизнь Иисуса» («Leben Jesu») [Шванке, 2009, 221], но, к сожалению, не успел [Бердникова, 2018, 355]. Х. Швенке отмечает, что «философию христианства Тейхмюллер собирался выстраивать на основе радикального различения сознания и познания» [Шванке, 2009, 221], но лекции (Teichmüller, 1931), которые были изданы после смерти философа, «не содержат его новой теории сознания, которая должна была лечь в основу этой книги» [Schwenke, 2016, 117].
С богословской точки зрения в Троице есть «множественность» в виде ипостас-ной троичности и «единство» в виде сущностного единства. А для Г. Тейхмюллера множественность есть лишь следствие ограниченности (Тейхмюллер, 1913, 267). Лич-ностность в Боге Г. Тейхмюллер мыслит как Мега-Сознание (Тейхмюллер, 1913, 254), а не как систему «Я», находящихся во взаимоотношении с равными Себе и отличными от Себя одновременно.
Гносеологический принцип в онтологии важен для Г. Тейхмюллера и в теме бо-гопознания, поэтому он настаивает на принципе познания Личности Бога, как и «я» человеческого, «через себя», т. е. через собственную личность и ее сознание (Тейх-мюллер, 1913, 157). Однако у Г. Тейхмюллера мы не находим размышлений о знании Ипостасями Св. Троицы друг друга. Тем временем это важная тема для христианской гносеологии и богословия личности, когда «речь идет как о взаимном ведении ипостасями друг друга, так и о знании Ими общей для Них сущности, что, очевидно, неразрывно, ввиду целостности онтологической мысли отцов» [Мефодий Зинков-ский, 2015, 30]. Знание тут выступает как свойство личности и «обращено к отличным, но единосущным по природе ипостасям-личностям. Взаимное ведение лицами Троицы друг друга одновременно и несводимо к природному аспекту их бытия, и неотрывно от него, погружено в него» [Мефодий Зинковский, 2015, 30].
Интересно, что, по мнению исследователей, защищая «четвертый» мировоззренческий подход, в том числе от пантеизма, тейхмюллеровский субстанциализм привел «теистически задуманную систему» своего изобретателя «к пантеистическому концу» [Румер, 1914, 395]. И. Б. Румер критикует теологическую концепцию Г. Тейхмюллера и говорит, что основной недостаток его философии состоит в том, что «все конечные существа связаны в единстве Абсолютного так же, как в единстве самого конечного „я“ связаны его разнообразные акты» [Румер, 1915, 81]. По идее, «если „я“ есть субстанция, то оно либо находится вне божественной субстанции, либо есть сама эта субстанция в состоянии самоограничения» [Румер, 1914, 395]! Но тогда «в первом случае мы получим политеизм или атеизм, во-втором — пантеизм. Эта дилемма неизбежна для всякого субстанциалиста» [Румер, 1914, 395]. Мы добавим, что эта дилемма неразрешима для субстанциалиста, не дошедшего до различения природы и личности.
Развитие мыслей Тейхмюллера и дальнейшие исследования персонализма
Метафизику Тейхмюллера развивали его ученики: Е. А. Бобров, Я. Ф Озе, В. Ф. Лютославский и В. С. Шилкарский, А. А. Козлов, А. А Аскольдов, Н. О. Лосский и другие, философское наследие которых изучено мало и ждет своих исследователей. Внимательный сопоставительный анализ позволит в будущем дополнить картину развития философской персоналистической модели и предоставит возможность более полноценного сопоставления этой линии мысли с другими, в частности — с богословскими представлениями о личности.
Заключение
Густав Тейхмюллер признает исключительную роль христианства в обосновании и утверждении личного бытия. При этом понятия «бытие», «субстанция», «сущность», «я», «душа» и «личность» у Г. Тейхмюллера являются, по сути, синонимами. Философ вводит способность к взаимодействию и взаимовлиянию субстанций или личностей, в отличие от замкнутых монад Г. Лейбница, и фактически переплавляет монадологию в философский персонализм. Одновременно, немецкий персоналист не рассматривает христианские триадологию и христологию как основания для своих построений.
В тейхмюллеровском персонализме нет разделения на духовное и материальное, органическое и неорганическое, личностное и природное. Г. Тейхмюллер, как и Г. Лейбниц, не достигает двуединства святоотеческой богословской мысли, оставаясь в рамках однополярной, духовно-субстанциальной онтологии вследствие, в частности, исключительно гносеологического принципа понимания онтологии. Святоотеческая же антропология, признавая, что личность есть гносеологический фокус, центр бытия человека и мира, в то же время не превращала природное начало в предикат личного, не стирала различия между духовным и материальным, между Духом Божьим и сотворенным миром, а также между духом человеческим и материей.
У Г. Тейхмюллера, как и у Г. Лейбница, материальная природа рассматривается лишь как проявление сознания личности, что, в частности, ведет мысль философа к своеобразному персонально-пантеистическому уклону.
Представляют интерес дальнейшие исследования взглядов различных последователей тейхмюллеровской школы персонализма, закрепившейся на русскоязычной почве и получившей широкое развитие в трудах различных выдающихся философов XX в., с целью, в том числе, сопоставительного анализа линий развития философии и теологии персоны.
Список литературы Богословское осмысление основных категорий персонализма Густава Тейхмюллера
- Тейхмюллер (1895) — ТейхмюллерГ.А.Бессмертие души: Филос. исслед. / Пер. А. К. Николаева под ред. [и с предисл.] Е. Боброва. Юрьев: Печ. А. Гренцштейна, 1895. 200 с.
- Тейхмюллер (1913) — Тейхмюллер Г.А. Действительный и кажущийся мир: Новое основание метафизики / Пер. с нем. Я. Красникова. Казань: Типо-лит. Ун-та, 1913. 389 с.
- Teichmüller (1886) — Teichmüller G. Religionsphilosophie. Breslau, 1886. 558 s.
- Teichmüller (1931) — Teichmüller G. Vorlesungen über die Philosophie des Christentums. 2 St. II. Sem. 1886 // Tennmann. 1931. P. 1-57.
- Бердникова (2014) — БердниковаА.Ю. Густав Тейхмюллер — идейный предшественник русского лейбницеанства // Материалы международного молодежного научного форума «Ломоносов-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/section_27_2716.htm (дата обращения: 30.08.2021).
- Бердникова (2016a) — Бердникова А.Ю. Неолейбницианство в России: два проекта монадологии // История философии. 2016. № 1. C. 86-95.
- Бердникова (2016b) — Бердникова А.Ю. Неолейбницианство в России. Историко-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03. М., 2016. 167 с.
- Бердникова (2017a) — БердниковаА.Ю. «Назад к Канту» или «Назад к Лейбницу»? Критический взгляд из истории русского метафизического персонализма // Кантовский сборник. 2017. Т. 36. № 2. С. 33-45. doi: 10.5922/0207-6918-2017-2-3.
- Бердникова (2018) — Бердникова А.Ю. «Сознание Бога» («Gottesbewusstsein») в философии религии Густава Тейхмюллера // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2018. Т. 22. № 3. С. 353-364. doi: 10.22363/2313-2302-2018-22-3-353-364.
- Бердникова (2017b) — БердниковаА.Ю. Философия религии русского неолейбници-анства: Тейхмюллер, Козлов, Астафьева // Страницы: богословие, культура, образование. 2017. Т. 21. № 1. С. 37-48.
- Бобров (1899) — Бобров Е.А. Воспоминание о Г. Тейхмюллере // Философия в России. Материалы, исследования, заметки. 1899. Вып. 1. С. 25-48.
- Бобров (1898) — Бобров Е. А. О понятии бытия. Учение Г. Тейхмюллера и А. А. Козлова. Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1898. 76 с.
- Гайденко (2010) — ГайденкоП.П. Лейбниц // Большая российская энциклопедия: [в 35т.] / Гл. ред. Ю.С.Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2010. Том 17. С. 170-173.
- Димитракопулос (1996) — Димитракопулос Я. Григорий Палама — экзистенциалист? Реконструкция подлинного значения его комментария на Исх. 3:14: «'Еум е1ц1 о wv» / Перевод с английского монаха Диодора (Ларионова) по изданию: John Demetracopoulos. Is Gregory Palamas an existentialist? The restoration of the true meaning of his comment on Exodus 3,14 "Еуш eI^i о wv". Athens: nAPOYXIA, 1996 // ESSE: Философские и теологические исследования. URL: https://esse-journal.ru/?p=5264 (дата обращения: 30.08.2021).
- Ивлева (2011) — Ивлева М.И. Проблемы гносеологии в творчестве Г. Тейхмюллера // Вестник Академии. 2011. № 3. С. 112-115.
- Ивлева (2019) — ИвлеваМ. И. Формирование спиритуалистической философской системы в трудах Г. Тейхмюллера // Право и практика. 2019. № 1. С. 325-328.
- Киприан Керн (2006) — Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Киев: Общество любителей православной литературы в честь свт. Льва, папы Римского, 2006. 449 с.
- Козлов (1894) — КозловА.А. Густав Тейхмюллер // Вопросы философии и психологии. М., 1894. Кн. 4 (24). С. 523-536; Кн. 5 (25). С. 661-681.
- Лейбниц (1982) — ЛейбницГ.В. Монадология (пер. с франц. Б.П. Боброва) // Лейб-ницГ.В. Сочинения: в 4 т. / [Редкол.: Б.Э. Быховский, Г.Г. Майоров, И.С. Нарский и др.]. М.: Мысль, 1982-1989. Т. 1. С. 413-429.
- Лосский (2012) — ЛосскийВ.Н.. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / Пер. с фр. мон. Магдалины (В. А. Рещиковой). Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2012. 586 с.
- Мефодий Зинковский (2012) — Мефодий (Зинковский), иером. Анализ представлений о личности у Христоса Яннараса // Развитие личности. 2012. № 3. С. 175-198.
- Мефодий Зинковский (2015) — Мефодий (Зинковский), иером. Ипостасно-природный характер понятия «знание» и теология образования // Вестник РХГА. 2015. Т. 16. Вып. 3. С. 29-38.
- Мефодий Зинковский (2014) — Мефодий (Зинковский), иером. Опыт систематического изложения свойств человеческой личности // Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие личности. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. С. 173-220.
- Мефодий Зинковский (2018) — Мефодий (Зинковский), иером. Соотношение понятий «личность», «сущность» и «общение» в богословии митрополита Иоанна Зизиуласа // Вестник РХГА. 2018. Т. 19. Вып. 1. С. 73-90.
- Румер (1914) — Румер И.Б. К вопросу о философии Густава Тейхмюллера // Вопросы философии и психологии. М., 1914. Кн. 124. С. 384-399.
- Румер (1915) — Румер И.Б. Пантеизм и теизм в философии Тейхмюллера // Вопросы философии и психологии. М., 1915. Кн. 126. С. 62-105.
- Сатухин (2017) — Сатухин В. И. Традиции персонализма в России: философская антропология П.А. Некрасова: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13. СПб., 2017. 179 с.
- Таубе (1912) — Таубе М. Ф. Познаниеведение соборного восточного просвещения по любомудрию славянофильства. Пг.: Тип. М. И. Акинфиева, 1912. 234 с.
- Федотова (2014) — Федотова Л. Г. Понятие бытия в учениях Г. Тейхмюллера и А. Козлова // Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы Международной научно-практической конференции, 29-31 января 2014 г., г. Курск, ч. 1). Курск: Изд-во Курской гос. с.-х. академии, 2014. С. 341-344.
- Шванке (2009) — Шванке Х. Теория познания как основа онтологии. Новый взгляд на философию Густава Тейхмюллера / Пер. с нем. А. Б. Григорьева // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2006-2007 г. / Под ред. М. А. Колерова и Н. С. Плотникова. М.: Модест Колеров, 2009. С. 211-239.
- Эзри (2018a) — ЭзриГ.К. Философия Лотце и Тейхмюллера и русская религиозная философия «всеединства»: общность подходов в онтологии и антропологии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №11-2. С. 122-126. doi: 10.24411/2500-1000-2018-10209.
- Эзри (2018b) — ЭзриГ.К. Философия Тейхмюллера и Бердяева: общность подходов в онтологии и антропологии // История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты. Сб. ст. по материалам XV междунар. науч.-практ. конф. №10 (11). Новосибирск: Изд-во АНС «СибАК», 2018. С. 65-69.
- Gottfried (2015) — Gottfried G. Gustav Teichmüller and the Systematic Significance of Studying the History of Concepts. // Studia Philosophica Estonica. 2015. № 8 (2). P. 129-140.
- Ryzhkova (2013) — Ryzhkova G. S. Gustav Teichmuller, a German-born founder of Russian personalism // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 6. № 2. С. 284-290.
- Schwenke (2016) — Schwenke H. «A Star of the First Magnitude within the Philosophical World»: Introduction to Life and Work of Gustav Teichmüller // Studia Philosophica Estonica. 2016. №8 (2). P. 104-128.
- Schwenke (2006) — Schwenke H. Zurück zur Wirklichkeit: Bewusstsein und Erkenntnis bei Gustav Teichmüller. Basel: Schwabe, 2006. 348 s.