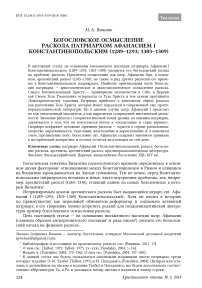Богословское осмысление раскола патриархом Афанасием I Константинопольским (1289-1293; 1303-1309)
Автор: Вишняк Михаил Андреевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (80), 2018 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье на основании письменного наследия патриарха Афанасия I Константинопольского (1289-1293; 1303-1309) уясняется его богословский взгляд на проблему раскола. Предметом осмысления для патр. Афанасия был, в основном, арсенитский раскол (1265-1310), но также и ряд других расколов его времени в Константинопольском патриархате. Наиболее оригинальная часть богословия патриарха - христологическое и экклезиологическое осмысление раскола. Смысл Боговоплощения Христа - примирение человечества в Себе, в Церкви как Своем Теле. Раскольник отторгается от Тела Христа и тем самым противится Домостроительству спасения. Патриарх прибегает к известному образу раскола как рассечения Тела Христа, которое имеет параллели в современной ему противораскольнической литературе. Но в данном случае патр. Афанасий I предстает не как отвлеченный мыслитель, а как выразитель созерцаемой мистической реальности. Значение раскола с сотериологической точки зрения, по мнению патриарха, заключается в том, что он попускается Богом к «испытанию и славе верных». Патриарх вскрывает духовные причины раскола - страсти в сердце раскольника: упорство, нераскаянность, тщеславие, властолюбие и корыстолюбие и, в конечном счете, противление Богу. Богословие свт. Афанасия содержит минимум привязок к исторической конкретике и потому остается актуальным по сей день
Патриарх афанасий i константинопольский, раскол, богословие раскола, арсениты, арсенитский раскол, противораскольническая литература, феолипт филадельфийский, церковь, византийское богословие xiii-xiv вв.
Короткий адрес: https://sciup.org/140246569
IDR: 140246569 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10061
Текст научной статьи Богословское осмысление раскола патриархом Афанасием I Константинопольским (1289-1293; 1303-1309)
Богословская тематика Византии палеологовского времени определялась в основном двумя факторами: отношениями между Константинополем и Римом и влиянием на Византию зарождающегося на Западе гуманизма. Тем не менее, перед Константинопольским патриархатом вставали и иные, чисто внутренние проблемы, как, например, арсенитский раскол (1265–1310), ставший одним из самых болезненных в истории Византии1.
Непримиримым врагом арсенитского раскола был выдающийся иерарх свт. Афанасий I (1289–1293; 1303–1309) Константинопольский2. Хотя он вошел в историю по преимуществу как церковный обновитель-реформатор и социально активный патриарх, в его творениях можно встретить редкий для поздневизантийской литературы пример богословского осмысления раскола.
Цель настоящей статьи — на основании письменного наследия патр. Афанасия (главным образом антиарсенитского послания3 и ряда писем4) уяснить его богословский взгляд на феномен раскола.
христологическое и экклезиологическое понимание раскола
Патриарх пишет в своем антиарсенитском послании: «К ним [нашим грехам], в приложение порока и раздражение Бога прибавляются и [дела] ксилотов5, хотя человеколюбивый Бог ради [Своего] создания безгрешно вочеловечился и благовестил мир вам, дальним и ближним , и Своею Плотью разрушил средостение вражды , чтобы оно [создание] не восставало, раздираясь заблуждениями и [ложными] верованиями. Ибо Христос есть мир наш , как [пишет] божественный апостол, благоволивший примирить людей и создать [их] в одного нового человека, умиротворяя в Себе (ср. Еф 2:14–17), хотя некоторые в [разных] поколениях восставали , худо неистовствуя против истины, чтобы отторгать (ср. Деян 20:30) и самих себя, и других от Церкви Христовой»6.
Цель воплощения Христа — примирение человечества в Себе, чтобы «оно не восставало» (μὴ στασιάζειν). Причина восстаний — заблуждения и ложные верования. Человечество примиряется в Церкви, которая есть Тело Христово. И все же, несмотря на Домостроительство спасения, в каждом роде (κατὰ γενεάς) находились люди, которые неистовствовали (λυττήσανες) против Церкви. Раскольники — это сознательные враги Домостроительства спасения, противники Самого Бога, которые не довольствуются своей собственной погибелью, но еще отторгают и других от Церкви Христовой, лишая их спасения.
Для патр. Афанасия Христос и Церковь суть едино, и таким образом происходит естественный переход от христологии к экклезиологии.
раскол как рассечение тела христова
В том же послании патриарх Афанасий пишет: «Совершенно чужд Богу и явно христоубийца тот, кто раскалывает Церковь и рассекает Христа, он мертвый член, как бы отсекаемый от своего целого тела, и иссохшая ветвь, совершенно отторгающаяся от остальной части древесного состава, и ничем не отличается от еретиков; его грех даже мученическая кровь не может отмыть и изгладить, как говорит Игнатий Бого-носец»7. В этом выражении важны две мысли: первая — что раскольник совершенно чужд Церкви, вторая — что тяжесть греха раскола такова, что делает раскольника убийцей Христа, рассекающим Его Тело (т. е. Церковь).
Мотив рассечения Тела Христова является принципиальным для патр. Афанасия. В своем обширном письме императору о церковных нестроениях [Ta. 69] св. Афанасий повествует о видении, в котором некоторому лицу явился висящий на Кресте Спаситель с растерзанной на пять частей плотью: «Действительно, я доподлинно слышал, что одному из раскольников (τῶν σχιζομένων τινὶ) явился Спаситель, висящий на Кресте, и Его святая плоть была растерзана на пять частей. И когда видевший со скорбью заплакал и спросил, кто дерзнул на столь ужасное дело, Спаситель сказал спросившему: „Вы, которые насколько возможно уподобились Арию, разве что тот сделал это с Моим хитоном, вы же, как видишь, с Моею плотью“. И, как я полагаю, следует думать, что первый разрыв (ῥῆξιν) есть соединение с италийцами; второй — [разрыв] арсениан (τὴν τῶν Ἀρσενιανῶν); третий и четвёртый — [разрыв] египтян и тирян, и тех, кто вместе с ними прибыл сюда для разрушения добра; пятый, вдобавок к тем, — блистательный ряд хороших священников и заговор, составленный ими к их собственному несчастью и к разложению Церкви» [Ta. 69:43–55]. Расколы перечислены патр. Афанасием в хронологическом порядке, начиная от Лионской унии и заканчивая разделением между ним и клиром Святой Софии8. Среди этих расколов арсенитский был наиболее длительным и болезненным.
Схожие образы использовали многие из полемизировавших с арсенитами современников св. Афанасия: патр. Григорий Кипрский (в письме арсениту Афанасию Лепендрину)9, монах Мефодий10, митр. Иоанн Хила11, св. Феолипт Филадельфийский12, но сами эти образы восходят к ранней христианской экклезиологии и встречаются уже у св. Киприана Карфагенского [Пржегорлинский, 2011, 98–100]. Возможно, что речь идет о взаимном влиянии и эти образы воспроизводились без осознания их мистической глубины, особенно теми из современников патр. Афанасия, которые были склонны более к философским спекуляциям, нежели к деятельной аскети-ке. В данном случае свидетельство патр. Афанасия, большая часть жизни которого прошла в молитвенном подвиге, важно как отражение созерцаемой и переживаемой им мистической реальности [Пржегорлинский, 2002, 58].
Парадоксальность раскола в том, что он причиняет страдания Самому бесстрастному Богочеловеку, разделяя неразделимое Тело Христово.
Еще один схожий образ мы находим в письме патриарха к Марии, супруге императора Михаила IX13: «Древо жизни — Церковь Христова (Δένδρον ζωῆς ἡ ἐκκλησία Χριστοῦ); как ветвь, отсеченная от здорового дерева, понемногу увядает, засыхает и делается пищей огня (ср. Ин 15:6), так и здесь. И вот подтверждение: многие после Домостроительства воплощения Христа и Бога моего отсекли себя от живоносного древа, то есть от Церкви, или ересью, или расколом. И древо жизни, Церковь, напаиваемая и просвещаемая Христом и Спасителем моим, цветет; а отступившие от нее погибли, как добровольно удалившие себя от Бога» [Ta. 34:31–38]. Древо жизни, насажденное посреди рая (ср. Быт 2:9), — символ бессмертия, как и христианская Церковь, подающая бессмертие. Здесь подчеркнут тот аспект, что раскольники, хотя они и рассекают Тело Христа, сами мертвы, отпали от Церкви, не принадлежат ей, преданы духовной смерти, царящей вне Церкви.
Таким образом, экклезиологический аспект раскола — это добровольное удаление раскольника от Бога, которое проявляется мистическим образом как отсечение от Тела Христова — Церкви, и духовная смерть.
Сотериологическое значение раскола
Другой мистический образ раскола — евангельские плевелы, посеянные среди пшеницы (Мф 13:25–30). Патриарх призывает верных не дивиться тому, что Владыка всяческих оставил плевелы расти вместе с пшеницей и позволил действовать сеятелю плевел дьяволу, к испытанию и славе верных14. Отсюда становится понятным духовный смысл существования раскола с сотериологической точки зрения: раскол есть попущенное Богом испытание доброкачественности духовного подвига.
Однако отпадение в раскол не есть нечто окончательное. Да, плевелы несомненно будут ввержены в печь огненную, уготованную дьяволу и аггелам его (ср. Мф 25:41) [Pa. 2:178–180]; однако плевелы могут превратиться в пшеницу, и это — дело всей Церкви; патриарх пишет верным: «Нам позволено до конца непрестанно молить Владыку, пока мы среди живых, чтобы увидеть, как плевелы претворятся в славную пшеницу», дабы подвизаться со всеми верными наследовать Небесное Царство [Pa. 2:203–207]. Верные христиане — активные участники врачевания церковного Тела: молитвой, слезами15, твердым исповеданием православной веры согласно с установлениями Святой Кафолической и Апостольской Церкви Божией и неприятием всякого чуждого образа мыслей (φρόνημα)16, благоговейным и почтительным отношением к канонам Церкви [Pa. 2:203–207] они помогают раскольникам обратиться.
Духовные причины раскола
В творениях патр. Афанасия вскрываются глубокие духовные причины раскола.
Так, в вышеупомянутом письме Марии он предостерегает ее от благотворения раскольникам, которые «принимают это для утверждения в своем душевредном противостоянии, а не для исправления; ибо они отделяются (ἀποδιΐστανται) не по неведению (за которое [могли бы быть] помилованы), но по страсти. <…> Раскольник желает, чтобы миром обладали ссоры (μάχας) и смятения (ταραχὰς), потому что он раз и навсегда отринул Бога мира от сердца своим злым любопрением» [Ta. 34:18–23, 28–30].
В другом письме императору Афанасий I пишет: «Обличай злобу раскольников не на словах только; ибо они не уразумели, что благость Божия к покаянию ведет их . По такому великому своему упорству и нераскаянности сердечной да вкусят они негодования справедливого царского суда (ср. Рим 2:4–5)» [Ta. 6:7–8]. Страсть, любопре-ние, упорство, нераскаянность — вот, согласно патр. Афанасию, глубинные причины раскола. Среди страстей и пороков, обладающих арсенитами, патриарх особенно подчеркивает также тщеславие, властолюбие и корыстолюбие. Так, любоначалие и овол (деньги) заставляют раскольников ненавидеть мир17. Арсениты характеризуются им как «беспокойные (ἄστατοι) и буйнотщеславные (δοξομανεῖς)»; они отделяются и друг от друга «не ради того, чтобы быть на стороне православных, но ради выгоды (ἕνεκεν κέρδους) и того, чтобы завлекать (συλαγωγῆσαι) некоторых из тех, кто хуже относится к истине (τῶν περὶ τὴν ἀλήθειαν διακειμένων σαθρότερον)» [Pa. 17:141–143]18.
К этим же порокам, в сущности, сводили раскол и другие полемисты, например митр. Иоанн Хила19. Но больше всего в этом отношении взгляды патриарха схожи со взглядами митр. Феолипта, который говорит: «Принимающие их заблуждение обнажают себя от истины и, как из листьев смоковницы, сшивают одежды неразумных оправданий, пустословий и клеветы против поборников благочестия, пытаясь тщетными посулами, пустыми надеждами и лжепророчествами покрыть наготу своих страстей и невежества»20. О. Александр Пржегорлинский, подытоживая позицию св. Феолипта, пишет: «Итак, Феолипт оставляет в стороне всю политическую, социальную, догматическую, каноническую подоплеку арсенитского раскола и рассматривает проблему в плоскости этической. Он настаивает на том, что в данном конкретном случае религиозная мотивация есть ширма для реализации весьма естественных (по Феолипту — греховных) устремлений»21. Полное единомыслие с патр. Афанасием очевидно, причем общность здесь не только во взглядах, но и в самом подходе с позиций аскетической психологии22.
Таким образом, причиной раскола оказывается внутреннее отступление от Бога самого раскольника, т. е. реализация свободного выбора человеком, который выбирает противление Богу: арсениты «воле Божией противятся» (ср. Деян 7:51)23, хотя внешние формы этого противления вполне могут носить черты борьбы за истину.
заключение
В своем богословии раскола патр. Афанасий предстает как вполне самостоятельный богослов. Наиболее оригинальной частью его богословия является христологическое и экклезиологическое осмысление раскола. Патриарх прибегает и к распространенным в его эпоху образам, но, несомненно, воспроизводит их не как риторические фигуры, а с полным видением их мистической глубины. Как опытный аскет, он не останавливается на внешних причинах раскола, но вскрывает его духовную глубину, обнажая гнездящиеся в сердцах раскольников страсти и, в конечном счете, богоборчество.
Хотя писания свт. Афанасия были составлены им по поводу конкретных расколов, они остаются актуальными на все времена, так как они минимально привязаны к исторической конкретике, а духовные причины раскола остаются прежними. Сегодня, когда Вселенская Православная Церковь переживает множество расколов и разделений, писания свт. Афанасия являют нам верные богословские ориентиры в богословии и жизни.
Список литературы Богословское осмысление раскола патриархом Афанасием I Константинопольским (1289-1293; 1303-1309)
- Вишняк М. В. Образ арсенитов в эпистолярном наследии патриарха Афанасия I Константинопольского // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 5.С. 16-26.
- Пржегорлинский А. А. Арсенитская схизма в изображении св. Феолипта Филадельфийского и личность Феолипта в свете его противостояния арсенитам // Мир Православия: Сборник статей. 2002. Вып. 4. С. 51-76.
- Пржегорлинский А., свящ. Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV вв. Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского. СПб.,2011.
- Documents inédits d'ecclésiologie byzantine / Ed. J. Darrouzès. Paris,1966. (Archives de l'Orient Chrétien. 10).
- Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ΚύρουΓρηγορίου τοῦ Κυπρίου Ἐπιστολαί / Ἔκδ. Σωφρόνιος [Εὐστρατιάδης] // Ἐκκλησιαστικὸς Φᾶρος.1909. Tόμ. 4. Τεύχ. 20. Σ. 97-128.
- Θεολήπτου Φιλαδελφίας τοῦ Ὁμολογητοῦ (1250-1322). Βίος καὶἜργα. Β' μέρος: Κριτικὸ κείμενο - σχόλια / Ἔκδ. I. Κ. Γρηγοροπούλου. Κατερίνη, 1996.
- Patedakis M. Athanasios I, Patriarch of Constantinople(1289-1293;1303-1309): A Critical Edition with Introduction and Commentary of Selected Unpublished Works(PhD dissertation). University of Oxford, 2004.
- Talbot A.-M. Te Patriarch Athanasius(1289-1293;1303-1309)and the Church // Dumbarton Oaks Papers. 1973. T. 27. P. 11-28.
- The Correspondence of Athanasius I, Patriarch of Constantinople: Letersto the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family, and Officials / Ed., transl., comm.A.-M. M. Talbot. Washington, 1975 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 7 [Dumbarton OaksTexts 3])