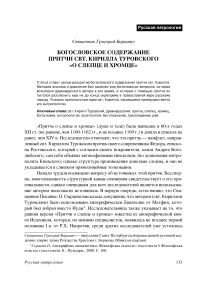Богословское содержание притчи свт. Кирилла Туровского «О слепце и хромце»
Автор: Барашко Григорий
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская патрология
Статья в выпуске: 3 (38), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья ставит целью раскрытие богословского содержания притчи свт. Кирилла. Методом анализа и сравнения был выявлен ряд богословских вопросов, которые волновали древнерусского автора в его время, и которые с помощью притчи он пытался разъяснить еще не до конца окрепшему в православной вере русскому народу. Указаны оригинальные идеи свт. Кирилла, касающиеся преимущественно его антропологии.
Свт. кирилл туровский, древнерусский, притча, слепец, хромец, богословие, антропология, эсхатология, богопознание, грехопадение, рай
Короткий адрес: https://sciup.org/140189917
IDR: 140189917
Текст научной статьи Богословское содержание притчи свт. Кирилла Туровского «О слепце и хромце»
«Притча о слепце и хромце» (душе и теле) была написана в 60-х годах XII ст. (не раньше, чем 1160-1162 гг., и не позднее 1169 г.) и дошла в списках не ранее, чем XIV в. Исследователи отмечают, что эта притча — памфлет, направленный свт. Кириллом Туровским против своего современника Федора, епископа Ростовского, который с согласия своего покровителя, князя Андрея Бого-любского, сам себя объявил автокефальным епископом, без дозволения митрополита Киевского; однако структура произведения довольно сложна, и оно не укладывается в слишком прямолинейные толкования.
Немало трудов посвящено вопросу об источниках этой притчи. Бесспорно, многоплановость структурной канвы сочинения свидетельствует о его оригинальности, однако очевидным для всех исследователей является использование автором нескольких источников. В первую очередь, естественно, это Священное Писание. О. Сырцова высказала допущение, что автором (свт. Кириллом Туровским) было использовано апокрифическое Евангелие от Матфия, который был избран вместо Иуды 1 . Исследовательница также указывает на то, что ранняя версия «Притчи о слепце и хромце» известна из апокрифической книги Иезекииля, которая, по мнению специалистов, появилась не позднее первой половины I в. от Р.Х. Напротив, среди других исследователей уже устоялось
Священник Григорий Барашко — выпускник Санкт-Петербургской православной духовной академии, клирик храма Рождества Христова г. Борисова (Минская епархия).
мнение, что сюжет «О слепце и хромце» как олицетворении души и тела происходит от талмудической «Беседы императора Антония с Равви», которая нашла отражение в «Тысяче и одной ночи», а также в Gesta Romanorum. Так, еще И.Я. Франко отмечал восточные корни притчи свт. Кирилла Туровского 2 .
Подводя итог, следует отметить, что все источники, присутствие которых нельзя отрицать, использовались свт. Кириллом соответственно его самобытному замыслу, приобретая при этом новые значения, а то и отличающиеся истолкования.
В притче можно условно выделить три сюжетные линии: аллегорическую, символическую и полемическую.
Первый сюжет является собственно притчей, аллегорическим повествованием о том, как господин насадил виноградник и поставил слепца и хромца стеречь его, запретив входить внутрь. Спустя некоторое время слепец ощутил чудесный аромат из сада и начал роптать на то, что им запрещено вкушать плоды. Тогда хромец предложил устроить ограбление. Для этого хромец сел на слепца, став его глазами, и таким образом они привели свой замысел в исполнение.
По притче, хромец — это человеческое тело, слепец — душа, господин — Бог, а виноградник — рай. Слепец и хромец не просто согрешили, они вероломно нарушили соглашение с хозяином сада, основанное на доверии. Это сразу порождает ассоциации с ситуацией первородного греха. Адам и Ева как муж и жена составляют единство — человека — и потому вместе будут отвечать за свой поступок так же, как душа и тело. Вот почему в притчу введен второй, символический, сюжет про первых людей.
Как указывается в притче, первородный грех был проявлением человеческой гордости, то есть спором, пререканием с Божией волей: «Се надмение Адамова высокомыслья, яко всѣми обладая земными, животными, морем же и в немь сущею тварью, в едемѣ благих насыщаяся, преже освящения на святая дерзнув, из едема бо вниде в рай»3. В трактовке свт. Кирилла, рай — это свя- тая святых, куда нельзя внити недостойным: «Рай бо мѣсто есть свято, яко же церкви олтарь. Церквы бо всѣм входна»4.
Раскрывая аналогию Эдема и Церкви, свт. Кирилл преподает еще одно толкование притчи «О слепце и хромце»: «Тако бѣ посажен хромець с слѣпцемь у врат стрещи внутрених, яко же приставлени суть патриарси, архиепископи, архимандрити межю церковью и олтаремь стрещи святых таин от враг Христов, сирѣчь от еретик и зловѣрных искусник, нечестивых грѣхолюбець, иновѣрных скверник» 5 .
Третий сюжет имеет выразительное полемическое звучание. Праведный гнев епископа Туровского направлен против тех, кто сознательно занимает не подобающие им места, повторяя этим грех прародителей: «Изгна Бог Адама из рая и осуди его дѣлати землю, от нея же взят быст. Вижь, яко не тамо повелѣно ему бѣ жити, отнелѣже его изгна. Тако бо вниде, яко же се церковник недостоин ерѣйства и утаив грѣх свой, не брег же о божии законѣ, но имене дѣля высока и славна житья на епископскый вниде сан» 6 .
Обличительная тенденция произведений святителя стала чуть ли не общим положением, хрестоматийным штампом, однако содержание притчи выразительно и убедительно демонстрирует глубину авторского замысла и невозможность сведения его только до критического пафоса. В частности, мы не можем согласиться с мыслью О.С. Клевчени, что религиозная оболочка для свт. Кирилла Туровского — своего рода декорация, умело им использованная с целью критики духовенства 7 .
Как было сказано, структура притчи довольно сложна. Она объединяет три сюжетные линии, которые органично переплетаются и объединяются взаимными ссылками, аналогиями и аллюзиями для решения прежде всего богословско-философской проблемы человеческой греховности.
Свт. Кирилл восстает против всех, кто считает, будто человек от рождения бывает гневлив или блудлив, и этим оправдывает греховную жизнь. По его убеждению, поведением человека не управляет даже Сам Бог, ведь если он живет по законам веры, то тем самым исполняет волю Христа, а не «нужду», истолкованную как божественную предопределенность8. На самом деле, продолжая мысль святителя, что душа человека первой склоняется ко греху, как это отражает Притча, а затем побуждает к нему и тело, можем увидеть в контексте также вопрос о свободной воле человека, которая сама выбирает либо грех, либо исполнение Божией воли.
Один из главных богословских вопросов притчи — о соотношении души и тела в человеке, а точнее, о их отношении ко греху. Свт. Кирилл Туровский в этом творении отдал должное плоти как престолу Божию, дому Бога: «Но смотри в писания, разумѣй: вездѣ сы домы Божиа, не токмо в твари, но и в человѣцѣх. Вселю бо ся, рече, в ня. Яко же и быст: сниде бо и вселися в плоть человѣчю и взнесе ю от земля на небеса, — да престол есть Божий человѣча плот; на выш-немь же небеси престол Его стоить» 9 . Это, так сказать, его исходное положение. Причем, такая позиция, которую твердо отстаивала Церковь, была направлена, в частности, против манихейского понимания тела как греховного, поскольку оно, по представлению манихеев, было создано злым началом, а душа — добрым. Так, например, прп. Иоанн Дамаскин в слове «Против манихеев» показывает непоследовательность и ошибочность понимания тела как греховного 10 .
Хотя душа и тело, как видно в притче, одинаково подвластны греху, однако их роль в совершении греха не одинакова и общая ответственность их также несколько различна. Поскольку душа иерархически выше тела, ей принадлежит руководящая роль, она владеет телом и направляет его, в том числе и ко греху. В притче свт. Кирилла Туровского о слепце и хромце именно слепец — душа подговаривает хромца — тело на грех. Во грехе же они объединяются, потому суд и возмездие получат вместе.
Творение Богом человека из земли и духа свидетельствует о разности природ души и тела, но не обязательно указывает на первичность тела во времени. Свт. Кирилл отходит в этом от традиционного понимания данного вопроса. Он склоняется к буквальному толкованию момента сотворения человека: «Преже бо созда тѣло Адамле, ти потом вдуну душю. Тако во утробѣ женьстѣй: перво от сѣмени зижеть тѣло, по пяти мѣсяць творить душю» 11 . Взгляды Кирилла
Туровского на предсуществование тела, очевидно, наиболее близки к взглядам блаж. Феодорита Кирского 12 .
В общем человек, по убеждению свт. Кирилла, — это венец Божиего творения, которому Бог поручил властвовать над всей природой. Поясняя слова господина сада из притчи «О слепце и хромце», святитель пишет: «Кого, рече, оставлю стрещи труда моего? Сия совпрашания — Отца и Сына и Святаго Духа не о твари, но о владущим тварью, сирѣчь о владыцѣ, ему же въсхотѣ предати землю и всяко дыхание поработити; не ангелом бо покори вселеную» 13 . Такие и подобные рассуждения высказывали большинство святых отцов, в частности, каппадокийцы. Автор «Шестоднева» Иоанн, экзарх Болгарский, творение которого было широко известно на Руси, также ведет речь о человеке как владыки всего, а разум — это та сила души, благодаря которой он занимает господствующее положение между всеми творениями. Будучи господином всего живого, человек, однако, не удовлетворился своей ролью, но по гордости ослушался Бога и согрешил 14 .
Приблизительно в этом же русле движется мысль и свт. Кирилла Туровского в толковании акта грехопадения, но у него этот момент тесно переплетен с полемическим замыслом произведения, и внимание заострено на том, что Адам вошел в рай неосвященным, недостойным: «Се надмение Адамова высокомыс-лья, яко всѣми обладая земными, животными, морем же и в немь сущею тварью, в едемѣ благих насыщаяся, преже освящения на святая дерзнув, из едема бо вни-де в рай. Изгна Бог Адама из рая и осуди его дѣлати землю, от нея же взят быст. Вижь, яко не тамо повелѣно ему бѣ жити, отнелѣже его изгна. Тако бо вниде, яко же се церковник недостоин ерѣйства и утаив грѣх свой, не брег же о Божии законѣ, но имене дѣля высока и славна житья на епископскый вниде сан» 15 .
В данном случае, свт. Кирилл опять же демонстрирует буквальное толкование текста, а именно, что грехопадение есть нарушение Божиего запрета с последующим наказанием тяжелым трудом на земле.
Во всяком случае, грехопадение было проявлением гордости человека, а это, со своей стороны, проявление свободной воли человека, в которой, собственно, и кроется склонность ко греху.
Однако, даже став зависимым в значительной мере от своих страстей после грехопадения прародителей, человек не утратил своей свбодной воли, поэтому каждый раз, когда он покоряется страстям, это обнаруживает леность и затуманенность его души. Святитель также отмечает этот момент в Притче, когда описывает, как, по прошествии долгого времени, слепец и хромец надумали совершить ограбление. Он поясняет: «Сѣдящема же има, рече, долго время. Что есть долго время? — Бестрашие Божия заповѣди и о телеси печение, нерожение же о своей души» 16 . Поэтому человек сам должен желать приблизиться к Богу, постоянно усилием воли поддерживать это стремление и все больше познавать Его как свою цель. Он (человек) должен сам избрать спасение своей целью и действовать как свободное и разумное существо.
Как мы предварительно выяснили, акт грехопадения у свт. Кирилла Туровского объясняется как преступление Божия запрета в прямом и переносном смысле, а именно как вхождение Адама из Эдема, в котором он был создан, в Рай — особенно святое место, куда запрещено входить неосвященным: «Створи Бог тѣло внѣ рая и внесе е в едем, а не в рай. Едем же речется — пища. Яко се кто бы на пир зовый преже уготоваеть обильну пищю, ти потом приведеть званаго, — тако и Бог преже уготоваеть ему жилище едем, а не рай». И далее: «Рай бо мѣсто есть свято, яко же церкви олтарь» 17 .
Свт. Кирилл Туровский в Притче «О слепце и хромце» дает пространное пояснение аллегорического образа древа жизни, которое, по его мнению, дано человеку для покаяния и смирения: «Повелѣ Бог изринути из рая Адама, понеже неповелѣнаго ему коснуся, сирѣчь прежде велѣния вниде в мѣсто святое. И усе-ли его противу райстѣй пищи, — еда како, рече, простре руку и возметь от древа породнаго и жив будеть в вѣки, сирѣчь некли помянеться и смиривься покается, о них же согрѣши…Что есть древо животное? — Смиреномудрие, ему же корень исповѣданье…Того корене стебло — благовѣрье…Того стебла многи и различны вѣтви — мнози бо, рече, образи покаяния: слезы, пост, молитва чиста, милостыни, смирение, вздыхания и прокая. Тѣх вѣтвий добродѣтелий плод: любы, послушанье, покорение, нищелюбье — мнози бо суть путье спасения. Вижь, яко не в раи бѣ животное древо, ни в едемѣ, но во оземьствии, рекше отлучении сана»18. Итак, как следует из приведенного отрывка, святитель трактовал древо жизни как покаяние, через которое в благочестном житии человек после грехопадения все же мог снова приблизиться к Богу. То есть древо жизни дано человеку для того, чтобы возвратиться к вечной жизни. Оно свидетьльствует о безграничной любви Бога к Своему творению, ибо Бог не просто изганяет прародителей из Эдема, а сразу дает им способ возвращения в него. Поэтому древом жизни можно назвать и Крест Господень. На эту аналогию указывал, в частности, прот. Сергий Булгаков: «…Во тьме грехопадения воссияло спасительное древо Креста — новое древо жизни»19.
Усматривая такое огромнейшее значение Церкви для спасения человека, свт. Кирилл Туровский не зря направляет свой гневный пафос против церковников, «недостойныхъ ерѣйства», и композиционно приравнивает их грех к первородному.
Другим важным вопросом для свт. Кирилла Туровского является вопрос о Богопознании. Человек стремится к познанию, но направляет его не ко своей настоящей, единственной цели. Он призван познавать Бога. В то же время проблема возникает в том, что постичь Его сущность человеческий разум не в силе, познавать Бога человек может лишь косвенно, через рассматривание Его проявлений в мире, через действие Божественных энергий. Так, в притче «О слепце и хромце» свт. Кирилл Туровский, поясняя аллегорический образ сада, насажденного господином, устроившим ограду и оставившим вход открытым, пишет: «Незатвореная же врата — дивныя Божия твари устроение и над тѣми Божия сущьства познанье. От твари бо, рече, Творца познай и разумѣй: не качьство, но величьство и силу, славу же и благодать, юже творить Собою угажая всѣм вышним и нижним, видимым и невидимым» 20 . То есть, вслед за отцами восточного богословия, святитель высказывает мысль в катафатическом русле о познании силы и величия Творца через творение.
Вопрос Троичности Бога, которому отцы-каппадокийцы посвятили немало произведений, не был предметом пристального внимания свт. Кирилла Туровского. Вообще, он только походя касается тематики известных богословских дискуссий, точнее, такие дискуссии имеют отголоски в произведениях епископа. В частности, в притче «О слепце и хромце» он одним предложением признает Святую Троицу, говоря: «Кого, рече, оставлю стрещи труда мого? Сия совпрашания — Отца и Сына и Святаго Духа…» 21 .
Довольно непростым является вопрос христологии. Дело в том, что из разных произведений вырисовывается непоследовательная позиция святителя. Например, в притче «О слепце и хромце» есть странный с канонического взгляда момент о человеке как образе и подобии Божием: «Аще бо и нарицаеться Христос человѣком, то не образом, но притчею: ни единого бо подобья имѣеть человѣк Божия. Не сумнить бо ся писание и ангелы человѣкы нарицати, — но словом, а не подобиемь. Аще бо блазнятся етери, слышаще Моисѣя глаголю-ща: Рече Бог: Створим человѣка по образу Нашему и подобью, — и прилагають к бесплотному тѣло, не имуще стройна разума, и есть си ересь и донынѣ че-ловѣкообразно глаголющим Бога, иже никакоже описается, ни мѣры качьству имать» 22 .
Если понимать это буквально и вне контекста, то вышло бы, что свт. Кирилл Туровский отрицал человеческую природу Христа и, отсюда, был бы склонен к монофизитским взглядам. Но с таким утверждением никак нельзя согласиться, если обратиться к другим проповедям, например, Пасхальному циклу. Приведенный выше отрывок можно толковать как отрицание буквального понимания Священного Писания, подчеркнуто негативное отношение к антропо-морфизации Бога, которое частично объясняется несовершенством языка как способа выражения знаний о Боге. Очень важным является догмат о том, что в Лице Христа вся Божественная природа соединяется со всей человеческой. Собственно, эта тема - Христа как нового Адама - одна из любимых у свт. Кирилла.
Все эти догматические вопросы Троицы и христологии - не только предмет специальных дискуссий и интеллектуальных упражнений, они имеют непосредственное отношение к пониманию человека, его природы и роли. Обобщенно говоря, связующим звеном между богословием, в строгом смысле этого слова, и антропологией является догмат о том, что человек есть образ и подобие Божие. В этом вопросе свт. Кирилл Туровский разделяет взгляды свт. Иоанна Златоуста и свт. Григория Нисского о том, что образ и подобие Божие в человеке проявляется в его способности и призвании управлять всеми другими созданиями. Мы уже приводили отрывок из Притчи, где автор категорически отрицает понимания образа и подобия Божия как наделение Бога человеческим телом. Сразу после этого свт. Кирилл возвращается к вопросу: «Кого оставлю стрещи труда моего?”— и отмечает, что он относится к человеку как властелину земли и всей твари.
Для понимания человека христианской эпохи особенный вес приобретают вопросы эсхатологии. Такая проблематика необыкновенно показательна для всей литературы эпохи Киевской Руси. Европейское Средневековье как христианская эпоха осознавало себя через призму истории, которая имеет начало и неизменно движется к своему завершению. Отсюда эсхатологические вопросы в произведениях авторов Киевской Руси тесно переплетаются с историософской проблематикой, представленной в литературе Киевской Руси, как летописями, так и произведениями некоторых авторов.
В этом контексте свт. Кирилл Туровский выделяется своим обращением не к историософским, а именно к догматическо-богословским вопросам эсхатологии, а в частности — к вопросам воскресения и Страшного Суда.
Обратимся непосредственно к тексту Притчи, которая также посвящена вопросу воскресения человеческих тел. Во-первых, по свт. Кириллу, сразу после смерти человек не будет претерпевать мучений, а только после Второго пришествия Иисуса Христа и Страшного Суда. Так, в притче господин, после того, как опросил слепца-душу о совершенном преступлении, наказал «блюсти слѣпца во укромнѣ мѣстѣ, идеже сам вѣсть, дондѣже придеть сам к винограду и призо-веть хромца, и тогда судить обѣма. Того ради до второго пришествия Христова нѣсть суда ни мучения всякой души человѣчи, вѣрнаго же и невѣрнаго» 23 . Далее автор описывает воскресение из мертвых после Второго пришествия Христа как всеобщее для живых и мертвых: «…Яко Сам Господь в гласѣ архангеловѣ, в трубѣ Божии сниде с небеси, и мертви о Христе въскреснуть преже, потом же и мы живии. Кто суть мертвии? Вси языци, не бывъше под Божиим закономъ, ни приимше крещенья: Елико бо, рече, безаконьно съгрѣшиша, безаконьно погибнуть. Живыя же крестьяны нарицаеть. Виж всѣх человѣк телесем въскреснути и вѣруим Павлову послушеству, словесем Господним глаголющем: иже ли не створить искони Богом создана человѣка, то не разумѣеть и крещением в живот порожена, тѣм же и не чаеть послѣдняго с телесы въскресения въстающим всѣм человѣком в бесконечны живот — овѣм в честь и славу, овѣм в студ и в муку» 24 .
Опираясь на мысль о важности крещения для будущего воскресения, можно вести речь не только об индивидуальной эсхатологии, то есть конечного суда для отдельного человека, но и об эсхатологии Церкви, являющейся христоцен-тричной, так как она берет начало от прихода на землю Христа, и Его иску- пительной Жертвы, которой человек соединяется с Богом прежде всего через крещение.
Воскресение касается плоти, ибо душа не умирает, следовательно, и не воскресает. Свт. Кирилл также указывает, что во гробе находится только тело: «Да егда видиши тѣло погребено в земли, не мни ту суща и душа: не от земля бо есть душа, ни в землю входить» 25 .
Как во время жизни душа и тело вместе грешили, так после Суда они вместе и получат наказание: «Тогда господин сѣд на судьнѣмь столѣ и начат има судити. И рече: Яко же еста крала, тако да сядьть хромець на слѣпца. Въсѣдшю же хромцю, повелѣ пред всѣми своими рабы немилостивно казнити в кромѣшней мученья темницѣ» 26 - пишет свт. Кирилл. К тому же, эти муки будут иметь телесный характер, и примут их именно те органы, которыми совершались грехи. После воскресения, поясняет в самом конце святитель, «…души наши в телеса внидуть и приимуть вьздание кождо по своим дѣлом — праведници в вѣчную жизнь, а грѣшници в бесконечную смертную муку. Ими же согрѣшить кто, тѣмь и мучен будеть» 27 . Очевидно, что после Страшного Суда, понимаемого святителем прежде всего как наказание, грешники будут претерпевать вечные муки телесного характера. Также указывается, соответственно Притче, что тела во время воскресения обновит Бог, а души войдут в них, как в жилище: «Тако и в послѣдни день: первое обновить землю и сбереть персть человѣчю и сьзижеть всѣх нас телеса в мегновеньи ока, потом душа наша в свою когождо внидуть храмину…» 28 .
Итак, как видно из нашего анализа, в Притче прежде всего поднимаютя богословские вопросы, касающиеся человека, причем, осмысливаются они свт. Кириллом Туровским через ряд других вопросов богословия: соотношение души и тела в человеке, человек как образ и подобие Божие, понимание значения Богопознания в жизни человека и конечной цели его жизни на земле, а также после смерти.
Список литературы Богословское содержание притчи свт. Кирилла Туровского «О слепце и хромце»
- Булгаков С., прот. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Изда-тельство АСТ; Харьков: Фолио. 2001.
- Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. Ч. I. Кирила мниха притча о человѣчстѣй души и о телеси, и о преступлении Божия заповѣди, и о воскресении телесе человѣча, и о будущемь судѣ, и о муцѣ//Труды Отдела древнерусской литературы. Т. ХII. Л., 1956. C. 340-347.
- Иоанн, экзарх Болгарский. Шестоднев. М., 1998.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М.: Палом-ник, 1996.
- Клевченя А.С. Социально-политические идеи в творчестве Кирилла Ту-ровского//Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. (Историко-философские очерки): Сб. научн. трудов. К.: Наук. думка, 1988.
- Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. СПб.: Изд-во РХГИ. 1999.
- Иоанн Дамаскин, прп. Против манихеев//Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Братство святителя Алексея; Ростов-Н-Д.: Приазовский край, 1992.
- Сырцова О. Апокрифiчна апокалiптика: Фiлософська екзеґеза i текстоло-гiя//Фiлософська екзеґеза i текстологiя. К.: Пульсари, 2000.
- Франко И.Я. Притча про слiпця i хромця (Причинок до iсторiї лiтератур-них взаємин Старої Русi)//Франко I.Я. Зiбрання творiв: У 50 тт. Т. 35. К.: Днiпро, 1976.