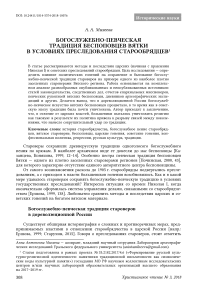Богослужебно-певческая традиция беспоповцев Вятки в условиях преследования старообрядцев
Автор: Михеева Анна Антоновна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (80), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются методы и последствия царских (начиная с правления Николая I) и советских преследований старообрядцев. Цель исследования - определить влияние политических гонений на сохранение и бытование богослужебно-певческой традиции староверов на примере одного из наиболее плотно заселенных староверами Вятского региона. Работа основывается на комплексном анализе разнообразных опубликованных и неопубликованных источников: статей законодательства, следственных дел, отчетов епархиальных миссионеров, певческих рукописей вятских беспоповцев, дневников археографических экспедиций и других. Делается вывод, что в дореволюционной России богослужебно-певческое искусство вятских беспоповцев процветало, в то время как в советскую эпоху традиция была почти уничтожена. Автор приходит к заключению, что, в отличие от царских властей, большевики пытались уничтожить религию как таковую: в результате их политика привела к разрыву связей между поколениями, что нанесло сокрушительный удар по традиции
История старообрядчества, богослужебное пение старообрядцев, вятское староверие, беспоповцы, царские гонения, советские гонения, конфессиональная политика, репрессии, русская культура, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140246585
IDR: 140246585 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10076
Текст научной статьи Богослужебно-певческая традиция беспоповцев Вятки в условиях преследования старообрядцев
Староверы сохранили древнерусскую традицию одноголосого богослужебного пения по крюкам. В наиболее архаичном виде ее донесли до нас беспоповцы [Казанцева, Коняхина, 1999, 12–14]. Особенно пестра певческая традиция беспоповцев Вятки — одного из плотно заселенных староверами регионов [Починская, 2000, 43], для которого характерно отсутствие единого авторитетного центра беспоповщины.
От самого возникновения раскола до 1905 г. старообрядцы подвергались преследованиям, а с приходом к власти большевиков гонения возобновились. Как и в какой мере удавалось староверам сохранять богослужебно-певческую традицию в условиях государственных преследований? Интересна ситуация со времен Николая I, когда окончательно оформилась система управления делами, связанными со старообрядчеством [Ершова, 1999, 138]. Любопытно сравнить методы и последствия царских и советских гонений на богатом вятском материале.
богослужебно-певческая традиция староверов в дореволюционной россии
Существует обширная историография о сложных и противоречивых мерах, предпринимаемых властями в отношении старообрядчества в царской России [напр.: Ершова, 1999; Старухин, 2015]. Говоря о преследованиях староверов, стоит отметить
следующие их проявления. Господствующая Церковь охранялась законами, в которых отпадение от нее расценивалось как государственное преступление (Уложение, 1845, Гл. 2). Судебное разбирательство над староверами учинялось по таким поводам, как сожительство без церковного брака, непредоставление младенца ко крещению в официальной Церкви, погребение по раскольничьему обряду, поношение синодальной Церкви и т. п. Устраивались разбирательства, если становилось известно о «сборище раскольников» на моление. Подобные дела, как правило, заканчивались изъятием икон и книг (в том числе певческих) в духовную консисторию.
Власти препятствовали действию моленных, которых числилось крайне мало. Так, ведомость по Вятской губернии о моленных, поданная губернатором императору в 1854 г., насчитывает всего 8 часовен, 5 из которых запечатаны властями (ГАКО. Ф. 582. Оп. 86а. Д. 13. Л. 48 об. — 49).
Отслеживалось передвижение старообрядцев. Грамотные староверы приглашались разными общинами как учителя. Но необходимые для сохранения и развития певческой традиции приезды могли обернуться судебным разбирательством. Примером может служить дело о «распространении будто бы раскола крестьянскими девками Нижегородской губернии», которые были арестованы в 1852 г. в починке Маркеловском Жайгильской волости Малмыжского уезда. Женщинам удалось доказать свою невиновность, но имевшиеся при них «раскольничьи книги» и иконы были отняты, а сами они 4 месяца провели под арестом, истратив все имевшиеся при них сбережения (ГАКО. Ф. 582. Оп. 85. Д. 70. Л. 8–26 об.).
Для просвещения синодальной паствы, борьбы с расколом и отслеживания деятельности староверов существовали противораскольничья епархиальная миссия и (с 1882 г.) Вятское братство святителя и чудотворца Николая. В обязанности членов этих организаций входило подавать рапорты о «состоянии раскола» на вверенной территории: о количестве староверов, какие согласия и толки представлены, сколько детей у местных старообрядцев родилось, сколько раскольников умерло, сколько женилось, о состоянии моленных (напр.: ГАКО. Ф. 582. Оп. 86 а. Д. 13. 49 л.). Учителями миссионерских школ и священниками устраивались с представителями старообрядчества публичные диспуты, в ходе которых проповедники пытались показать несостоятельность оппонентов в вопросах веры. Так, нолинский уездный миссионер о. Николай (Ергин) в отчете за 1898 г. утверждает, что в «главном центре беспоповщинского раскола в уезде» д. Зубаринской миссионер Маракулин поставил начетчика Хрисанфа Цепелева на место: «Не будучи в силах защитить себя и опровергнуть Маракулина, Цепелев начал уклоняться от бесед с ним и даже избегал встречи с ним при людях, боясь его изобличений» (ГАКО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 197. Л. 4–5).
И все же богослужебно-певческая традиция беспоповцев Вятки в это время процветала. Большинство собранных археографами певческих книг относится именно ко второй четверти XIX — началу XX вв. Вятские певческие рукописи продавались в другие регионы (так, в Курганском собрании ЛАИ УрФУ хранятся написанные Фадеем Булдаковым на Вятке певческая Азбука V.210р/425 (1810) и Сборник крюковой V.29р/649 (1813)). Исходя из состава книг, для певческой традиции беспоповцев Вятки характерна многораспевность, в том числе на уровне музыкальных микроформул. Помимо общеупотребительных распевов и северных переводов (соловецкого, тихвинского и т. п.), встречается собственно вятский распев, интересный пример которого — песнопение «Вечная память» в Чине погребения Вятск.242 из Библиотеки Академии наук. Его мелодия уникальна и не основывается на каком-либо из канонических гласов. Однако, как и в гласах, в ней повторяются однообразные строки. Обращает на себя внимание, что отдельные слоги содержат более десятка звуков, причем такие музыкальные обороты идут подряд друг за другом. Подобное построение мелодии относит распев к мелизматическому стилю, наиболее торжественному и сложному. Это свидетельствует о высокой музыкальной грамотности вятских распевщиков.
Такая ситуация довольно удивительна в условиях отсутствия авторитетного центра беспоповщины на Вятке. С другой стороны, будь такой центр, власти обрушились бы на него, нанеся удар по традиции, как это случилось, например, с керженскими скитами. К началу XX в. все же в качестве наиболее авторитетной общины в среде федосеевцев выделяется с. Старая Тушка, где создается старообрядческая типография. Ее основатель Лука Арефьевич Гребнев организовал также школу, в которой преподавалось пение, и даже работал над собственной редакцией богослужебных песнопений [Материалы, 2016, 10–11, 15, 192–199].
Советские гонения на староверов и их последствия
С приходом советской власти религия стала считаться вредной для построения нового общества. Большевики старались безжалостно избавиться не только от господствующей Церкви, но и от остальных конфессий. Тем не менее, поначалу некоторые староверы пытались сотрудничать с новой властью. Исследователь В. К. Семибратов приводит цитату из донесения, посланного в 1919 г. из действовавшей в районе с. Камбарка (Удмуртия) красноармейской части: «Дер[евня] Балаки… Население — старообрядцы. [Для] белой мобилизации не дали ни одного человека. Насильно увезенные два-три [на] второй день вернулись обратно. [Для] революционного движения ба-лакинцы дали добровольно молодежь [в] красные ряды. Народ богомольный, просит преподавать [в] школах закон божий и о социализме»2.
Все же такие попытки не спасли староверов от преследований. Гребнева раскулачили как владельца типографии, хотя он не сопротивлялся властям и подарил организуемому в с. Новая Тушка музею сохранившиеся у него артефакты: шрифты, клише заставок, инструменты, книги, документы [Починская, 2000, 58]. В 1928 г. его семью лишили избирательных прав за использование наемного труда и «вредный» религиозный характер издаваемой ранее в типографии литературы. Клеймо лишенца многое значило тогда, т. к. при устройстве на работу или службу руководство посылало запросы на места, чтобы уточнить, не состоял ли соискатель или его родственники в белом движении, не был ли кулаком, лишенцем и т. п. Дело Гребневых тянулось до 1934 г., несмотря на смерть самого Луки Арефьевича в 1932 г. в лагерях. Его сын так и не смог восстановиться в правах, хотя был ударником и официально разорвал связи с отцом, объявив об этом в газете «Новая деревня» № 29 за 1 мая 1930 г. В статье «Порывают связи» перечислен список граждан, разорвавших отношения с родственниками-лишенцами. В том числе указан мужчина, порвавший связь с отцом — старообрядческим священником (ГАКО. Ф. Р-1304. Оп. 1. Д. 267. Л. 9).
Именно раскол внутри семей, разрыв связей между поколениями стал ударом для культурных традиций вообще и для богослужебного пения беспоповцев в частности. Советские власти репрессировали самых грамотных начетчиков, наставников, в том числе певчих. Так, в 1952 г. были арестованы 8 грамотнейших начетчиков филипповцев-шихалей (один из толков внутри согласия филипповцев на Южной Вятке). Их приговорили к 25 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и полной конфискацией имущества за якобы контрреволюционную агитацию и пропаганду [Богданов, Исэров, 2012, 28].
Великая Отечественная война также забрала часть мужчин. Надо отметить, что и преследования властей обрушивались в основном на мужскую половину ста-роверия. Женщины большевиками воспринимались как жертвы несправедливой социально-экономической системы. Примером может служить отношение большевиков к «бабьим бунтам» против коллективизации в 1929–1930 гг., которые были расценены как «спонтанные всплески массовой истерии, сопровождаемые насилием, беспорядками и какофонией визжащих женщин» [Коровушкина-Пярт, 2003, 291].
Результатом такой политики стало увеличение роли женщины в староверии. Церковное пение в Древней Руси, а затем у старообрядцев было мужским занятием [Денисов, 2010, 11]. Но постепенно, в условиях преследований, на клирос стали допускаться и женщины3. На Вятке запрет на женское пение, тем не менее, сохранился у филипповцев-шихалей. Но остальные общины приняли женское пение. Женщины становились уставщицами, головщицами, обучали пению других.
С приходом большевистской власти отдельному удару подверглись зарождающиеся специальные старообрядческие школы типа гребневской, а также была запрещена деятельность молелен. Староверы вновь вынуждены были перейти на домашнее обучение [Титова, 2016, 73–88]. В то же время дети и молодежь воспитывались в духе атеизма, и не все родители решались противостоять этому, желая им безбедной жизни в новом обществе. Характерен рассказ головщика филипповцев-шихалей из пос. Пиляндыш Уржумского района Кировской области о том, как учительница в классе публично 5 раз снимала с него крестик, повторяя: «Что, опять тебе ошейник надели?» (Дневник. Л. 16). Многие старообрядцы вспоминали, как на богослужения приходили милиционеры проследить, чтобы верующие не приводили детей (Дневник. Л. 20).
Другим фактором разрыва традиции стала миграция населения. Молодежь уезжала на учебу и работу в города, леспромхозы, на социалистические стройки. Исследовательница Л. Р. Фаттахова пишет о переселении части филипповцев в Сибирь: «В Алтайский же край все они попали в конце 20-х — начале 30-х гг. с Вятки (Кировская область, Удмуртия). Неслучайно одним из их самоназваний было „староверы вятской веры“. В послевоенные годы алтайские селения пришли в упадок (некоторые из них ныне не существуют), и часть филипповцев переселилась в соседнюю область, где можно было найти работу на заводах и шахтах. На Кузнецкой земле филипповцы также старались быть поближе друг к другу, в Гурьевске, например, они поселились в одном районе города, который местные жители называют теперь „вятский край“» [Фаттахова, 2002, 19].
Значительный урон причинил в послевоенные десятилетия снос «неперспективных деревень» (причем порой в эту категорию попадали большие и развитые села типа Шихалей, для ликвидации которых, видимо, причиной стала именно концентрация старообрядческого населения [Богданов, Исэров, 2012, 29]). Любой переезд часто означал отрыв от корней, питавших традицию.
Результат советской антирелигиозной политики оказался плачевнее, чем преследования царских властей. Сегодня беспоповцы Вятки утратили крюковую грамотность, большинство из них даже не владеет в полной мере осмогласием, а грамотный певчий в общине на вес золота, т. к. в отсутствие хорошего головщика верующие не могут нормально помолиться — в богослужении происходит нестроение или служба вообще отменяется.
заключение
Несмотря на преследование староверов в царской России, богослужебно-певческая традиция беспоповцев процветала. Царским властям не нужно было уничтожать религию как таковую, но важно было переманить староверов в лоно официальной Церкви или хотя бы оградить остальную паству от воздействия раскольников. Советская власть ударила по самому главному — по семьям, по межпоколенным связям, через которые передается традиция. Это и стало решающим фактором в ее разрушении.
Список литературы Богослужебно-певческая традиция беспоповцев Вятки в условиях преследования старообрядцев
- Государственный архив Кировской области. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. 11 л.; Ф. 270.Оп. 1. Д. 197. 8 л.; Ф. 582. Оп. 85. Д. 70. 27 л.; Ф. 582. Оп. 86а. Д. 13. 49 л.; Ф. Р-1304. Оп. 1. Д. 267.22 л.
- Лаборатория археографических исследований Уральского федерального университета
- ЛАИ УрФУ. V.210р/425: Азбука певческая. 42 л.
- ЛАИ УрФУ. V.29р/649: Сборник крюковой. 87 л.
- БАН. Ф. 74. Вятск.242: Чин погребения. 26 л.
- Деяния Первого Всероссийского собора христиан-поморцев, приемлющих брак. М.: Книга по требованию, 2012. 468 с.
- Дневник А. А. Михеевой. Личный архив А. А. Михеевой. Экспедиции 2015-2016 гг. на Вятку. 76 л.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.Глава 2. URL: htp://theologian.msk.ru/history/194-chto-polagalos-za-otstuplenie-ot-pravoslaviya-v.html (дата обращения: 02.04.2017).
- Богданов В. П., Исэров А. А. Введение//Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки. М.: МАКС Пресс, 2012. С. 8-43.
- Денисов Н. Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура (к проблеме типологии): автореф. дисс. … докт. искусствоведения: 17.00.02. СПб., Российский институт истории искусств, 2010. 45 с.
- Ершова О. П. Старообрядчество и власть. М.: Уникум-Центр, 1999. 204 с.
- Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Музыкальная культура старообрядчества. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1999. 156 с.
- Коровушкина-Пярт И. П. «Бес коммунистов не любит…»: народное паломничество, кликуши и советская власть на Урале (К вопросу о народном благочестии)//Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2003.Вып. 5. С. 281-293.
- Материалы к истории старообрядчества: документы из архива Л. А. Гребнева. М.: Перо, 2016. 236 с.
- Починская И. В. Из истории старообрядчества Вятского края. Федосеевцы (вторая половина XVIII -начало XX вв.)//Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. С. 43-84.
- Семибратов В. К. Духовная культура старообрядчества в конце XIX -первой трети XX в.: на материалах Вятского края: дис. …кандидата культурологии:24.00.01. Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, 2005. 228 с.
- Старухин Н. А. Сибирские общества белокриницких староверовво второй половине XIX -начале XX в. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2015. 206 с.
- Титова Е. И. Система образования у старообрядцев в Вятском регионе в XIX-XX веках. М., Киров: Археодоксiя, 2016. 200 с.
- Фаттахова Л. Р. Традиции духовного пения старообрядцев Кузбасса: дисс. канд. искусствоведения: 17.00.02. Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2002. 331 с