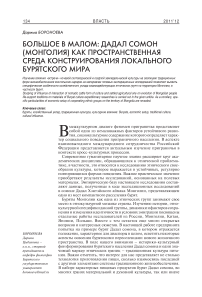Большое в малом: Дадал сомон (Монголия) как пространственная среда конструирования локального бурятского мира
Автор: Бороноева Дарима Цыбиковна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Геополитика
Статья в выпуске: 12, 2011 года.
Бесплатный доступ
Изучение влияния «встречи» кочевой скотоводческой и оседлой земледельческой культуры на эволюцию традиционных форм жизнеобеспечения монгольских народов на материалах полевых экспедиционных исследований позволяет выявить специфические особенности хозяйственного уклада взаимодействующих этнических групп на территории Монголии, в частности бурят.
Буряты, хозяйственный уклад, традиционная культура, культурное влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/170165667
IDR: 170165667
Текст научной статьи Большое в малом: Дадал сомон (Монголия) как пространственная среда конструирования локального бурятского мира
В межкультурном диалоге феномен приграничья представляет собой один из немаловажных факторов устойчивого развития, социокультурное содержание которого определяет характер социального поведения приграничного населения. В аспекте взаимовыгодного международного сотрудничества Российской Федерации представляется актуальным изучение приграничья в контексте кросс-культурных процессов.
Современное гуманитарное научное знание расширяет круг академических дисциплин, обращающихся к этнической проблематике, в частности, это относится к исследованию этнического своеобразия культуры, которое выражается в устойчивых, регулярно повторяющихся формах поведения. Важное практическое значение приобретают результаты исследований, основанных на полевых материалах. Эмпирическую базу настоящего исследования составляют данные, полученные в ходе экспедиционных исследований в сомоне Дадал Хэнтэйского аймака Монголии, представляющем одно из мест компактного расселения бурят.
БОРОНОЕВА Дарима
Цыбиковна – к.и.н., старший преподаватель кафедры ф и лософии Бурятского государственного
Буряты Монголии как одна из этнических групп занимают свое место в этнокультурной мозаике страны. Изучению истории, этнокультурной специфики данной группы, динамики и факторов сохранения и изменения идентичности в условиях эмиграции посвящены отдельные работы исследователей из России, Монголии, Китая, Японии, Польши. Вместе с тем остается еще много открытых вопросов и интересных сюжетов. В настоящей работе предпринята попытка на примере бурят Дадал сомона, в котором отражается положение, характерное для диаспоры в целом, осветить некоторые аспекты освоения бурятскими переселенцами нового жизненного пространства. В поле нашего внимания – историко-культурный фон формирования бурятского населения Дадал сомона и один значимый маркер этнических границ – традиционная культура питания. Важно отметить, что интерес для нас представляет не столько технология приготовления пищи, сколько взаимосвязь последней с другими элементами системы традиционного жизнеобеспечения. В наборе характерных пищевых продуктов бурят Дадал сомона, во многих гранях материальной и духовной культуры, так или иначе соотносящихся с пищей, отражается этническая и социальная история бурят в целом, результаты культурного взаимодействия с русским этносом, заимствование черт оседлой земледельческой культуры в частности. Следует обратить внимание и на феномен формирования своеобразных локальных этнокультурных продуктовых брендов, в наименовании которых используется этноним «бурят»/«буриад».
Как известно, в истории бурят заметным социально-политическим и этнокультурным явлением конца XIX – первой трети XX вв. стало массовое переселение в Монголию и в Маньчжурию. Не касаясь причин эмиграционного движения, отметим, что сам факт присутствия бурят в Монголии вынудил монгольское правительство принять ряд мер по их административному устройству и решению вопроса о гражданстве. На основе решения Великого Народного Хурала, согласно Уставу об организации административных единиц, было решено создать по 3 бурятских хошуна в Хан-Хэнтэйском и Богдоханульском аймаках: Эг-Селенгинский, Ирогольский, Улзгольский, Ононгольский, Керу-ленгольский (Малгарульский) и хошун Халх-номрог1. Бурятским переселенцам была предоставлена земля на севере страны. Значительные территории были выделены в районе Хэнтэйских гор, с которых халхаское население было переведено в другие места. Соответствующие органы разрешили бурятским переселенцам самим выбирать земли2.
Выбор места для поселения из множества потенциально пригодных для жизни территорий являлся одной из социально значимых сфер поведения в традиционной культуре монгольских народов, и бурят в том числе, и потому выработанным в коллективе типовым схемам и моделям, регламентирующим эту сферу, придавалось исключительно большое значение. Согласно исследованиям М.М. Содномпиловой, существуют два параметра в механизме культурного освоения пространства монгольскими народами – характеристика природногеографической среды и религиозномифологический контекст. Другими словами, при миграции и выборе нового места поселения необходимо было, во-первых, определить основные параметры «пригодности» той или иной части пространства с практической точки зрения, во-вторых, выявить соответствие выбранной территории определенному уровню в символической классификации3.
Основную роль при выборе земли переселившимися в Монголию бурятами играла традиционная хозяйственная деятельность. В хозяйстве хори (бурят – выходцев из современных Кижингинского, Хоринского, Еравнинского районов Республики Бурятия), составивших основное население Дадал сомона, главным занятием к моменту переселения было полукочевое скотоводство, другие отрасли: охота, собирательство имели второстепенное, подсобное значение. Значительной была степень проникновения земледелия в общую структуру хозяйства, о чем говорят данные о размерах посевных площадей хоринских бурят Верхнеудинского уезда (20 478,1 десятины)4, числе экономических хлебозапасных магазинов (52)5. «Начало сеянию хлеба» у хоринских бурят Вандан Юмсунов – автор летописи «История происхождения одиннадцати хоринских родов» относит к 1792 г., когда к ним прибыли доверенные чиновники императрицы Екатерины II, чтобы «обучать ведению хозяйства». Прибывшие «выделили из казны бесплатно семенное зерно ярицы, ржи, пшеницы, овса и ячменя, а также сохи, серпы и другие [земледельческие орудия] и обучали и наставляли различным способам сеяния тех различных злаков»6. Исследователи отмечают, что бурятское население, перенимая от русских земледельцев приемы и навыки земледельческого хозяйства и постепенно осваивая их, «старались усовершенствовать орудия и приемы землепашества»1.
Для хозяйства хоринских бурят было характерно развитое сенокошение. Традиции сенокошения и достаточно раз -витаятехнология производства грубых кор -мов, судя по работам А.П. Окладникова, Е.М. Залкинда, И.Б. Батуевой, С.Г Жам-баловой, Л.Р. Павлинской, были известны бурятам давно2. Более широкое распро-странение сенокошения во всех этниче -ских группах бурят исследователи свя-зывают с непосредственным примером русских и появлением более совершенных русских орудий труда.
Обосновавшиеся в Дадал сомоне буряты, в отличие от местного населения — халха, располагали широким ассорти -ментом хозяйственного инвентаря, утвари и даже сельскохозяйственных машин, способствовавших сохранению и ведению сложившегося хозяйственно культурного комплекса. Неизбежные столкновения из за земли между переселенцами и мест ным населением, имевшие место в самом начале их взаимоотношений, сопрово ждались иногда любопытными истори ями, которые свидетельствуют о том, что у халхасцев отсутствовали представления об использовавшихся бурятами орудиях труда, причем даже визуальные.
В настоящее время, когда многие ското-водческие хозяйства Монголии страдают от дзута — зимней бескормицы в суровые холодные зимы и теряют порой полное поголовье скота, народная молва гласит, что «у бурят не бывает дзута». Важно отме-тить, что, в отличие от других монгольских этносов, охота у бурят Монголии сохра няет свое подсобное значение. Полевые исследования в Дадал сомоне подтверж дают это не только потому, что здесь много охотников и охота имеет промышленную значимость, но и потому, что здесь создан единственный в своем роде частный охот ничий дом - музей (гэрийн музей), поража -ющий посетителей количеством экспона тов.
Что касается собирательства, то и оно имело и имеет гораздо большее распро-странение среди бурят, чем у других мон гольских этнических групп. Технология и навыки бурят по сбору и переработке ягод, лука, чеснока, луковиц лилии ( сарана ), корней мэхэр — горлеца и других растений сохраняют свою актуальность и в настоя щее время, обусловливая своеобразие системы питания бурят Монголии и явля ясь примером для представителей других этнических групп.
Современная территория Дадал сомона соответствует сложившимся традицион-ным представлениям о составе необхо димых компонентов благоприятной для жизнедеятельности местности, включая такие элементы ландшафта, как гора, долина, водные источники, лес. Наличие леса позволило сохранять ремесленные, в данном случае столярные, традиции. Бурятские мастера, как мы могли убе диться во время полевых исследований, славятся и умением изготавливать бере стяные изделия. Исследователи отмечают, что в каждой бурятской семье имеется собственная кузнечная или столярная мастерская, что совершенно не встреча ется у халхасцев3.
По данным 2010 г., из 472 727 га земли, принадлежащей Дадал сомону, пастбища составляют 163 244 га, сенокосные угодья - 25 150 га, пахотные/посевные площади - 6 354 га, лесные массивы - 246 327 га4. Таким образом, одним из факторов, спо собствовавших успешному воспроизвод ству не только традиционного хозяйства, но и традиционного уклада жизни в целом, явилось оптимальное с точки зрения рациональности ресурсообеспечение тер ритории проживания бурят в Монголии.
Традиционные методы определения благодатной земли не могли не включать знания о символических признаках мест ности. Большая часть территории Дадал сомона (278 680 га, или 57,9%) в настоя -щее время относится к заповедной/при родоохранной зоне и находится под особой защитой государства. Именно здесь сосредоточены исторические и культовые места, связанные с легендарными личностями – Бодончаром, Есугеем, Чингисханом (ДэЛууН Болдог, Бурхан Халдун, Хажуу булаг, Хаар тугийн овоо, Бодончарын жалга, Сэлбэгийн дэв, Угалзар гол/Уулзахын гол и др.). Выбрав для заселения места, обладающие особым статусом в сакральной топографии монгольского мира (места рождения, детских лет и молодости Чингисхана), буряты через их посещение и связанные с ними ритуалы каждый раз осуществляли ретроспективную реконструкцию прошлого, что, безусловно, способствовало актуализации героического «фонда воспоминаний» – легенд, преданий, мифов. Жизнь на «территории памяти» имела особое значение для конституирования и интеграции группы, формирования «героической» ментальности. Не случайно именно буряты Дадал сомона в 1962 г. в честь 800-летия со дня рождения Чингисхана в местности Гурван гол инициировали воздвижение 11-метрового памятника с изображением Чингисхана. В условиях политического, идеологического контроля и давления, когда имя Чингисхана было под запретом, буряты своим смелым проектом не только продемонстрировали силу коллективной памяти, но и готовность защищать эту память. Они смогли сохранить этот памятник, несмотря на жесткое требование его демонтировать. О высоком потенциале бурят Дадал сомона в поиске форм публичной презентации прошлого говорит и их вклад в реализацию идеи национально-культурного возрождения бурятского народа: первый фестиваль «Алтаргана», который сегодня признается одним из самых масштабных и зрелищных общебурятских культурных мероприятий, способствующих формированию нового бытийного пространственного образа бурятского мира, проходил в скромном Доме культуры сомона.
Возвращаясь к теме символиче -ского содержания осваиваемого пространства, отметим, что в религиозномифологических представлениях монгольских народов самые характерные точки окружающего пространства становились местом обитания «хозяев местности», покровительствующих общине, каждой семье и каждому человеку, входя- щим в социальный коллектив на данной территории. Различную степень освоенности территории в традициях монгольских народов демонстрирует культ «хозяев гор»1. На всем пространстве их проживания во множестве встречаются обо – почитаемые горные вершины или же рукотворные культовые сооружения в виде конусообразных насыпей из камней, увенчанных деревцами, в честь местных духов-хозяев.
В целом историко-культурный фон формирования Дадал сомона демонстрирует еще один вариант реализации традиционной стратегии освоения нового места и организации пространственной среды конструирования локального бурятского мира.
При изучении народов с дисперсным расселением, к каковым, безусловно, можно отнести бурят, проживающих в разных странах и, соответственно, включенных в разные этнокультурные и геополитические системы, особенно актуальна проблема этнических границ. Понятие этнических границ, введенное в научный оборот Ф. Бартом, связано с определением культурных дистанций между этническими группами. Этническую общность определяет этническая граница, а первичную значимость имеют те культурные характеристики, которые, согласно В.А. Тишкову, позволяют ответить на вопрос, почему и как «мы» отличается от «них».
Если следовать пониманию этнично-сти «как формы социальной организации культурных различий», то в ситуации межкультурного взаимодействия, в данном случае – при взаимодействии этнических групп на территории Монголии, необходимость выражать и подтверждать этническую идентичность реализуется посредством дифференцирующих признаков – сигналов и знаков различий, которые, по Ф. Барту, люди находят у других и выказывают сами для демонстрации идентичности (нередко это такие признаки, как одежда, язык, форма жилища или образ жизни в целом).
Следует сразу оговорить, что характер межэтнического взаимодействия в среде монгольских народов в целом и в указанном бурятском сомоне в частности обусловлен тем, что общий пласт в культурном багаже представляет собой некую нейтральную зону, где явления культуры не носят этнически маркирующего характера и могут быть вписаны в актуальную сферу каждой из контактирующих этнических групп. В процессе же дихотоми-зации, который, видимо, неизбежен при социальном взаимодействии, перечень «своих» отличий представителями контактирующих групп вычленяется иногда с трудом, иногда – с легкостью. Как показывает реальная повседневная практика бурят Монголии, из компонентов так называемой «этнографической триады» важнейших явлений народной материальной культуры (пища, одежда, жилище) именно локальный, специфический набор продуктов выступает одним из первых сигналов, который несет этнически окрашенную информацию-сообщение, способствующую двустороннему процессу идентификации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что питание сохраняет смыслообразующую роль, поддерживая основу «бурятскости». Самый «простой» набор продуктов традиционного бурятского угощения в ее современной форме бытования – талха (хлеб, легко узнаваемый как «бурятский» по специфической прямоугольной форме), зеехэй (сметана), урмэ (сладкое угощение, основными ингредиентами которого являются сметана, молотая черемуха или голубика/ брусника1, творог, луковицы лилии-сараны) – отражает модель питания, характерную до переселения в Монголию. Как нам представляется, даже на примере приведенного минимального набора продуктов бурят Монголии можно проследить эволюцию хозяйственно-культурных типов, влияние оседлой земледельческой культуры на традиции пищевого предпочтения и рецепты приготовления блюд. Так, технология хлебопечения, получения сметаны сохраняет свои «секреты», в результате чего «бурятский» хлеб и «бурятская» сметана – не просто вкусные, они получили среди населения страны в целом репутацию продуктов, воспринимаемых как хорошие уже на уровне сознания. Последнее способствует формированию своеобразного «рынка» товаров/продук-тов под маркой «бурятский». Например, в крупных торговых центрах г. Улан-Батора можно купить не только бурятский хлеб (буриад талх), но и бурятскую картошку (буриад теме с), которые вовлечены в индустрию массового производства. Бурятская же сметана сохраняет традиции производства в домашнем хозяйстве для внутрисемейного повседневного потребления и для продажи излишков.
Полевой материал свидетельствует о тенденции экономизации традиционных культур в современных условиях: элементы культуры, сохраняя значение как маркеры этнической идентичности, приобретают и качество экономического ресурса, на базе рекрутирования которого производители получают материальные и социальные дивиденды.
В заключение подчеркнем, что приведенный нами полевой материал и наши исследования, посвященные специфике этнокультурного развития бурят Внутренней Монголии КНР (шэнэхэн-ских бурят)2 позволяют провести сравнительный анализ и сделать вывод о том, что, несмотря на более высокие темпы ассимиляционных процессов, буряты Монголии сохраняют не менее ярко выраженный этнокультурный облик, чем шэнэхэнские буряты, которые уже давно в научной среде считаются типом «истинных и настоящих бурят».
Статья подготовлена при поддержке РГНФ № 112103555e/Mon «Оседлые традиции в кочевой культуре бурят Монголии».