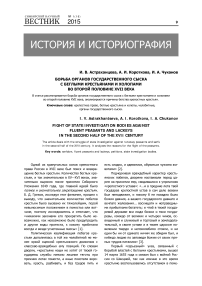Борьба органов государственного сыска с беглыми крестьянами и холопами во второй половине XVII века
Автор: Астраханцева И.В., Короткова А.И., Чуканов И.А.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается борьба органов государственного сыска с беглыми крестьянами и холопами во второй половине XVII века, анализируются причины бегства крепостных крестьян.
Крепостное право, беглые крестьяне и холопы, челобитные, органы государственного сыска
Короткий адрес: https://sciup.org/14114066
IDR: 14114066
Текст научной статьи Борьба органов государственного сыска с беглыми крестьянами и холопами во второй половине XVII века
Одной из краеугольных основ крепостного права России в XVII веке был поиск и возвращение беглых крестьян. Количество беглых крестьян, и так значительное в XV—XVI веках, значительно выросло после принятия Соборного Уложения 1649 года, где главной идеей было полное и окончательное закрепощение крестьян. Б. Д. Греков, исследуя этот феномен, пришел к выводу, что значительное количество побегов крестьян было вызвано их тяжелейшим, порой невыносимым положением в поместье или вотчине, поэтому исследователь и отмечает, что «никакими законами его прекратить было невозможно, как невозможно было предупредить и другие виды протеста, к какому прибегали всегда и везде угнетенные массы» [1].
Политическая квалификация побегов крестьян дополнялась в той же челобитной не менее яркой оценкой крестьянского движения с классово-враждебных ему позиций. По словам дворян, «крестьяне наши не хотят от твоей государевы службы нимало лишние тяготы при прежних летах понести, а иные похотели воровать, красть, разбивать, и без трудов пить и есть сладко, и одеватися, обуваться чужими животами» [2].
Подчеркивая враждебный характер крестьянских побегов, дворяне настаивали перед царем на принятии мер, сводившихся к упрочению «крепостного устава»: «...и в предние лета твой государев крепостной устав в сем деле вовеки был неподвижен, и никому б не повадно было божия даяния, а вашего государского давнаго и вечпаго жалования... восхищати и неправедными прибытками богатеть; и чтоб в твоей государевой державе вси люди божии и твои государевы, коиждо от великих и четырех чинов, освященный и служивый и торговый и земледела-тельный, в своем уставе и в твоем царском повелении твердо и непоколебимо стояли, и ни един бы ни от единаго ничим же обидим был, и кийждо людие по заповеди божии от своих прямых трудов питалися» [3].
Первый «серьезный» указ, связанный с борьбой властей с беглыми крестьянами, вышел 14 марта 1655 года и связан был с войной России со Швецией, так как именно в это время крестьяне воспользовались отсутствием в поме- стьях бояр и дворян, участвовавших в войне, и массово побежали. Суть указа 1655 года сводилась к запрету принимать беглых крестьян кому-либо в Москве под страхом «жестокого наказания» и «взыскания сносных животов». Согласно нормам данного указа, жители города Москвы были обязаны задерживать беглых крестьян, а также лиц, подозреваемых в побеге, и немедленно отводить их к начальнику Разрядного Приказа князю Г. С. Куракину. Если беглые холопы и крестьяне в Москве были замечены в совершении каких-либо преступлений, то их предписывалось после расспросов вешать [4].
Следует заметить, что до принятия Соборного Уложения 1649 года какой-либо системы поиска беглых в масштабе государства не существовало, потому что случаи побега крестьян носили преимущественно единичный характер. После окончания Смутного времени поиском и возвращением беглых занимались, как правило, сами землевладельцы, в основном из числа тех, кто имел для этого специально нанятых людей и необходимые денежные средства. Например, самостоятельными поисками беглых занимался Троице-Сергиев монастырь, который имел огромные земельные угодья, населенные крепостными крестьянами [5].
После окончания Смутного времени в условиях массовой раздачи государственных земель вместе с крестьянами бегство приняло массовый характер. Чем оно характеризовалось в 1620— 1640-е годы? Во-первых, крестьянство практически безнаказанно покидало имения мелких дворян, что объяснялось их длительным и частым отсутствием на службе. Во-вторых, крупные вотчинники не только переманивали к себе чужих крестьян, но и обеспечивали им более-менее сносные условия существования, так как крупная вотчина платила меньше налогов, чем мелкое дворянство, которое было вынуждено усиливать эксплуатацию своих подневольных крестьян. По истечении пяти урочных лет эти крестьяне уже на законных основаниях становились их собственностью. В-третьих, в случае объявления государственных кампаний по поиску беглых и появления в имениях вооруженных представителей власти богатые вотчинники немедленно прятали беглых в отдаленных имениях [6].
После принятия Соборного Уложения 1649 года, регламентирующего бессрочный поиск беглых крестьян, усилилось массовое бегство крепостных крестьян. В 1651—1655 гг. количество беглых, из числа тех, о ком было заявлено в Приказ Холопьего суда, превысило 34 тысячи человек, что гораздо больше такого же за пяти- летие 1641—1645 гг. [7]. Боярство и дворянство поставили перед правительством вопрос «ребром» о создании органов, занимающихся поиском и возвращением беглых крестьян. Сама правовая практика развития крепостного права потребовала создания системы сыска как важнейшей функции государственного аппарата [8].
Начало создания системы государственного поиска беглых крестьян мы датируем 14 марта 1655 года, когда вышел первый указ о запрещении приюта беглых крестьян в Москве, упомянутый выше. Практически одновременно с указом 14 марта был принят не менее жестокий указ царя Алексея Михайловича от 24 марта 1655 года. Согласно нормам, изложенным в этом документе, местным воеводам, их судебным установлениям было жестко предписано в случае побега из одного боярского двора одновременно 20—30 холопов казнить из них через повешение человек 4—6, а остальных бить кнутом и возвращать владельцам. Если группа беглых не превышала 5—10 человек с одного двора, указ предоставлял право определить наказание на месте, «смотря по тамошнему делу», но при условии повешения одного-трех человек [9]. То есть это были уже конкретные указания местным властям по расправе с пойманными холопами. Однако в указе не было сказано о том, кто должен был ловить и возвращать этих беглых, что создавало значительные трудности во всей этой работе. Завершил эту серию указ царя Алексея Михайловича (кстати, не попавший в Полный Свод законов Российской империи 1830 года) от 11 апреля 1655 года. Он был адресован воеводам и уездным судам и предписывал воеводам «сажать в тюрьму» всех «прихожих людей», подозреваемых в побеге, подтверждал ранее изданные указы, вводившие смертную казнь за побег, и определял для приказчиков вотчин и поместий наказание батогами и кнутом за прием беглых. И. М. Скляр, обстоятельно изучивший законодательство о холопах и крестьянах 1650-х годов, приводит материалы, подтверждающие, что перечисленные указы рассылались из приказов по городам и выполнялись неуклонно [10].
Здесь есть определенная тонкость. Дело в том, что указы 1655 года касались не беглых вообще, а только беглых холопов, однако в это время разница между крепостными крестьянами и беглыми холопами была незначительной, а многие холопы в вотчинах и поместьях жили на положении подневольных крестьян. Однако тщательное изучение Соборного Уложения 1649
года позволило некоторым исследователям прийти к выводу о том, что вышеупомянутые указы для холопов и крепостных крестьян были общими [11].
О том, что к середине 1650-х годов положение с беглыми крестьянами обострилось, свидетельствуют документы того времени, в частности, многочисленные челобитные дворян о том, что из их имений массово бегут крепостные крестьяне, и они не в силах их остановить. Челобитчики энергично ставили перед царем вопрос о сыске беглых крестьян. Челобитные начинались с жалоб на то, что за время пребывания дворян на войне, начиная с 1654 года, значительная часть крестьян бежала от них, ограбив имения и забрав с собой «животы и пожитки» своих господ. Возвращаясь, беглецы подговаривали оставшихся крестьян и похищали имущество. В моменты отлучек со службы помещики сами ездили в погоню за беглыми или посылали за ними своих людей, но беглые оказывали им вооруженное сопротивление: «...нас, холопей твоих, и людишек наших и крестьяни-шек до смерти побивают» [12]. О чем говорят эти челобитные? Во-первых, о том, что бегство крестьян приобрело массовый характер. Во-вторых, дворяне и верные им дворовые, несмотря на все предпринимаемые усилия, не могли сдержать поток беженцев. В-третьих, массовое бегство крестьян сопровождалось поджогами, грабежами дворянских имений, нередко убийствами землевладельцев. В-четвертых, бояре и дворяне не смогли сломить сопротивления крепостных собственными силами и требовали помощи от своего государства.
Стоит особо сказать о том, что челобитные середины — конца 1650-х годов содержат предложения дворян и их требования к правительству о создании системы поиска и возвращения беглых крестьян . Московские и городовые дворяне сетовали на воевод тех мест, где укрывались беглые, обвиняя воевод в нежелании содействовать возврату беглых крестьян. Они критиковали бездействие органов государственного аппарата с точки зрения их недостаточности в деле подавления выступлений крестьян. Констатируя свое «тяжелое экономическое положение», дворяне просили царя узаконить новую функцию государственной власти — сыск беглых крестьян, поручив его лицам, назначенным из среды дворянства . То, что функция сыска мыслилась челобитчиками не как кратковременная задача, а как широкая, постоянно действующая мера, показывала программа повального сыска, изложенная в челобитных:
«...которые люди и крестьяне, в чьих поместьях и вотчинах сверх писцовых и переписных книг объявятца, и отцы их за кем не написаны, вели, государь, про них сыскивать и их розпрашивать». А при «допросе и про иных беглых людей и крестьян розпрашивать и пытать». В вышеупомянутых челобитных дворян сквозила обида против крупных вотчинников, которые прятали беглых крепостных, принадлежащих дворянам [13].
Претензии мелкопоместных дворян к правительству подтверждает исследование, проведенное И. М. Скляром [14]. Он на основе анализа отдаточных книг Нижегородского и Казанского уездов пришел к выводу о том, что около 90 % всех беглых крестьян бежало от средних и мелкопоместных дворян и около 60 % из общего числа возращенных беглых по названным уездам было обнаружено во владениях бояр, патриарха и монастырей. Все это с достаточной убедительностью вскрывает корни противоречий между верхами и низами господствующего класса [15].
Не менее интересные факты переманивания крестьян от дворян в крупные вотчины вскрыл исследователь А. А. Новосельский, изучив челобитные дворян Тетюшского, Казанского и Свияжского уездов. В названные уезды с целью сыска беглых крестьян, покинувших владения патриарха Никона, были посланы патриарший представитель — сын боярский Кузьма За-воротков и «наборщик» Федька Юрьев. Используя отлучку служилых людей по военным делам, К. Заворотков и Ф. Юрьев наряду с сыском патриарших беглецов «насильством» вывозили местных крестьян или переманивали их обещанием льгот во владениях патриарха на реках Май-ве и Утке. Крестьяне массами покидали помещиков и уходили в вотчины патриарха [16].
Первый шаг к созданию постоянной системы поиска беглых крестьян предпринял в ответ на массовые обращения дворян царь Алексей Михайлович в 1658 году в разгар войны с Польшей. Это было обусловлено тем, что, получив письма из имений о массовых бегствах крестьян, дворяне начали дезертировать из войск, серьезно ослабляя боеспособность армии во время войны. В 1658 году централизованно был осуществлен первый крупный сыск беглых крестьян. Одним из его звеньев был вышеупомянутый сыск беглых во владениях патриарха на реках Майве и Утке, организованный при помощи и посредничестве государства. В ходе сыска села и деревни этих мест сыщики отписали на государя, а беглых и выведенных крестьян возвратили прежним владельцам [17].
Однако картина массовых побегов крестьян была бы неполной, если бы не учитывались беглецы из крупных вотчин, которые часто укрывались в имениях мелкопоместных дворян. В этой связи интересны исследования С. М. Каштанова, проведенные им на основе отдаточных книг Троице-Сергиева монастыря, братия и игумен которого считались одними из крупнейших феодальных владельцев крепостных крестьян в стране. Монастырю принадлежало множество вотчин в разных уголках страны. И из монастырских вотчин также было много беглых. От-даточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649—1650 гг., опубликованные С. М. Каштановым, дают возможность установить, что из 419 беглых крестьян монастыря, возвращенных с 14 декабря 1649 по 7 июля 1650 года в вотчины монастыря в Костромском и Галицком уездах, 332 крестьянина (79 %) устроились у помещиков, 42 крестьянина (10 %) — у князей и бояр, 24 крестьянина (6 %) — у монастырей и 6 крестьян (1,5 %) — на посаде, то есть в городах [18]. Именно вал обращений дворян и бояр о массовых бегствах крестьян, а также масштабы этих самих побегов заставили правительство принять меры к поиску беглых крестьян, начав создавать в этих целях государственную систему по поиску и возвращению беглых .
В 1658 году появилась грамота царя Алексея Михайловича, в которой было указано, что наиболее пострадавшими дворянские имения и боярские вотчины оказались в Верхнем и Среднем Поволжье — в уездных городах Арзамасе, Казани, Курмыше, Алатыре. В царском указе впервые предписывалось отправить в перечисленные города сыщиков из дворян. Указаны были места сыска — посады, дворцовые села, черные волости, ямские слободы, патриаршие, митрополичьи и монастырские вотчины, вотчины и поместья бояр, думных чинов, стольников, дворян московских и дворян и детей боярских городовых. За прием и держание беглых грамота устанавливала взыскание с виновных «владенья» по Уложению и определяла санкции в отношении самих беглых крестьян: тех, кто бежал, разоряя помещиков и вотчинников, — «за их воровство» «бить кнутом нещадно». «А пущих воров, которые, бежав, помещиков своих и вотчинников, или жен их и детей до смерти побили, или домы их пожгли... казнить смертью».
Грамота обязывала воеводу обратиться к населению уезда — в посаде у Приказной избы, а в уезде на погостах и по торжкам — с царской заповедью, «чтоб нижегородцев и розных городов дворян и детей боярских и всяких служилых людей нижегородских помещиков и вотчинников люди и крестьяне и бобыли впредь не воровали, от помещиков своих и от вотчинников не бегали, и домов их не разоряли и не пожигали, и никакого разоренья им не делали, и сами их жен и детей до смерти не побивали». Сопоставляя эту часть грамоты с предшествующим ей изложением мер наказания крестьян за побег и за покушения на собственность и жизнь феодалов, легко заметить, что основное назначение заповедной грамоты сводилось не столько к запрету приема беглых, сколько к устрашению крестьян с целью пресечения актов социальной мести с их стороны.
Одно из предписаний грамоты нижегородскому воеводе Г. Бутурлину вменяло воеводе в обязанность вести самому сыск беглых крестьян до приезда сыщиков — посылать за ними стрельцов, пушкарей, затинщиков, уездных дворян и других лиц, допрашивать беглых в Приказной избе и «за воровство, за побег и за сносные животы... бить кнутом нещадно», после чего возвращать прежним владельцам [19].
Рассылка заповедных грамот на места была подготовительным мероприятием, за которым впервые последовала отправка специальных уполномоченных сыщиков во многие южные, центральные и поволжские уезды государства. Наказ 1658 года, хотя и опирался в определении ряда норм и санкций на Уложение 1649 года, все же заметно расширял в сравнении с Уложением юридические и практические возможности возврата беглых крестьян и холопов прежним владельцам.
Главное новшество указа 1658 года состояло в квалификации побега крестьян как политического преступления («воровство») и в определении наказания за сам факт побега. При этом следует отметить, что Уложение 1649 года не определяло наказания за побег. После Уложения, начиная с 1654 года, законодательство, как мы видели, обрушило жестокие репрессии (вплоть до смертной казни) на холопов за их побег из имений, на солдат за их дезертирство из полков, также каралось бегство от бояр и грабеж и уничтожение барского имущества. Впервые квалификация крестьянских побегов, сопряженных с грабежом и пожогом имущества феодала, как явления политического встречается в грамоте 1658 года, подписанной царем Алексеем Михайловичем нижегородскому воеводе Г. Бутурлину. Наказ другому воеводе, Д. И. Плещееву, обнародованный в 1658 году, в свою очередь выделил побег в разряд самостоятельного преступления, не связанного с другими видами социальной мести крестьянина, и определял за него наказание кнутом (ввиду массового характера побегов наказание назначалось выборочно — по два человека из каждых десяти).
Позднее указом 8 августа 1659 года в отношении беглых крестьян Поволжья, которые не совершили убийства, однако учинили поджог и грабеж господского имущества, была введена смертная казнь. В данном указе важен один момент. Новая санкция против крестьян была как бы платой дворянам и детям боярским понизовых городов, городовым помещикам и вотчинникам «за их к нему, великому государю, многие службы, за кровь и за раны». В этой связи И. М. Скляр, безусловно, прав, когда видит отличительную черту законодательства 1654— 1959 гг. в карательном характере большинства мероприятий, назначением которых было приостановить растущее движение социального сопротивления крестьян и холопов против широкомасштабного наступления государственных институтов власти на их неотъемлемые гражданские права [20].
Создание системы поиска и возвращения беглых строилась по двум основным направлениям. Во-первых, это борьба против лиц, укрывающих беглых крестьян и холопов. А во-вторых, создание так называемых «групп поиска».
Первое вышеупомянутое направление поддерживалось целой системой царских указов и решений Боярской Думы. Среди них важное место занимает указ царя Алексея Михайловича от 13 сентября 1661 года. Основное его содержание регламентировало систему наказаний и ограничений против лиц, укрывающих беглых холопов и крепостных крестьян. Приказчиков частновладельческих имений, где были обнаружены беглые, предписывалось «нещадно сечь кнутом». Если же в ходе расследования выяснялось, что управитель имения (тиун) действовал по воле своего владельца, то он был обязан по решению суда, во-первых, возвратить беглого прежнему хозяину за собственный счет, во-вторых, заплатить штраф по 10 рублей в год за каждого беглого, а в-третьих, за каждого беглого отдать своего крепостного вместе с семьей и нажитым им имуществом. Серьезные санкции применялись к старостам деревень, где жили черносошные и дворцовые крестьяне, которых также предписывалось сечь кнутом [21].
Встав на путь борьбы с укрывательством беглых крестьян и холопов, правительство продолжало эту линию в законодательстве и в последующее время. В этом плане следует обратить внимание на указ и боярский приговор от
31 марта 1663 года. Этот указ подтвердил санкции указа 13 сентября 1661 года за прием беглых после заповедных грамот 1658 года, дополнив их лишь в отношении приказчиков: не только бить кнутом, но и посадить на год в тюрьму. Основную часть указа 1663 года составляла регламентация вопросов о беглых крестьянах, отданных в даточные, и о прикреплении внуков по дедам. Сыск как постоянную функцию указ закреплял за сыщиками, которые действовали в это время во многих городах страны. Дворянам, находившимся у сыщиков на правеже по взысканию зажилых денег и сносных животов, но обязанным явкой на государеву службу, указ предписывал давать отсрочки в возврате зажи-лых денег при условии оформления поручительства за них. Поручительство признавалось необходимым и в отношении беглых крестьян и холопов, сидящих в городах у сыщиков по тюрьмам в том случае, если «указу им учинить вскоре не мочно». При отсутствии порук следовало возвращать беглых под расписку тем, у кого они жили в бегах, чтобы беглые «с тюремной нужи не померли» [22].
Интенсивное законотворчество в части регламентации процесса сыска и следствия о беглых крестьянах дополнялось в 60-е годы составлением в Поместном приказе наказов сыщикам и грамот воеводам. К числу последних относится заслуживающая внимания октябрьская грамота 1664 года новгородскому воеводе И. Репнину. Сличение грамоты с наказом 1661 года воеводе Д. И. Плещееву показывает, что она повторяла плещеевский наказ и включала ряд новых материалов. Из числа уже известных нам законодательных памятников в грамоту включен указ 31 марта 1661 года. Однако грамота И. Репнину любопытна еще и тем, что она содержит ряд новых норм, до сих пор не известных. Грамота вводила требование поголовного сбора сказок о беглых крестьянах у вотчинников и помещиков или у их приказчиков.
Существенные уточнения вносила грамота в регламентацию прав на беглых крестьян и холопов. В случае возникновения спора о старинных людях и крестьянах в суд должны быть предъявлены древние крепости. При отсутствии их крестьяне считались принадлежащими тому, за кем значились в писцовых и переписных книгах. Смысл этих норм состоял в том, что они вскрывали возросшее значение крепостного акта. Законодательство 60-х годов не отвергало старины как основания крепостной зависимости, но признавало старину фиксированную и офи- циально зарегистрированную. При отсутствии акта, доказывающего владение крестьянином по старине, причем акта официально зарегистрированного, предпочтение отдавалось новому крепостному акту и прежде всего записи в писцовых и переписных книгах [23].
Насколько идея борьбы с побегами крестьян была доминирующей в законодательстве периода назревания крестьянской войны и насколько такая идея пронизывала все законодательство феодально-крепостнической России, показывает тот любопытный факт, что даже в весьма далеком от этих сюжетов Новоторговом уставе 1667 года имеется специальная статья, предписывающая воеводам и приказным людям остерегаться беглых людей, а промышленникам и торговцам «приезжих и прихожих людей без объявки и без записки» не держать [24].
Установка правительства на превращение сыщиков одновременно в агентов правительства по расследованию татиных и разбойных дел нашла отражение в выработанных в Разбойном приказе в 1669 году «Новоуказных статьях о та-тебных, разбойных и убийственных делах». Само по себе принятие новоуказных статей по «татебным и убийственным» делам, которые разрабатывали систему подавления «разбоя» крестьянства, свидетельствовало о попытке усилить репрессии в отношении народа и таким путем подавить его выступление. Статьи 1669 года возлагали на сыщика руководящую роль в расследовании дел о татьбе и разбоях. Если полицейские функции борьбы с татьбой и разбоями по-прежнему оставались за губными старостами, то на сыщиков возлагался суд и очная ставка по делам, возбужденным губными старостами и губными дьячками [25].
Сыщик выдавал письма татям и разбойникам, наказанным путем отсечения части пальцев левой руки. С этими письмами тати были обязаны явиться к своим помещикам, а последние принять крестьян и холопов по письмам сыщиков. При отсутствии писем сыщиков вернувшиеся на свое прежнее жительство крестьяне и холопы, замешанные в татьбе и разбое, подлежали передаче властям. При повторном уличении в татьбе и разбое виновный также подлежал передаче сыщикам по уездам. Наконец, те же новоуказные статьи со всей категоричностью возлагали ведение судных и разбойных дел в городах (в Москве ведал ими Разбойный приказ) на сыщиков, обязывая их одновременно осуществлять подавление разбойничьих станов, используя военную помощь местных дворян, детей боярских и приборных людей.
Тесная связь побегов крестьян и холопов с последующими явлениями татьбы и разбоя и значительное слияние функций сыска беглых с розыском и судом по татиным и разбойным делам в лице правительственного агента — сыщика убедительно подтверждаются указом 20 января 1673 года. Указ воспрещал принимать в Разбойном приказе городовых холопов и крестьян, бежавших от своих владельцев и в бегах занимавшихся татьбой и разбоями, и требовал отсылать таких крестьян по месту нахождения поместий.
В то же время следует указать на тот факт, что после смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году приказными чиновниками работа по посылке в уезды сыщиков и весь поиск беглых стали понемногу сворачиваться. Слишком многие интересы пересекались в этой деятельности. Во-первых, интересы крупных землевладельцев, для которых беглые из дворянских имений были важным источником пополнения крестьянских рабочих рук. Во-вторых, деятельность сыщиков, посылаемых из центра, вступала в противоречие с корыстными интересами воевод и местных коррумпированных чиновников, а также московского чиновничества, заседающего в приказах. В-третьих, правительство нового царя стремилось использовать сыщиков как важный инструмент предстоящего межевания земель в государстве, поэтому многие из них были отозваны, а количество беглых крестьян в уездах стало резко увеличиваться.
Однако дворяне, дети боярские и «разных чинов помещики и вотчинники» немедленно реагировали на изменения в сыске беглых крестьян новым коллективным челобитьем, поданным в начале апреля 1677 года [26]. В этой челобитной, как и в предыдущих, в сильных выражениях указывалось на разорительные последствия для поместий и вотчин крестьянских побегов, сопряженных с грабежом господского имущества: «И мы, холопы твои, от тех беглых людей своих и крестьян стали разорены без остатку, и поместья наши и вотчинки стали пусты, служить тебе, великому государю, стало не с че-во, от их разоренья оскудали и обедняли» [27].
Челобитчики положительно оценили деятельность сыщиков, посланных ранее против «наших разорителей», указывая, что сыщики возвращали беглых и взыскивали с их держателей зажилые деньги. Мероприятия сыска, по словам челобитчиков, привели к уменьшению числа крестьянских побегов. После свертывания государственной кампании по поиску и возврату беглых, при отсутствии сыщиков в казанских го- родах и в городах по черте, поток беглых в южные города значительно возрос. Одна из причин этого, по мнению авторов челобитной, кроется в том, что воеводы, приказные люди дворцовых волостей, земские старосты, стрелецкие и казачьи головы и сотники принимают и укрывают беглых людей и крестьян «для своих корыстей и берут с них посулы великие и поминки, потому что на воевод и на приказных людей и на голов и боярских вотчин и на всяких чинов людей ваших государских страхов и заповеди не положено, зажилых денег и наддаточных крестьян править на них не указано» [28].
И на этот раз правительство уступило дворянам. Из Поместного приказа были посланы сыщики в понизовые города Донков, Козлов, Сокольск, Доброе Городище, а воеводам этих городов из Разряда направили грамоты об оказании содействия сыщикам. Новый нажим дворян на правительство получил отражение в Указе царя Федора Алексеевича и боярском приговоре 31 августа 1681 года. Указ сводился к двум положениям: к отмене взыскания наддаточных крестьян за прием беглых с восстановлением ранее отмененного взыскания по Уложению за государевы подати и вотчинниковы доходы по 10 рублей в год за каждого беглого крестьянина и к установлению взимания с держателей беглых проестей (издержек. — Прим. авт .) и волокиты по Уложению по гривне на день со дня поступления челобитья о беглом и до дня возврата беглого истцу. Указ 1681 года вместе с тем подтверждал установление указа 13 сентября 1661 года о доставке беглых крестьян истцу на подводах ответчика [29].
Указ молодых царей Петра и Ивана от 3 января 1683 года [30] отменил передачу так называемых «наддаточных крестьян» в уплату за беглых, но поднял размер штрафа в 2 раза. Теперь штраф за одного беглого крестьянина в год составил 20 рублей. В этом указе было констатировано, что главным местом укрытия беглых крестьян стали города, а главными укрывателями — горожане и старосты черносошных деревень. Значение указа состояло в том, что, во-первых, на всех воевод и их аппараты была возложена функция организации всей работы в уездах по поиску беглых крестьян. Во-вторых, всем горожанам-работодателям было предписано принимать на работу исключительно по «кормежным памяткам», при приеме на работу доподлинно проверять поручные записи, а также отпускные документы.
Старост черносошных деревень, принявших беглых крестьян, было предписано не только сечь кнутом, но и самих отдавать в крестьянство (то есть отстранять от должности) и штрафовать на 20 рублей.
Однако главным в работе по поиску беглых было, конечно же, создание массовой системы сыска беглых крестьян . Начиная с 1650 года царскими указами стали формироваться команды так называемых сыщиков, организуемые для поиска беглых крестьян в сельской местности, а с 1683 года — назначаться специальные чиновники (дьяки и подьячие при воеводских администрациях) для поиска беглых в городах. Впервые появившийся в 1658 году, институт сыщиков бурно развивался.
Дальнейшее развитие системы поиска беглых крестьян и совершенствования работы сыщиков было определено в указах царей Ивана и Петра от 2 марта 1683 года № 997 и 998 «О посылке сыщиков для отыскивания беглых» и подписанном ими документе «Сыщиков наказ». В первом указе было предписано в уездах создавать «команды сыщиков», причем был использован термин «много сыщиков», то есть много команд для поиска. В этом указе на воевод была возложена функция не только комплектования команд и обеспечения их всем необходимым, но и сама организация этой работы в «тесном сотрудничестве с боярами» также следить за тем, чтобы деньги отдавались тем, «кто доправлен», что означало взыскивать штрафы с укрывателей и передачу их тем дворянам и боярам, которые являлись хозяевами беглых крестьян.
Однако большее значение имел все-таки так называемый «Сыщиков наказ» [31]. Охарактеризуем подробно этот документ. Правительство, обращаясь к судам, потребовало прекратить «волокиту» при рассмотрении судебных дел, активно привлекать к расследованиям дел о беглых писцов, а воеводам держать эти дела на контроле. При рассмотрении дел о беглых широко привлекать писцовые и переписные книги, изымать беглых со службы, если они были туда определены, и возвращать их хозяевам (ст. 2). При этом было особо оговорено, что обнаруженных беглых в засечных чертах (приграничных крепостях), если они были определены на службу, оттуда не изымать (ст. 3). Что касается государственных земель, где проживали свободные (дворцовые и черносошные крестьяне), то там категорически было подтверждено запрещение принимать беглых без отпускных грамот, выписанных их бывшими господами по доброй воле, причем предписывалось их строго проверять.
Документ устанавливал коллективную ответственность крестьян черносошного села за прием беглых, так как было записано, что «если беглого приняли всем селом, то править требуется всех крестьян села». Если в ходе следствия (розыска) обнаруживалось, что беглого крестьянина приняли приказчики (управляющие имениями) частных владельцев без их ведома, то предписывалось виновных сечь кнутом «нещадно» и отдавать вместе с пожитками и членами семей прежним владельцам (ст. 6). Причем сечь кнутом можно было в том случае, если приказчик не мог заплатить штраф за беглого крестьянина в размере 20 рублей. Особо следует указать на тот факт, что в случае, если на сыщиков поступала жалоба со стороны кого-либо, то воеводам предписывалось проводить по этому поводу расследование и добиваться «допрямы» (правды) (ст. 7).
Был установлен порядок проведения «сыщиками» работы по поиску беглых крестьян. В первую очередь требовалось проверять всех «подозрительных вольных», у которых отсутствовали оправдательные документы, путем «крепкого расспроса и розыска», что означало применение пыток (ст. 8). Расспрашивать свидетелей, а в случае подтверждения правоты крестьянина — регистрировать его по новому месту жительства (ст. 9). Сверять списки беглых крестьян было предписано по трем поколениям, то есть если дед беглого был записан в писцовую книгу как крепостной, то и его внуки также считались крепостными и подлежали немедленному возвращению (ст. 12).
В случае незаконного переезда дворцовых крестьян (то есть без спроса) к новому месту жительства в такое же дворцовое село требовалось немедленно возвращать их к прежнему месту жительства, то есть власти категорически запрещали крестьянам покидать даже дворцовые села, а предписывали нести по прежнему месту жительства «дворцовые тяглы» (ст. 10). Если обнаруживалось, что свободный крестьянин женился на крепостной крестьянке или дворцовая крестьянка вышла замуж за беглого, то в этом случае свободным крестьянам предлагалось для того, чтобы жить дальше, заплатить выкуп в размере 20 рублей прежнему хозяину. Если крестьянин таких денег выплатить не мог (а редко кто мог выплатить такие огромные деньги), то он вместе с беглецом (беглянкой) немедленно закрепощался и передавался прежнему хозяину беглых (ст. 14).
В случае, если обнаруживались беглые крестьяне, которых приняли умершие вотчинники и дворяне, то их потомки ответственности не несли, но беглые крестьяне немедленно возвращались к прежним владельцам (ст. 11).
Если сыщиками обнаруживались беглые в полках, нанятые в качестве солдат, то было категорически запрещено их оттуда изымать до тех пор, пока их хозяева на их место не пришлют новых. То есть решение о том, продолжать беглому крестьянину службу или нет, было возложено на самого его хозяина. На сыщиков была возложена функция присутствовать при передаче беглых их хозяевам из тюрем, если они были задержаны и находились там (ст. 12, 16).
Помимо тотальных проверок дворцовых и черносошных сел, «сыщикам» было поручено проверять всех крестьян, поселившихся на пустующих землях, для чего было предписано даже, если они предъявляли разрешительные документы, все равно проверять их по писцовым и переписным книгам и в случае обнаружения их принадлежности к частным землевладельцам — немедленно возвращать (ст. 15).
Наличие отпускных грамот у вольных крестьян еще не означало, что власть оставляла их в покое. «Сыщикам» было предписано проверять тщательно всех крестьян, у кого были отпускные грамоты, на предмет того, что они «могли быть воровски подделаны». Неоднократно были выявлены случаи, когда прежние владельцы крепостных, отпустившие их на волю, и их потомки могли отказаться от факта выдачи крестьянам отпускных грамот, тогда эти крестьяне вместе с семьями также возвращались к прежним владельцам. В случаях, если обнаруживались действительные факты подделки документов, жестокие санкции в виде сечения кнутом и штрафов обрушивались по отношению к укрывателям (ст. 20). Не менее грозные санкции следовали по отношению к новым владельцам, которые, укрыв беглых, представили в свое оправдание «лживые документы» (ст. 21).
В этой связи имели место попытки беглых замести свои следы путем перемены имен себе и своим отцам с тем, чтоб имена не сходились с теми, под которыми они значились в переписных книгах и других крепостных актах. С этими случаями также пытались бороться сыщики. Так, в 1663 году сбежавший от помещика Ме-щерикова крестьянин Стенька Кириллов выдал себя за государева крестьянина и назвался Стенькой Васильевым. Когда он был уличен, то показал, что сделал это с целью избежать крепостной зависимости от Мещерикова [32].
Согласно нормам, определенным в статье 47 «Наказа сыщикам», для того чтобы доказать принадлежность крестьянина тому или иному владельцу, требовалось собрать «круговые поруки» нескольких свидетелей (ст. 47). При проведении расспроса (следствия) сыщикам было предписано применять пытки до тех пор, пока «подозреваемые не сознаются в совершении побега», после этого необходимо было сверять показания беглого с показаниями свидетелей, с записями в писцовых и переписных книгах с целью установления всех обстоятельств дела (ст. 41).
В связи с тем, что в крупных имениях, где могли укрываться беглые крестьяне, могли находиться вооруженные дворовые, готовые по приказу своего хозяина оказать сопротивление, сыщикам предписывалось обыскивать такие подозрительные имения специальными отрядами, состоящими под руководством чиновников из стрельцов и пушкарей (ст. 43). То есть законом к числу подозрительных могло быть причислено любое имение, а главным способом производства работы по поиску беглых стали внезапные рейды (ст. 44). Сыщикам было предоставлено право даже судить владельцев имений, однако только в том случае, если имелись четкие доказательства того факта, что они укрывали беглых и отказывались их выдавать (ст. 45).
Известен случай, когда, по грамоте из Поместного приказа, воронежский воевода В. Уваров направил сыщика стрельцов для взыскания наддаточных крестьян у помещика Ф. Рукина за беглых крестьян окольничего В. Волынского. Стрельцы сообщали в доездной памяти, что крестьяне по велению Рукина вышли против них с пищалями, рогатками и бердышами и оказали сопротивление [33]. В мае 1699 года по грамоте из Разряда и по наказной памяти Я. К. Зыбина были посланы в Черпский уезд для сыска беглых крестьян сыщик И. Акинфов и подьячий А. Федоров со стрельцами, казаками и пушкарями. К приезду сыщиков в деревню крестьяне собрались «великим собранием» и произвели нападение на сыщиков, вынудив их отступить. Только вернувшись с подкреплением, сыщику И. Акинфову удалось подавить мятеж и казнить его зачинщиков [34].
Достаточно интересным является тот факт, что сыщикам было предоставлено право разбирать жалобы одних владельцев к другим по принадлежности крепостных крестьян той или иной стороне. В «Наказе сыщикам» были регламентированы и эти случаи. Так, если между землевладельцами возникал спор о принадлежности тех или иных крестьян к тем или иным владельцам, сыщики должны были разобраться в деле, а в случае, если владельцы требовали вернуть им якобы принадлежащих им крепостных, не записанных в владеленные книги, не зарегистрированных в писцовых и переписных книгах, сыщикам требовалось убеждать ретивых владельцев в их неправоте, подталкивая их к заключению «полюбовных соглашений» (ст. 46).
Особо была оговорена передача пойманных крепостных их прежним владельцам, которая должна быть осуществлена по «крепостям прежних владельцев», то есть по представленным документам (ст. 22). При этом была установлена ответственность самих сыщиков и других должностных лиц за проявленную «волокиту», то есть дела предписывалось разрешать быстро, присылать в имения, где были обнаруженные, приставов, которые должны были действовать без задержек (ст. 23). Были установлены следующие способы передачи беглых крестьян их бывшим владельцам:
-
1. По суду и сыску, то есть когда прежний владелец доказал свою правоту в суде, или в ходе сыска по другим делам обнаруживались беглые крестьяне. Тогда передача беглых крестьян прежним владельцам зависела исключительно от решения суда.
-
2. Беглые крестьяне передавались прежним владельцам по решению «сыщиков», когда в их распоряжении в ходе проводимого розыска (следствия) оказывались необходимые документы (ст. 24).
Если обнаруживались факты, когда крепостные крестьяне отдавали своих дочерей замуж и женили сыновей на свободных крестьянках до принятия Соборного Уложения 1649 года (то есть до тех пор, пока существовал 5-летний срок поиска беглых крестьян), то свободные крестьяне должны были все равно заплатить штраф в размере 10 рублей прежним владельцам (ст. 25—26). В то же время дела крестьян, сбежавших от своих прежних владельцев до Соборного Уложения 1649 года (ст. 27, 31), если прежние хозяева предъявляли документы, подтверждающие владение ими, рассматривались в суде, и суд, рассмотрев все обстоятельства дела, мог принять решение о возвращении подобных крестьян их прежним владельцам (ст. 28).
Вся несправедливость данного указа состояла в том, что прежним владельцам могли вернуть крестьян, покинувших своих прежних владельцев до принятия Соборного Уложения 1649 года, когда еще поиск беглых крестьян не был бессрочным. Для этого прежним владельцам достаточно было предъявить запись в переписных или писцовых книгах, старинные крепости (ст. 29). Особо было установлено, что за- писи, хранящиеся у истцов, обратившихся к сыщикам и судьям в связи с поиском беглых, должны были соответствовать записям в копиях переписных и писцовых книг (ст. 36). Возвращению прежним владельцам подлежали даже те крестьяне, которые были признаны беглыми, хотя их прежние владельцы и не обращались к властям. В этом случае сыщики были должны организовать подводы, приставов и «крепкий караул», что означало обязательное надевание на возвращаемых оков. При этом все издержки по питанию возвращаемых и транспортные расхода возлагались на хозяев беглых крестьян (ст. 37). В случае, если у сыщиков не было возможности отправить беглых крестьян их прежним владельцам, они были обязаны поместить их вместе с семьями в тюрьму, где предписывалось держать их до тех пор, пока не сыщутся их владельцы и не приедет их прежний хозяин с подтверждающими документами (ст. 38, 39), причем особой статьей было предписано беглых крестьян, помещенных в тюрьму, а также членов их семей, содержащихся вместе с ними, кормить за счет государства (ст. 49).
Стоит особо сказать о том, что на сыщиков было возложено ведение следствия по делам, связанным с совершением беглыми крестьянами убийств, разбойных нападений и грабежей . В случаях, если сыщики при расследовании дел о беглых крестьянах сталкивались со случаями совершения преступлений беглыми крестьянами, они были обязаны по этим случаям проводить расследования: принимать срочные меры по розыску подозреваемых, задерживать их, проводить расследование, не останавливаясь перед применением пытки. В случае признания задержанного в совершенном преступлении на сыщиков было возложено вынесение приговора и даже приведение его в исполнение . Сыщики имели право проводить следствие и «вешать», чтобы «другим неповадно было воровать» (ст. 40).
Подобных случаев было очень много. Побег как бы начинал собою тот или иной акт классовой мести крестьян помещикам (разорение имущества, убийство господ и членов их семей и т. п.) и в то же самое время завершал и прикрывал крестьянское выступление. Примеров подобного рода можно привести значительное количество. В ноябре 1649 года был убит своими крестьянами помещик Каширского уезда Т. Павлов. Убившие трое крестьян с женами и детьми сбежали в разные украинные города [35]. В июле 1655 года была послана в Воронеж грамота о розыске крестьян белевского поме- щика Л. Вельяминова, пришедших из бегов и убивших его одиннадцатилетнего сына [36].
В 1660 году два брата Небольсины из Брянска, не явившиеся к сроку в полк, объясняли в челобитной, что они находились в Посольском приказе по делу о сыске беглых крестьян, которые их дядю «с женою и с людьми и с животы заперли в хоромех, сожгли» [37]. Таким образом, на сыщиков была возложена функция не только поиска беглых крестьян, но и возвращения их прежним владельцам. Процедура возвращения беглых крестьян, согласно нормам указов 1683 года, была четырех вариантов.
Первый вариант предполагал наличие беглых крестьян и претендентов на них — челобитчиков. Он заключался в проведении очных ставок. Если беглые признавали в челобитчиках своих вотчинников и помещиков, а те предъявляли на них выписи из писцовых и переписных книг, заверенных в Поместном приказе, и они сходились, сыщики возвращали беглых их владельцам.
Второй вариант процедуры возвращения беглых исходил из факта отсутствия претендентов на беглых на месте расследования. Сыщики в таком случае наказывали беглых и отсылали их или с порукою, или в сопровождении приставов к их помещикам и вотчинникам.
Третий вариант предполагал отсутствие важнейшей в феодальном праве гарантии — поруки. Тогда беглых, их жен и детей заключали в тюрьму. Помещики для выручки своих крестьян из тюрьмы должны были присылать за ними людей с крепостями. Тесным образом с этим связано предусмотренное наказом оповещение воевод, приказных людей и самих помещиков о беглых крестьянах и холопах, находившихся у сыщиков под следствием и в заключении. Формой оповещения служили отписки сыщиков с приложением именной росписи беглых и посылка бирючей (сопровождающих приставов), которые, заковав беглых крестьян и членов их семей в оковы, должны были в целости доставить их к «месту назначения».
Четвертый вариант условий отдачи частновладельческих беглых крестьян предусматривал столкновение двух видов документальных оснований на спорных крестьян — выписей из писцовых и переписных книг поместий и вотчин, в которых спорные крестьяне проживали ранее, и каких-либо крепостей («отдачи» или поступные записи о передаче этих крестьян вместо беглых), предъявленных новыми их владельцами. В данной ситуации сыщик был обязан определить того владельца, чьи права были предпочтительней.
Оценивая значение «Наказа сыщикам» как вклад в развитие крепостного права и его институтов, следует указать на два важных обстоятельства.
Во-первых, этот документ дал дополнение и развитие ряда прежних норм законодательной разработки крестьянского вопроса. Как мы видели, это касалось главным образом расширения материальной ответственности за прием беглых с частичной заменой ею наказания кнутом.
Во-вторых, Наказ не покрывал собою всего законодательства по вопросам прикрепления крестьян в период 50—70-х годов XVII века. Ограничение его содержания определенными рамками связано с двумя моментами: с целевой установкой Наказа как официального руководства для сыщиков в их деятельности по сыску и возвращению беглых крестьян и холопов; одновременно при том, что сыск беглых связан с использованием широкого круга норм крепостного права, в Наказ не вошли, например, указы об оформлении в приказах по отпускным на холопов служилых кабал, а на крестьян ссудных записей; о регистрации помещиками в Приказе Холопьего суда и в Поместном приказе сделочных записей на крестьян и некоторые другие.
Однако в целом Наказ 1683 года выступает перед нами как обширный кодекс сыска беглых крестьян и холопов и урегулирования взаимных претензий феодалов в вопросе их прав на беглых, выработанный в итоге многолетней практики сыщиков, деятельности приказов и законодательного производства.
Специальные чиновники, как уже отмечалось, были выделены для поиска беглых в городах. Они назначались решением местного воеводы. Этими же поисками могли заниматься и те же сыщики. При проведении поиска беглых и следствия по обнаруженным в городах беглым крестьянам было строго предписано расспрашивать всех подозрительных лиц, для чего периодически проводить облавы, выявлять сообщников и укрывателей беглых, расспрашивать накрепко (с применением пыток) и немедленно передавать беглых их хозяевам, предварительно их оповестив, по предъявленным ими документам, подтверждающим их право собственности (ст. 32, 33) [38]. Предоставление подвод и охраны для сопровождения беглых крестьян было возложено на тех частных землевладельцев, у которых были обнаружены беглые (ст. 35).
Причем в статье 34 «Наказа сыщикам» была введена норма «обязательного наказания виновных в побеге крестьян сыщиками», то есть на них были возложены не только розыскные и административные функции, но и судебные, причем во многих случаях объемы (границы) наказания устанавливали сами сыщики. Новым моментом было то, что городским чиновникам и сыщикам было поручено проверять не только беглых крепостных, но и представителей коренных народов (чувашей, мордву, черемисов, татар) на предмет своевременной уплаты ими ясака (налога. — Прим. авт.) (ст. 33).
Если подозрительные граждане, пойманные в ходе облав, не оказывались крепостными, то предлагалось сыщикам все равно разбираться с их принадлежностью, а в случае необходимости «отсылать их к стрельцам, приказчикам». То есть «сыщики» занимались не только поиском беглых крестьян, но и вообще были обязаны проверять «всех подозрительных » (ст. 34).
Но это была лишь видимая сторона дела. Параллельно работе так называемых «сыщиков», с разрешения царского правительства крупные землевладельцы, местные дворяне создавали так называемую агентуру, то есть соглядатаев, лиц, помогавших выследить и вернуть беглых. Так, ученый А. А. Новосельцев, проведя ряд исследований по данному вопросу, пришел к выводу, что объединение усилий «сыщиков», местных дворян, а также их соглядатаев на местах было достаточно эффективным, позволяло выследить и вернуть владельцам многих беглецов [39].
Определенное значение имело взыскание зажилых денег с укрывателей беглых. Обращение к документам показывает, что установления закона о сборе зажилых денег применялись на практике. При сыске с 1651 по 1654 год беглых государственных сошлых крестьян Заонежских и Лопских погостов было возвращено на прежние места 580 крестьянских семей, за которых с помещиков взыскали зажилых денег 8680 руб. 6 алтын 1 деньгу [40].
После воцарения Петра I в 1689 году в очередной раз в работе по поиску беглых крестьян наступил спад, многие сыщики были отозваны. Количество беглых снова начало увеличиваться. Толчком к переменам в данном случае была челобитная служилых людей московских и городовых чинов, поданная в начале 1691 года. Челобитчики напоминали, что в 1689/90 г. ими подана челобитная о посылке сыщиков, но указа о направлении сыщиков не последовало. Между тем многие дворовые люди и крестьяне убежали от дворян, «не хотят полковые нужды терпеть», работать на них и платить оброки. У многих из дворян беглые сожгли «домишки и деревнишки» и, «собрався великим собраньем, ко многим нашей братье в домы приезжают и женишек наших и детишак побивают до смерти и домишки наши грабят и разоряют без остатка». В характеристике степени ожесточения классовой борьбы крестьянства авторы челобитья не были далеки от действительности. Имеющиеся в нашем распоряжении документальные свидетельства говорят о том, что к 80-м годам наметился резкий подъем классовой борьбы крестьян, одной из ведущей форм которой были массовые побеги на юг, включая Дон [41].
Массовый характер апелляций дворянства определил собою реакцию правительства. Пометой на челобитной 27 марта 1691 года было велено «указ чинить боярину Т. Н. Стрешневу с товарищи». Четыре дня спустя, 31 марта, указ был принят: «Великие государи указали послать сыщиков в те городы ис приказов, которые где ведомы, и о том из Разряду послать памяти в Казанский приказ, в Приказ Большого дворца, в Новгородский приказ». И в данном случае, как обычно, сыщики были посланы в осенне-зимнее время, т. е. в новом 1691/92 г.
В течение 1690-х годов сыск беглых крестьян и холопов не сходил с повестки дня внутриполитических мероприятий правительства, а в конце десятилетия правительство Петра I сделало шаг в направлении дальнейшей законодательной разработки норм сыска и прикрепления беглых крестьян. Эти новые мероприятия были вызваны, с одной стороны, усилением побегов крестьян на юг, в особенности на Дон, в результате Азовских походов и, с другой стороны, обострением внутриполитической обстановки, проявлением чего были заговор стрелецкого полковника Циклера и восстание стрельцов в 1698 году.
После единоличного воцарения Петра I был принят еще один именной царский указ от 14 марта 1698 года «О наказаниях и взысканиях за держание беглых людей и крестьян» [42], который окончательно закрепил политику государства в отношении беглых крестьян и преследования их укрывателей. В нем практически полностью были подтверждены требования указов 1683 года, а также в очередной раз была ужесточена ответственность владельцев поместий и вотчин за укрывание беглых холопов и крепостных, однако была введена новая санкция против укрывателей — конфискация поместий в пользу государства. То есть проводимая политика борьбы государства с беглыми крестьянами в XVII веке получила свое логическое завершение.
Подведем некоторые итоги. Во второй половине XVII века был создан своеобразный кодекс сыска беглых, который стал правовой основой системы государственно организованного сыска беглых крестьян на практике. Узаконение сыска беглых как непременной функции сыщиков и воевод получило закрепление в последующем законодательстве и явилось одной из существенных сторон организации сыска беглых второй половины XVII века.
Одной из краеугольных основ крепостного права России в XVII веке был поиск и возвращение беглых крестьян. Установлено, что массово крестьяне впервые побежали в середине 1650-х годов, что было вызвано отсутствием многих землевладельцев в своих имениях во время войны со Швецией.
Основными причинами бегства крестьян мы считаем: тяжелейшее, порой невыносимое экономическое положение в поместье или вотчине; перманентное нарушение чести и достоинства крепостных крестьян и холопов их владельцами; значительное улучшение их условий жизни в новых землях, по сравнению с крепостной неволей; нередкое отсутствие владельцев имений и вотчин ввиду их привлечения на военную и государственную службу; переманивание к себе крепостных крестьян, принадлежащих дворянам, крупными вотчинниками, где были более сносные условия проживания и меньше налогов и поборов.
-
1. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. Кн. II. М., 1954. С. 379.
-
2. Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. Разряда. Московский стол, стлб. 310/3. Л. 1—10.
-
3. Там же. Л. 11—15.
-
4. Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина // Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 84.
-
5. Шевченко М. М . История крепостного права в России. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1981. С. 117.
-
6. Там же.
-
7. Лакиер А. О кабалах и кабальных книгах // Санкт-Петербургские ведомости. 1850. 15 апр. № 86. С. 347—348.
-
8. Новосельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве второй половины XVII века // Тр. Ин-та истории РАНИОН. М., 1926. Т. 1. С. 331.
-
9. Полный свод законов Российской империи (далее — ПСЗ РИ). СПб., 1830. Т. 1, № 151.
-
10. Скляр И. М. Указ. соч. С. 85.
-
11. Базанов И. А. Вотчинный режим в России: его происхождение, современное состояние и проект реформ. Томск : Тип СПб. т-ва печатного дела, 1910. С. 111—114.
-
12. РГАДА. Ф. Разряда. Московский стол, стлб. 310/2. Л. 1—6.
-
13. РГАДА. Ф. Приказные дела старых лет. № 207; Новосельский А. А. Указ. соч. С. 335—336.
-
14. Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина // Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 114.
-
15. Там же. С. 78.
-
16. Из одного села Майвы было возвращено более 340 человек. Из их числа 90 % было возвращено свияжским и казанским дворянам. Всего из патриарших владений возвращено беглых до 1000 человек ( Новосельский А. А. Указ. соч. С. 336).
-
17. Там же.
-
18. Каштанов А. М. Отдаточные книги Троице-Сер-гиева монастыря 1649—1650 гг. // Ист. архив. 1953. Т. VIII. С. 198.
-
19. Новосельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве во второй половине XVII века… С. 339.
-
20. Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина // Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 233.
-
21. См.: Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. М.—Л. : Изд-во АН СССР, Ленингр. отд-ние, 1962. С. 41—43.
-
22. Государственная Публичная библиотека (далее — ГПБ). Собр. поступлений 1956 г. № 53. Л. 48 об. — 50 об.; ПСЗ I. № 333.
-
23. Новосельский А. А. Указ. соч. С. 352; Скляр И. М. Указ. соч. С. 82.
-
24. РГАДА. Ф. Поместного приказа, записная книга указам 13. Л. 25. Указ 10 июня 1699 г.
-
25. ПСЗ РИ. Соборное Уложение. Гл. XV. Ст. 5.
-
26. РГАДА. Ф. Поместного приказа, стлб. Вотчинной записки 18911/81. Л. 1—4. На обороте челобитной — подписи 74 человек.
-
27. Там же. Л. 1—2.
-
28. Там же. Л. 3.
-
29. Новосельский А. А. Указ. соч. С. 331.
-
30. О взыскании с помещиков и вотчинников по 20 рублей в год за беглых крестьян — Указ царей Ивана и Петра // ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 985.
-
31. Сыщиков наказ. Указ царей Ивана и Петра, приговоренный Боярской Думой от 2 марта 1683 года // ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 998.
-
32. Семевский М. Историко-юридические акты. Чтения Моск. общ. ист. и древн. 1869. Кн. 4. С. 38.
-
33. РГАДА. Ф. Разрядного приказа. Приказной стол, стлб. 409. Л. 236—237.
-
34. Там же. Столбцы разных столов. № 138. Л. 135.
-
35. РГАДА. Ф. Разряда. Приказной стол, стлб. 272. Л. 636.
-
36. РГАДА. Ф. Поместного приказа. Воронежские акты. Кн. 2. Воронеж, 1852. С. 142—143.
-
37. Описание документов и бумаг архива Министерства юстиции. СПб., 1896. Т. 18. С. 213.
-
38. ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2. С. 509.
-
39. Новосельский А. А. Отдаточные книги беглых, как источник для изучения народной колонизации Руси в XVII веке // Тр. историко-архивного ин-та. М., 1946. Т. 2. С. 188.
-
40. Булыгин И. А. Монастырские крестьяне в первой четверти XVIII века. М. : Наука, 1977. С. 133.
-
41. РГАДА. Ф. Поместного приказа, стлб. Вотчинной записки 18911/81. Л. 175—177.
-
42. О наказаниях и взысканиях за держание беглых людей и крестьян // ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 1693.
Список литературы Борьба органов государственного сыска с беглыми крестьянами и холопами во второй половине XVII века
- Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. Кн. II. М., 1954. С. 379.
- Российский государственный архив древних актов (далее -РГАДА). Ф. Разряда. Московский стол, стлб. 310/3. Л. 1-10.
- Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина//Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 84.
- Шевченко М. М История крепостного права в России. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1981. С. 117.
- Лакиер А. О кабалах и кабальных книгах//Санкт-Петербургские ведомости. 1850. 15 апр. № 86. С. 347-348.
- Новосельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве второй половины XVII века//Тр. Ин-та истории РАНИОН. М., 1926. Т. 1. С. 331.
- Полный свод законов Российской империи (далее -ПСЗ РИ). СПб., 1830. Т. 1, № 151.
- Скляр И. М. Указ. соч. С. 85.
- Базанов И. А. Вотчинный режим в России: его происхождение, современное состояние и проект реформ. Томск: Тип СПб. т-ва печатного дела, 1910. С. 111-114.
- РГАДА. Ф. Разряда. Московский стол, стлб. 310/2. Л. 1-6.
- РГАДА. Ф. Приказные дела старых лет. № 207; Новосельский А. А. Указ. соч. С. 335-336.
- Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина//Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 114.
- Из одного села Майвы было возвращено более 340 человек. Из их числа 90 % было возвращено свияжским и казанским дворянам. Всего из патриарших владений возвращено беглых до 1000 человек (Новосельский А. А. Указ. соч. С. 336)
- Каштанов А. М. Отдаточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649-1650 гг.//Ист. архив. 1953. Т. VIII. С. 198.
- Новосельский А. А. Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве во второй половине XVII века.. С. 339.
- Скляр И. М. Из истории политики правительства царя Алексея Михайловича по крестьянскому вопросу накануне восстания Степана Разина//Уч. зап. Киргизск. гос. заочн. пед. ин-та. 1959. Т. IV. С. 233.
- Маньков А. Г Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. М.-Л.: Изд-во АН СССР, Ленингр. отд-ние, 1962. С. 41-43
- Государственная Публичная библиотека (далее -ГПБ). Собр. поступлений 1956 г. № 53. Л. 48 об. -50 об.; ПСЗ I. № 333.
- Новосельский А. А. Указ. соч. С. 352; Скляр И. М. Указ. соч. С. 82.
- РГАДА. Ф. Поместного приказа, записная книга указам 13. Л. 25. Указ 10 июня 1699 г.
- ПСЗ РИ. Соборное Уложение. Гл. XV. Ст. 5.
- РГАДА. Ф. Поместного приказа, стлб. Вотчинной записки 18911/81. Л. 1-4. На обороте челобитной -подписи 74 человек.
- О взыскании с помещиков и вотчинников по 20 рублей в год за беглых крестьян -Указ царей Ивана и Петра//ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 985.
- Сыщиков наказ. Указ царей Ивана и Петра, приговоренный Боярской Думой от 2 марта 1683 года//ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 998.
- Семевский М. Историко-юридические акты. Чтения Моск. общ. ист. и древн. 1869. Кн. 4. С. 38.
- РГАДА. Ф. Разрядного приказа. Приказной стол, стлб. 409. Л. 236-237.
- РГАДА. Ф. Разряда. Приказной стол, стлб. 272. Л. 636.
- РГАДА. Ф. Поместного приказа. Воронежские акты. Кн. 2. Воронеж, 1852. С. 142-143.
- Описание документов и бумаг архива Министерства юстиции. СПб., 1896. Т. 18. С. 213.
- ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2. С. 509.
- Новосельский А. А. Отдаточные книги беглых, как источник для изучения народной колонизации Руси в XVII веке//Тр. историко-архивного ин-та. М., 1946. Т. 2. С. 188.
- Булыгин И. А. Монастырские крестьяне в первой четверти XVIII века. М.: Наука, 1977. С. 133.
- РГАДА. Ф. Поместного приказа, стлб. Вотчинной записки 18911/81. Л. 175-177.
- О наказаниях и взысканиях за держание беглых людей и крестьян//ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 2, № 1693.