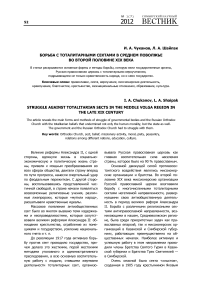Борьба с тоталитарными сектами в Среднем Поволжье во второй половине XIX века
Автор: Чуканов Иван Альбертович, Шайпак Леонид Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются основные формы и методы борьбы, которую вели государственные органы, Русская православная церковь с тоталитарными вероучениями, подрывающими не только нравственность народа, но и само государство.
Православие, секта, вероучение, миссионерская деятельность, нравоучение, благочестие, крестьянство, межнациональные отношения, образование, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14113623
IDR: 14113623
Текст научной статьи Борьба с тоталитарными сектами в Среднем Поволжье во второй половине XIX века
Великие реформы Александра II, с одной стороны, вдохнули жизнь в социальноэкономическую и политическую жизнь страны, привели к мощным преобразованиям во всех сферах общества, двигали страну вперед по пути прогресса, нанесли смертельный удар по феодальным пережиткам. С другой стороны, воспользовавшись представленной частичной свободой, в стране начали появляться всевозможные религиозные учения, различные лжепророки, которые «мутили народ», расшатывали нравственные идеалы.
Массовое появление антиобщественных сект было во многом вызвано теми издержками и несправедливостями, которые сопутствовали великим реформам Александра II: обнищание крестьянства, ограбление их помещиками и государством, усиление национального гнета и т. п.
До революции 1917 года активную борьбу против сект проводило государство, причем делало это жесткими, порой жестокими методами уголовного и административного преследования, а всю основную воспитательную работу с людьми, ставшими жертвами деятельности тоталитарных сект, организо- вывала Русская православная церковь как главная воспитательная сила населения страны, которое было на 90 % православным.
Основной движущей силой противосек-тантского воздействия являлись миссионерские организации и братства. Во второй половине XIX века миссионерские организации Русской православной церкви возглавили борьбу с многочисленными тоталитарными сектами негативной направленности, развернувшими свою антиобщественную деятельность в период великих реформ Александра II. Борьба с различными религиозными сектами антиправославной направленности, возникающими в нашем, Средневолжском регионе, была среди приоритетных задач как православных епархий, так и миссионерских организаций в Казанской и Симбирской губерниях, работающих преимущественно на общественных началах. Наиболее активную и успешную работу в этом направлении проводили члены Братства Святого Гурия в Казанской губернии и Братства Трех Святителей — в Симбирской.
Очень опасной была секта «хлыстов», созданная в 1905 году крестьянином Яковым из села Шакурово в Царевококшайском уезде Казанской губернии. Провозгласив себя «ревнителями благочестия», сектанты завлекали в свои ряды сотни обманутых крестьян, которые бросали свои семьи и устремлялись в неизвестность за новоявленным «пророком». Брак сектанты считали грехом, в результате распадались многие семьи. Посты «хлысты» распространяли не только на себя и на свои семьи, но и на скот и мелкую птицу. Собираясь в уединенных местах, «хлысты» занимались отправлением оргий, святотатствовали. Две уединенно стоящие избы в селе Шакуро-во они объявили «монастырем» и превратили в место сборищ. Занимаясь антиобщественной деятельностью, секта отвлекала крестьянское население от общественно полезного труда. Необходимо было принять срочные меры по нейтрализации негативного влияния сектантов на духовность местного населения края, вырвать крестьян из цепких лап главарей сектантов, вернуть многих из них в свои семьи [1, л. 66].
Православными миссионерами был проведен анализ условий, которые приводили к тому, что крестьяне, как русские, так и представители коренных народов края, оказывались восприимчивыми к «сектантству». В результате было выяснено, что в основе этого явления лежит ряд причин. Среди них главными являлись непонимание и незнание крестьянским населением основных постулатов христианской православной веры, редкое посещение христианской церкви (по большим праздникам), а также огромное влияние язычества на жизнь местного населения. В немалой степени негативному положению дел способствовал тот факт, что многие крестьяне имели смутные представления о христианских Таинствах, которые в большинстве своем носили бессознательный характер.
Проведенные в крестьянской массе беседы показали, что люди в основном не понимали сам дух христианства, в результате чего многие христианские понятия отождествляли с языческими. Так, к понятию о Боге как о «едином высочайшем существе, Творце мира» они присоединяли языческие понятия о «второстепенных божествах», которые переносили на Святую Матерь и Святых Угодников. Более того, крестьяне представляли Бога не только как «Высочайшее Существо», всемогущее божество, наказывающее за грехи и другие проступки, но и как «покровителя» и «хранителя» земли, урожая, скота (вотяки-черемисы) или хранителя — покровителя людей (чуваши). Доходило до того, что в селе Ишаки христиане-чуваши поклонялись святому Николаю Чудотворцу как языческому божеству и считали его также «карающим» божеством [1, л. 66 об.].
Лавирование христиан-чувашей между язычеством и православием проявлялось также во внешних признаках: отправлении обрядов и таинств по принуждению, отказе от ношения нательного креста и т. п. [1, л. 67 об.]. Исследование показало, что «двоеверие» было достаточно распространено в Поволжских губерниях. Только в Казанской губернии двоеверцев было несколько десятков тысяч [2, л. 101—102].
Обследования, проведенные миссионером А. Протодиаконовым среди вотяков-черемисов в Казанском крае, выявили аналогичную картину. Это и жертвоприношения животных, и отправление христианских обрядов с присутствием элементов язычества.
Православные миссионеры в результате обследования сделали важный вывод: чтобы эффективно бороться с антиобщественными антихристианскими сектами, необходимо укрепить православных христиан в правоте христианской веры и отвратить их от язычества.
Наряду с тем, что нестойкие христиане, исповедуя элементы язычества, легко становились добычей настоятелей антиобщественных религиозных сект, православным миссионерам пришлось бороться и с другой опасностью: массовым переходом православных христиан в язычество. В наибольшей степени это касалось черемисов (марийцев) Казанского края. Они создали свой языческий культ « Кугу сорта » , что в переводе с черемисского дословно означало «большая свечка», так как непременным атрибутом богослужения являлась большая восковая свеча [1, л. 68]. Эта языческая секта представляла не меньшую опасность для общества, нежели секта «хлыстов», легко заманивая в свои сети легковерных крестьян. Ее жертвами стали несколько тысяч крестьян в разных селах: Рон-жинском, Нурминском, Шеньшинском.
Используя христианскую риторику, главари сектантов-язычников вбивали в сознание своей паствы догматы наподобие тех, что свое происхождение языческая секта «Кугу сорта» ведет якобы от Адама. Они пытались найти оправдание своей «богоугодной» деятельности в Ветхом Завете, то есть опирались не на Священное писание, а на предание. Сектанты-язычники также отрывали легковерных крестьян от своих хозяйств, их деятельность вела к распаду семей, более того, они принуждали крестьян вносить вступительный взнос в «братство» своим имуществом. Жрецы нового культа носили одежду белого цвета. Они запрещали своим прихожанам посещать православную церковь и тем более поддерживать ее материально.
«Кугу сорта» стремилась между молитвами вбить в сознание своих прихожан негативные националистические идеи, натравить черемисов на русское население, определяя его представителей как «враждебных пришлых людей». Главными аргументами сектантов в пользу отлучения их прихожан от православной церкви было стремление убедить народ в том, что «вера христианская непонятна их языку», «не соответствует преданиям предков», в то время как в культе «Кугу сорта» все понятно. Представляется, что эта секта была выражением националистических чаяний части представителей черемисской народности.
Руководил сектой бывший учитель церковно-приходской школы, черемис по национальности, В. Делянов. В полемике с православными миссионерами он пытался оправдать появление своей языческой секты всей предшествующей практикой преследования его единоверцев за язычество, недостаточной удовлетворенностью религиозного чувства, а также высокими денежными поборами, практикуемыми представителями православной церкви [1, л. 70].
Не меньшую опасность для народной нравственности представляла религиозная секта штундистов , которая возникла в 1900 году в Мамадышском уезде. Ее вдохновителем были грамотный крестьянин Чекмарев и интеллигент из местных Кондрат Малеванный. Им также удалось в 1900—1905 гг. оболванить и заманить в свои сети сотни людей. Православному христианству они противопоставляли свое, «штундистское» вероучение, отрицающее роль И. Христа. В своих проповедях штундисты выражали протестные настроения крестьянской массы и поэтому пользовались у них определенной популярностью.
Местным миссионерам и приходским священникам пришлось прикладывать неимоверные усилия для того, чтобы разоблачить в глазах крестьян всю лживость штундистского учения [3, л. 6].
Всего в Симбирском и Казанском крае орудовало несколько крупных и мелких религиозных сект, борьба с которыми была чрезвычайно затруднительной и не пользовалась особой поддержкой со стороны местных органов власти [3, л. 29 об. — 30]. В 1914—1915 гг. в Царевококшайском уезде Казанской губернии в Мушеракском приходе появилась чрезвычайно опасная секта «Адам-Илень», которая на новом, более изуверском уровне практиковала кровавые языческие молебны с многочисленными жертвоприношениями животных. Борьба миссионеров с ней в связи с тем, что страна находилась в состоянии войны, была чрезвычайно затруднена [2, л. 42].
В ходе религиозно-нравственного просвещения сектантов и язычников священники-миссионеры вырабатывали свои педагогические методики работы. Определенных успехов добился в борьбе с язычеством священник И. А. Темперов. По мнению Н. И. Иль-минского, он накопил огромный педагогический опыт, который позволил ему организовать успешную противоязыческую работу. Сутью его педагогической новации стал так называемый « опыт приобщения ». Когда священник с целью организации церковноприходской школы прибыл в волость, населенную преимущественно язычниками, они встревожились. Однако отец Темперов установил со многими семьями дружеские отношения, основанные на принципах партнерства и взаимоуважения, и начал агитацию.
Вторым шагом миссионера в ходе организации противоязыческой деятельности стало сопоставление веры языческой и веры христианской, то есть поиск точек соприкосновения, чтобы доказать своим подопечным, что христианство является учением, которое по отношению к язычеству выступает в качестве правопреемника. В частности, он убеждал их в том, что в религиозных воззрениях и обрядах жертвоприношения, поддерживаемых в массах язычников шаманствующими элементами, есть некоторые черты, «подобные религии патриархальной». И. А. Темперов сумел внушить уважение к себе со стороны язычников, которых, по образному выражению
-
Н. И. Ильминского, со времен М. М. Сперанского «всячески… игнорировали и преследовали», всегда ставили «ниже людей, исповедующих ислам».
Другим важным подходом, при помощи которого отец Темперов сумел привить к себе уважение язычников, была критика «действия русской администрации и русской интеллигенции по «пренебрежению» к вере язычников» [4, с. 11].
По мнению Темперова, Авраам в самом начале Евангелия состоит как родоначальник Христа, следовательно, имя Авраама входило в «ветхозаветную священную историю». В результате священник Темперов убедил большинство язычников в том, что они «находятся перед «дверьми» церкви Христовой». Когда святому отцу удалось войти в полный психологический контакт с язычниками, он начал постепенно приобщать их к таинствам православной веры: преподавать священную историю, Катехизис. После этого стало возможным начать приобщать язычников к основным догматам православной веры, учить их молитвам и правильно участвовать в отправлении служб.
Опыт религиозно-педагогической деятельности Темперова оказался удачным. Начался массовый переход язычников в православие, в Алексеевской церкви бывшие язычники даже составили церковный хор. Проведенный Н. И. Ильминским анализ деятельности отца Темперова по приобщению язычников к православию показал, что эта работа была бы проведена более успешно, если бы миссионер-проповедник знал языки коренных народов, которые он приобщал к православию (в данном случае речь шла о представителях черемисов) [4, с. 11].
Как показывает исследование, проведенное Н. Х. Юмакуловым, в Буинском уезде наиболее массовые случаи перехода в язычество были отмечены в селах Средние и Новые Алгаши. С целью сдерживания и в последующем пресечения этого процесса учителям-священнослужителям из числа чувашей, преподающим в православных «инородческих» школах, было также предписано расширить круг привлеченных в «истинную веру» из числа лиц коренных национальностей, шире использовать в этих целях возможности проведения проповедей на чувашском языке [5, с. 142—148].
Наибольших успехов в этой деятельности в вышеназванный период удалось добиться учителям и священнослужителям церковноприходской школы в селах Три Избы и Ше-мурша, где огромные массы окрестных крестьян принимали участие в крестных ходах, обрядах, отдали своих детей для обучения и воспитания в православном духе. Многие бывшие язычники из числа чувашей под воздействием православной контрпропаганды приняли православие.
И. Я. Яковлев постоянно радел об увеличении сети своих школ. Если он видел, что какая-либо сельская школа не справляется с наплывом учащихся, то немедленно обращался с ходатайством к администрации о расширении действующих школ, как это было, например, в 1896—1897 гг. с Кошкинским училищем, которое благодаря его стараниям из одноклассного было переведено в двухклассное [6]. Подобные мероприятия были проведены и в других уездах губернии. В результате к 1915 году количество представителей «нерусских» народов, исповедовавших язычество, значительно сократилось и составило в целом по губернии 670 человек [7].
В Казанской губернии и в начале XX века продолжалась борьба с язычеством методами религиозно-нравственного воздействия. Много сил борьбе с язычеством отдавал и миссионер Царевококшайского уезда Казанской губернии А. Протодиаконов. Под его воздействием большинство язычников из числа русских и чувашей постепенно отошли от языческих обрядов, стали регулярно посещать храмы, соблюдать посты и Таинства, служить молебны [1, л. 65].
Миссионер Зайков только за один 1906 год совершил 9 длительных поездок по районам, где наиболее интенсивно велась деятельность язычников. Он дом за домом обходил жилища язычников, вел с ними многочасовые беседы, переубеждал людей, главный упор делая на «дикий, варварский характер» их религиозных воззрений. При этом миссионер использовал следующую методику: в случае, если встреча с конкретными людьми организована впервые, он начинал с разговоров на общие темы, чтобы расположить людей к себе, добиться доверительности во взаимоотношениях. В другой раз, посещая те же семьи, Н. Зайков сразу переходил на религиозно-нравственные темы, так как аудитория уже была подготовленной [8, л. 99 об.].
Иеромонах Иоанн (С. Красильников), наоборот, в своей работе по переубеждению язычников делал главный упор на создание приходов и организацию православной службы там, где были сильны позиции язычников. Постепенно у него появлялись единомышленники, крестьяне, твердо уверовавшие в учение Христа, которые помогали ему вразумлять своих язычников-односельчан [8, л. 100].
Особенно важна была противоязыческая деятельность духовенства так называемых «инородческих приходов», так как главной жертвой проповедников язычников-волхвов были крестьяне чувашской и черемисской национальностей. Если миссионеры осуществляли свою деятельность в период краткосрочных поездок в наиболее «беспокойные места», то настоятели «инородческих» приходов эту работу вели постоянно. Для руководства данными приходами епархиальное руководство края стремилось подбирать наиболее грамотных и сильных духом духовных наставников.
Священников чувашских и черемисских приходов в таких неспокойных уездах, как Царевококшайский, Спасский и Мамадышский Казанской губернии, отличало глубокое знание паствы, прихожан, каждой семьи, владение информацией об их религиозно-нравственном состоянии. Сельские священники знали о мировоззрении и религиозно-нравственных запросах каждого крестьянина. Это помогало им вести целенаправленную, адресную противоязыческую работу. В немалой степени интересам дела способствовало то, что сельские религиозно-духовные наставники знали все условия сельского быта, особенности культуры и традиций, обычаев той или иной народности. Они общались со своими прихожанами на их родном языке, знали местные диалекты. Важной особенностью их деятельности было то, что они осуществляли свою работу в тесном взаимодействии с приезжими миссионерами [8, л. 101—103].
Организуя работу подобным образом, Духовная Консистория стремилась контролировать духовный мир граждан, исповедующих православие, воспитывать их в духе преданности самодержавию.
Православные миссионеры в духовной консистории выполняли роль своеобразной «ударной силы», когда необходимо было поставить духовный заслон на пути распростра- нения язычества либо нравоучения какой-либо враждебной религиозной секты. Тогда для оказания помощи местным священникам и приезжали высокоподготовленные в теоретическом, педагогическом и теологическом отношении миссионеры. Применялся метод религиозно-воспитательной работы «вдвоем», когда по отдаленным деревням, наиболее подверженным воздействию враждебной сектантской или языческой пропаганды, разъезжали местный приходской священник и миссионер. Они организовывали проведение вечерен, всенощных бдений, общественных молебнов с чтением акафиста. Важным фактором влияния на вероотступников была деятельность учителей местных школ и их учеников [8, л. 101 об.].
В начале XX века деятельность миссионеров по борьбе с язычеством получила новый импульс, что было обусловлено выходом 12 февраля 1901 года новой инструкции миссионерским организациям, о чем уже говорилось ранее.
Священники-воспитатели применяли обновленные методики противоязыческого воздействия. Колеблющихся активно знакомили с устройством православных храмов, церковными традициями, объясняли значение христианских Таинств, рассказывали о Законе Божьем, его значении для нравственности и всей жизни гражданина России. Показывая иконы, говорили об их чудотворных и целебных свойствах. Немалый интерес у потенциальных и реальных вероотступников вызывали красивые православные обряды: крестные ходы, всенощные бдения, церковные праздники. Главный вывод, который независимо друг от друга сделали многие священники-миссионеры: массовый переход православных христиан в язычество происходит не там, где активно проводится языческая пропаганда, а там, где не на должном уровне поставлена церковная служба [8, л. 55].
Другой вывод состоял в том, что с язычниками было работать гораздо легче, чем с исламскими религиозными фанатиками, которые практически не поддавались православному религиозно-воспитательному воздействию . Поэтому перед православными воспитателями была поставлена задача — учиться работать и с религиозными фанатиками [8, л . 55].
Постепенно усилиями подвижников-миссионеров при поддержке духовной конси- стории была создана достаточно эффективная воспитательно-педагогическая методика работы с язычниками-вероотступниками. Суть ее состояла в следующем. Определялся район, где позиции язычников-вероотступников были достаточно сильны. Работа начиналась с сел, где совместно проживали и православные, стойкие в своей вере, и вероотступники, склонные к переходу в язычество. Православный миссионер заводил близкое знакомство с одним из них, чтобы через него выйти на остальных. Встретившись со всей группой склонных к вероотступничеству, миссионер начинал говорить об общих вопросах жизни страны, губернии, конкретного населенного пункта, чтобы впоследствии подойти к главному вопросу — цели встречи. Цель этих предварительных бесед состояла в том, чтобы подготовить аудиторию к восприятию. Только после этого, дождавшись, пока кто-либо из приглашенных заведет разговор на религиозную тему, миссионер, не торопясь, доходчиво и убедительно старался показать собеседникам смысл их заблуждений [8, л. 66].
Практически во всех уездах Казанской губернии главным методом борьбы с сектантством и язычеством были беседы, проводимые в ходе посещений домов сектантов и язычников, а также помещение критических заметок о социальном вреде сектантства и язычества в местных газетах и журналах, в частности, в таком широко читаемом журнале, как «Истина» [3, л. 29—30].
Наиболее восприимчивыми к язычеству были черемисы, проживающие в Казанской губернии. В черемисском селе Уньжи Царево-кокшайского уезда возникла новая религиозная секта языческого толка. Возглавил секту крестьянин Оска Енсуткин. Ее вдохновителям удалось завлечь в нее несколько сотен крестьян — жителей деревни. 8—9 сентября 1915 года распоясавшиеся сектанты, несмотря на сложное военное время, устроили недалеко от села кровавое языческое мольбище.
Царевококшайский уездный миссионер отец Серафим (Тихон Ефремов), узнав об этом, вместе с сельским православным священником сумел организовать противодействие натиску сектантов. Первым делом они предприняли все меры для того, чтобы пресечь распространение ложного зловредного культа в соседние села. Для этого в деревне были организованы религиозно-воспитатель- ные беседы с крестьянами; с прихожанами в местном православном храме были проведены проповеди, направленные против язычества. Во многом успеху дела способствовало знание религиозными воспитателями местного черемисского языка, на котором было организовано общение с населением.
В открытой принародной полемике, на участие в которой согласились организаторы культа, уездному миссионеру и православному приходскому священнику удалось доказать несостоятельность заблуждений вдохновителей культа, опровергнуть все их доводы.
Деятельность прилегающих к деревне Уньжи приходов, для того чтобы не допустить распространения зловредного культа, усилиями приходских священников приобрела ярко выраженный миссионерский характер. Во всех церквях Царевококшайского уезда были проведены молебны во славу Русского Воинства, проливающего кровь на поле брани Великой войны, организованы крестные ходы. В результате крестьянство в массовом количестве стало покидать ряды сектантов [9].
После того как мерами миссионерского воздействия удалось стабилизировать обстановку в самом селе Уньжи, внимание миссионеров было направлено на население близлежащих населенных пунктов, так как среди его представителей было также немало граждан, склонявшихся к принятию «уньжинского язычества». С этой целью коллективом приезжих миссионеров совместно с приходскими священниками с потенциальными вероотступниками были проведены религиозновоспитательные беседы, в ходе которых людей убеждали в пагубности этого культа. Неоднократно было организовано торжественное всенощное бдение, в ходе которого на прихожан оказывало воздействие пение хора воспитанников Центральной уньжинской церковно-приходской школы Братства Святого Гурия, присутствовал епископ Чистопольский — представитель Братства Святого Гурия.
Во всех окрестных церквях были организованы проповеди на черемисском языке, выпущено несколько тысяч брошюр с воззванием к «черемисам-язычникам». Тем самым многие люди, которые планировали принять участие в языческих «мольбищах», были отвлечены от этой затеи [2, л. 11—12].
Неподалеку от «языческой рощи» приходскими священниками и миссионерами бы- ло организовано проведение новых молебнов в честь «героического русского воинства». Одновременно развернул работу миссионерский кружок, участниками которого стали крестьяне, неустойчивые в своей вере. Помощь миссионерам оказали и местные власти, обеспокоенные развитием религиозной ситуации. Их представители посетили миссионерские пункты и приходы. Важное внимание было уделено религиозно-нравственным беседам с русскими, живущими по соседству с черемисами, замеченными в вероотступничестве.
Большое значение придавалось занятиям по миссионерской проблематике в местных церковно-приходских и земских школах. Миссионеры выступили также в местных училищных советах с тем, чтобы их члены приняли участие в религиозно-воспитательной работе [2, л. 13].
Приведенный эпизод, раскрывающий механику деятельности миссионеров в сложной нравственно-религиозной ситуации, позволяет сделать вывод, что этих людей отличала убежденность в правоте своего дела, искренность в общении с людьми, умение убеждать, а также знание национальных особенностей черемисского населения и их быта. Другой вывод состоит в том, что во время проведения религиозно-воспитательной работы активно использовался военно-патриотический аспект. В этой работе активное участие принимали местные власти, учителя земских и церковно-приходских школ, которые оказывали моральную поддержку деятельности миссионеров.
В своей религиозно-воспитательной деятельности, направленной против язычников, миссионеры много внимания уделяли тем лицам, которые одновременно, являясь православными христианами, участвовали в языческих оргиях. Этих людей пытались приструнить разговорами о том, что они являются грешниками, святотатствующими перед «лицом Божьим», за что они сами и их дети, если они не изменят своего отношения к православной вере, подвергнутся воздействию «кары небесной», так как только в крещении «люди отделяются от дьявола и его наваждений».
Миссионер Тетюшского и Свияжского уездов отец Серафим совместно с приходскими священниками в этом же 1915 году организовал в районах, где были сильны языческие верования, проповеди на тему «Страда- ния Иисуса Христа», «Голгофская жертва». Одновременно были проведены литургии на черемисском и русском языках.
Как показала религиозно-педагогическая практика работы миссионеров, наибольшую активность язычники демонстрировали в дни своих «языческих» праздников, наиболее значимым из которых был «Ага-Тайрань». В этот день во всех приходах с православными организовывались проповеди на тему «Христианская служба как связь между Богом и людьми». В деревнях Новая и Зеда, где было много язычников, на «Ага-Тайрань» были организованы крестные ходы. Когда местные миссионеры узнали, что в деревне Курук-Умбал жители готовятся к празднованию «Ага-Тайрань», то немедленно организовали молебны, беседы о христианской вере и обрядах Православной веры, о святотатстве языческой кровной жертвы и обрядах причащения.
В наиболее беспокойных с точки зрения распространения язычества деревнях спешными темпами возводились православные храмы. Так, в мае 1915 года, несмотря на сложности военного времени, были возведены и освящены храмы в селах Морковь и Ка-рамасы [2, л. 16—17]. Уже в октябре 1915 года в этих храмах была проведена проповедь на тему «Бог наказал нас войной». Это говорит о том, что священники-миссионеры умели находить нужные убеждающие аргументы. Объектами миссионерских бесед в наиболее неспокойных районах становились ученики церковно-приходских и земских школ, прихожане местных храмов.
Перелом в противоязыческой миссионерской воспитательной работе начался 5 октября 1915 года. В этот день в помещении волостного правления при массовом скоплении народа состоялся интеллектуальный поединок между о. Серафимом и настоятелем языческого культа Оской Енсуткиным. В этом поединке уездный миссионер вышел победителем. Начался массовый выход крестьян из языческой секты. С целью закрепления достигнутого успеха в приходских храмах края в уезде были проведены поучения по проблемам «Обязанности честных христиан во время войны», «Божественные откровения». Только после достижения полного успеха в противостоянии с местными язычниками священнослужители в сопровождении значительного количества народа посетили «языческую ро- щу», где находились главные святыни язычников. Это было выражением успеха победителей [2, л. 18]. Одновременно была проведена разъяснительная работа о вреде для народной нравственности деятельности различного рода колдунов, ворожеек.
После достигнутого успеха по разоблачению деятельности языческой секты в деревне Уньжи объектом воздействия миссионеров стала полуязыческая деревня Малый Муше-ран, где позиции язычников были еще достаточно сильны. И в этом случае деятельность уездного миссионера строилась по ранее отработанному сценарию. Это и беседы о церковной молитве в языческих рощах, и распространение противоязыческой литературы в виде иллюстрированных книг и брошюр на религиозные темы, и беседы о «домостроительстве», «Страшном суде».
Основное внимание было уделено участию в открытой дискуссии с главарями язычества в открытой полемике. Это говорит о достаточно высоком уровне теоретической подготовки миссионеров, которые не боялись вступать в открытое теоретическое противоборство. При этом словесном «поединке», который состоялся в присутствии огромного количества народа, миссионер не только опроверг все доводы и аргументы противоположной стороны, но и многих убедил в ложности их взглядов. Надо сказать, что миссионера в этой беседе поддержали и защитили бывшие язычники, перешедшие в лоно православной веры. Следующим объектом деятельности миссионера стало село Нурма, жители которого также оказались под сильным влиянием сектантов из Уньжи [2, л. 18—19].
Деятельность миссионеров была сложной и достаточно опасной. В селе Нурма о. Серафим подвергся оскорблениям в доме язычников, куда его пригласили для беседы. Миссионерам нередко угрожали, даже избивали, им нередко приходилось преодолевать косность и непонимание чиновничества.
Для того чтобы убедить представителей власти в необходимости борьбы за чистоту народной нравственности, направленной против деятельности язычников и сектантов, уездным миссионерам нередко приходилось выступать перед представителями земских учреждений, местных органов власти. Подобные выступления, организованные миссионерами Братства Святого Гурия, состоялись пе- ред земскими деятелями Царевококшайского, Казанского уездов и других мест. Проведенный анализ показал, что именно в Царево-кокшайском уезде Казанской губернии проживали большинство из 2616 язычников, зарегистрированных в крае. Немалое количество (387 человек) проживало и в Казанском уезде.
Огромный вклад в миссионерскую деятельность в Цивильском и Чебоксарском уездах внес уездный миссионер отец Виктор Зайков. Эти уезды также были неблагополучны в нравственном отношении. Здесь активно велась сектантская и исламская пропаганда. Последовательность действий миссионера была также организована по схожему с Царе-вококшайским уездом сценарию. В первую очередь он создавал вокруг себя «организационное ядро» из людей, которые помогали ему в его нелегкой миссионерской деятельности. Затем он и его сподвижники организовывали посещение домов, где проживали вероотступники, проводил с ними религиознонравственные беседы, привлекал к этой работе грамотных крестьян [2, л. 19].
Одновременно организовывались беседы на миссионерские темы в церковно-приходских школах, при участии уездного миссионера проводились ревизии братских школ. Миссионером В. Зайковым использовались многие проверенные методы миссионерской религиозно-нравственной работы, которые имели следствием высокий педагогический эффект. Среди них можно назвать такие, как проведение проповедей миссионерской направленности во время богослужения в храмах, при исправлении треб (отец Дмитрий в г. Чистополе); проведение богослужений не только в праздничные и выходные, но и в будничные дни; распространение иллюстрированной религиозной литературы на русском и «инородческом» языках (из склада Казанской переводческой комиссии).
Среди педагогических методов религиозно-воспитательного воздействия, применяемых педагогом-новатором В. Зайковым, необходимо отметить проведение «специальных публичных бесед» с лицами, склонными к вероотступничеству. Беседы проводились в виде публичного спора с людьми, склонными к отпадению в язычество или ислам, на котором, с одной стороны, были миссионер и его соратники, а с другой — потенциальные вероотступники [2, л. 20—21].
Для нашего времени исключительно познавательными являются уроки борьбы, которую вела Саратовская консистория при активной поддержке Казанской духовной академии с ламаизмом в Калмыкии. В конечном итоге эта борьба была признана удачной и результативной . Для того чтобы уменьшить влияние калмыцких лам на жизнь народа Калмыкии, укрепить в этом районе российского Поволжья позиции Русской православной церкви, Святейшим Синодом было принято в 1889 году решение организовать в данном регионе деятельность православной миссии. Вначале в ряде хуторов на территории Калмыкии — Плетневе и Курдинове, а также в казачьей станице Кутейниковской были отрыты церковно-приходские школы миссионерской направленности. Возглавили эту борьбу миссионеры И. Левченко, А. Егоров, П. Чеми-нов. Для подготовки кадров миссионеров для местных православных священников в г. Казани были открыты миссионерские курсы .
Миссионерскую противоламаистскую деятельность в Калмыкии казанские миссионеры начинали осторожно. Они посещали калмыцкие семьи, вели беседы на религиозные темы, знакомились с бытом и нравами местного населения, изучали его этнические и исторические традиции. Миссионеры старались изолировать местное население от воздействия ламаистского духовенства, которое усиленно и изощренно сопротивлялось проводимой миссионерской деятельности. Возглавил миссионерскую работу в Калмыкии отец Никандр [10].
Переломным моментом во всей этой эпопее можно считать строительство в 1885— 1889 гг. православного храма на месте «языческой святыни» калмыков — «Гремучего колодца», где находилась священная для калмыков «бакша». Этот акт номинально обозначил победу православия «над язычеством». После этого началось массовое крещение калмыков по православному обряду.
Необходимо отметить, что многие ново-крещенные приняли православие в первую очередь из экономических соображений: они надеялись получить землю от русского правительства, так как сородичи, большинство из которых остались верными ламаизму, просто отвергли их. Немаловажным фактором, определившим их выбор, стала также умело организованная миссионерами религиозно-воспитательная работа, посредством которой уда- лось убедить новокрещенных в преимуществе православной веры над местными поверьями. Многим из вновь крещенных импонировала сама обстановка богослужения в построенных храмах, красота православных праздников и обрядов, строгое величие самой службы, а также возможность глубже приобщиться к достижениям европейской культуры [11].
Проведенный анализ показал, что в миссионерской деятельности отмечалось множество недостатков и недоработок. Во многом это было вызвано объективными причинами: недостаточным вниманием государственных органов к проводимой миссионерами работе, слабым финансированием, недостаточным числом квалифицированных миссионерских кадров. Чрезвычайная загруженность местных приходских священников своими прямыми обязанностями сужала их возможности в участии в миссионерской деятельности. Практика миссионерской работы показывала, что в таких неблагополучных в нравственном отношении уездах Казанской губернии, как Чистопольский, Царевококшайский, Мамадыш-ский, а также Буинский Симбирской губернии, миссионеры трудно справлялись со своими обязанностями, с большим трудом сдерживали натиск язычества и сектантства [2, л. 42]. В одном только Чистопольском уезде наблюдался прогрессивный рост количества язычников, общее число которых к 1915 году составило свыше 7 тысяч человек. Уездный миссионер явно не справлялся с таким объемом работы, и миссионерский совет планировал назначить в этот уезд дополнительного миссионера. К сожалению, эти планы не были реализованы в связи с событиями 1917 года.
Как показала вся имеющаяся практика религиозно-воспитательной работы, в противоборстве с язычниками средневолжским миссионерам удалось добиться наибольших успехов. Это объяснялось тем, что реально язычество и сектантство были наиболее опасным общественным явлением, представителей этих вероучений было относительно немного, и они не пользовались подавляющей поддержкой местного населения, а их деятельность носила локальный характер.
Именно в борьбе с язычниками и сектантами православному миссионерству удалось выработать и применить на практике наиболее действенные и эффективные формы и методы религиозно-нравственного воспитания.
-
1. Национальный архив Республики Татарстан (далее — НАРТ). Ф. 4. Оп. 1. Д. 125867.
-
2. НАРТ. Ф. 4. Оп. 148. Д. 373.
-
3. НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127975.
-
4. Ильминский, Н. И. Система народного, в частности, инородческого образования в Казанском крае / Н. И. Ильминский. СПб., 1885.
-
5. Юмакулов, Н. Х. Православное миссионерство в Среднем Поволжье в XIV—XIX вв. и его роль
в укреплении Вооруженных сил Российского государства / Н. Х. Юмакулов // Военнонаучный сб. Ульяновск : УФ ВАТТ, 2002. № 4.
-
6. Государственный архив Ульяновской области (далее — ГАУО). Ф. 99. Оп. 1. Д. 305. Л. 1.
-
7. ГАУО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 65. Л. 6 об.
-
8. НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125459.
-
9. НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 120764. Л. 8—10.
-
10. НАРТ. Ф. 4. Оп. 142. Д. 83. Л. 16.
-
11. НАРТ. Ф. 4. Оп. 132. Д. 18. Л. 39—45.
Список литературы Борьба с тоталитарными сектами в Среднем Поволжье во второй половине XIX века
- Национальный архив Республики Татарстан (далее -НАРТ). Ф. 4. Оп. 1. Д. 125867.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 148. Д. 373.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127975.
- Ильминский Н. И. Система народного, в частности, инородческого образования в Казанском крае/Н. И. Ильминский. СПб., 1885.
- Юмакулов Н. Х. Православное миссионерство в Среднем Поволжье в XIV-XIX вв. и его роль в укреплении Вооруженных сил Российского государства/Н. Х. Юмакулов//Военно-научный сб. Ульяновск: УФ ВАТТ, 2002. № 4.
- Государственный архив Ульяновской области (далее -ГАУО). Ф. 99. Оп. 1. Д. 305. Л. 1.
- ГАУО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 65. Л. 6 об.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125459.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 120764. Л. 8-10.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 142. Д. 83. Л. 16.
- НАРТ. Ф. 4. Оп. 132. Д. 18. Л. 39-45.