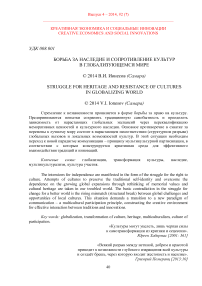Борьба за наследие и сопротивление культур в глобализующемся мире
Автор: Ионесов Владимир Иванович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Визуальная коммуникация как креативная практика
Статья в выпуске: 2 (7) т.4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Стремление к независимости проявляется в форме борьбы за право на культуру. Предпринимаются попытки сохранить традиционную самобытность и преодолеть зависимость от нарастающих глобальных экспансий через переквалификацию меморативных ценностей и культурного наследия. Основное противоречие в схватке за перемены к лучшему миру состоит в нарастающем несоответствии (структурном разрыве) глобальных вызовов и локальных возможностей культур. В этой ситуации необходим переход к новой парадигме коммуникации - принципу мультикультурной партисипации, в соответствии с которым конструируется креативная среда для эффективного взаимодействия традиций и инноваций.
Глобализация, трансформация культуры, наследие, мультикультурализм, культура участия
Короткий адрес: https://sciup.org/14238981
IDR: 14238981 | УДК: 008.001
Текст научной статьи Борьба за наследие и сопротивление культур в глобализующемся мире
«Культуры могут уцелеть, лишь черпая силы к самотрансформации из критики и сецессии».
Юрген Хабермас [2001: 361]
«Всякий разрыв между истиной, добром и красотой приводит к возможности глубокого извращения всей культуры и создаёт брешь, через которую входит жестокость и насилие».
Григорий Померанц [2013:10]
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
То, что культура в наши дни проходит через пороги испытаний трудно оспорить. Драма социальных перемен, охватившая современный мир, всё чаще трактуется как кризис культуры. Особенностями нашего времени становятся неопределённость, турбулентность и смятение. Вместе с тем, нельзя не заметить, что о кризисе культуры говорили и в предшествующие времена, и всегда страстно и отчаянно*. Однако есть у современной транскультурной ситуации, по крайней мере, одно принципиальное отличие. Мир ещё никогда не был таким взаимосвязанным и уплотнённым, и таким разрозненным одновременно. Уплотнённость выражается в «движении к себе» – в том, что каждая культура озабочена сохранением своих прав и культурных отличий и потому сосредоточена на стягивании своих традиций и возможностей, т.е. на «удержании бытия», всего того, чем культура располагает. Разрозненность (разряжённость) проявляется в «движении от себя», в «растягивании себя» или даже в откреплении от себя – это своего рода путь к открытому, неосвоенному, чужеродному, то есть к иной культурной самобытности, к той реальности, к которой ещё только предстоит прикрепиться. Каждый из этих побуждающих императивов культуры создаёт своё поле напряжения. Но именно в этой двуаспектной артикуляции формируется сила притяжения культур и развивается опыт преодоления межкультурной отчуждённости. Ведь осознание своей единичности и разрозненности предполагает признание целостности и взаимозависимости мира.
Современность представляет собой предельно насыщенное пространство межкультурного взаимодействия. При этом глобальная трансформация коммуникативного процесса обретает характер социальной драмы и культурного шока. В центре событий – притязания культуры, борьба за наследие и идентичность. Один из новых фильмов бразильско-американского режиссёра и документалиста Яры Ли носит красноречивое название «Культуры сопротивления» / “Cultures of Resistance” (2010). Однако будет точнее трактовать современную межкультурную напряжённость, прежде всего как сопротивление культур .
Сопротивление культур есть всегда опыт и переживание, борьба и вызов. Само по себе сопротивление испытывает культуру на прочность. Вместе с тем, сопротивление выступает мощным генератором трансформации и реорганизации всей системы межкультурной коммуникации. Сопротивление – свойство любой живой субстанции, необходимое условие жизнеспособности и выживания. По этой причине, в сопротивлении следует видеть не только моменты драмы и конфликта, но и установку на преодоление, обновление и креативность. Ведь известно, что опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление. Не будь 41
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS сопротивления, неоткуда было бы взяться межкультурному диалогу, сотворчеству и модернизации.
Несмотря на межкультурную напряжённость (а, скорее, благодаря ей!), роль культуры в современном мире последовательно и динамично возрастает. Издаётся всё больше специализированных журналов, организовывается симпозиумов, защищается диссертаций и пр. Это свидетельствует об усиливающемся значении культуры, её востребованности в социальных преобразованиях. Но вместе с тем и о том, что именно современность демонстрирует нам катастрофическую нехватку культуры . Ведь замечать и ценить мы начинает тогда, когда нам чего-то недостаёт, когда мы что-то теряем.
Нехватка культуры в современном мире вызвана рядом причин : 1) переходным процессов глобализующейся культуры (рост числа переходов); 2) ускорением темпов преобразований (безудержный рост технологий и пр.); 3) неравномерностью состояний и транспозиций культур, стартовых возможностей культур к преобразованиям и в целом незавершённостью процесса интеграции (глобализации); 4) общей демократизацией миросистемы (каждая культура хочет быть сама собой, отсюда – борьба за идентичность и права наций на самоопределение); 5) индивидуализацией культурных практик (культура всё сильнее расщепляется на отдельные группы, интересы, личности, сетевые сообщества пр.); 6)
мультиструктурными и мультитрансформационными сдвигами в формировании мобильных и динамичных поликультурных социальных систем (стратегии мультикультурализма); 7) необходимостью перехода к инновационным коммуникативным практикам, к креативным моделям диалога культуры с миром природы и вещей, конструирование новой виртуальной реальности.
Глобализация не только расширяет границы современности, но и расщепляет и детализирует мир. Встреча глобального с локальным всё чаще оборачивается жестким столкновением, ибо скорость их сближения достигает критических отметок. Всё это не может не провоцировать конфликты и протестные вызовы. Что же мы видим? Наметившийся переход от сопротивления культур к культурам сопротивления, от «восстания масс» [Ортега-и-Гассет, 2002] к «восстанию меньшинств» [Ионин, 2013]. Мир всё чаще потрясают революционные по своим последствиям события (примеры: повстанческие движения и гражданские войны на Ближнем Востоке, раскол и кровопролитие на Украине и др.). Появился даже новый термин «глобальная революция» [Гидденс, 2004].
Есть и другие основания говорить о сопротивлении культур.
-
1. Рост транзитивной активности мира. Отмечается очевидный всплеск переходных состояний и структурных сдвигов в современной миро- 42
-
2. Обострение конфликтов и расширение очагов международной напряжённости. Статистический анализ мировых конфликтов в 2012 г. даёт основания говорить об общем росте международной напряжённости. Так, в докладе германского Института по изучению международных конфликтов в Гейдельберге отмечается, что в минувшем году в мире велось 18 войн и 43 вооруженных конфликта. При этом в 2012 году наибольшее количество конфликтов мире – 65 приходится именно на системно-идеологические (культурные). По степени напряжённости выделяются, прежде всего, столкновения, обусловленные субнациональным доминированием (22) и системно-идеологическим противостоянием (19). Большинство конфликтов в странах Европы вызваны борьбой за автономию (13) [Conflict Barometer 2012].
-
3. Расширение процесса демократизации и усиление борьбы за социальные права и независимость. Фиксируется тенденция поступательного роста количества демократических государств в абсолютном и процентном соотношении. Так если в 1974 г. было зарегистрировано 43 свободных государства (30,2 %), то в 1996 г. их уже было 81 (42,4 %) [Starr & Lindborg, 2003].
-
4. Усложнение транснациональной коммуникации, вызванное увеличением численности населения и количества государств в миросистеме культуры. Наблюдается рост общего числа государств в мире – 142 страны в 1974 г., против 191 страны в 1996 г. На декабрь 2012 г. в состав ООН уже входит 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя. При этом 55 государств остаются за пределами ООН. Растёт число и непризнанных государств (более 10). Всё чаще провозглашаются так называемые виртуальные государства. В мире известно более 40 таких искусственных образований. Например, такие экзотические как Силенд (с 1967, Великобритания), Филеттино (с 2008, Италия), Ладония (с 1980 микрогосударство, основанное шведским художником Ларсом Вилксом как место для размещения скульптур, созданных им в заповеднике Куллаберг в северо-западной части Сконе Швеция), Виртландия (с 2008) и др.
-
5. Современность предстаёт и как переосмысление наследия. Идёт настоящая битва за наследие и ареной этой битвы являются судьбы тысяч людей **. Вместе с тем охрана наследия и его включенность в культурный мир современности часто подчиняются политическим интересам. Наследие становится первой жертвой в борьбе за власть. Однако инвестиции в меморативную культуру катастрофически отстают от других направлений финансовых вложений. К примеру, по данным Фонда мирового наследия в 2009 году затраты на защиту окружающей среды приблизилась к отметке 1,6 миллиарда долларов. Тогда как инвестиции в охрану памятников в том же году составили чуть больше 63 миллионов (!) [Saving Our Vanishing ,2010]. Хотя очевидно, что культурная среда для человека не менее значима, чем среда экологическая. Неполадки в системе меморативной коммуникации чреваты для общества большими потрясениями. Память, скрепляющая сила культуры и духовное пристанище разума.
Обращает на себя внимание и такой факт. Современное человечество представляют 250 стран. При этом 310 народов по своей численности превышает 1 млн. человек. Это означает, что примерно 60 народов (!), численностью более миллиона людей, не имеют своей государственности. К 43
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS беспрецедентному усложнению миро-системы добавляется и языковая проблема. Так, по данным международного исследовательского проекта «Языки мира» сегодня на нашей планете насчитывается 7106 языков [Ethnologue, 2009], но лишь несколько сотен из них имеют возможность идентифицироваться в рамках формально признанных государственных, автономных или даже локально-территориальных образований.
Тогда почему же культурное наследие зачастую остаётся на втором плане обеспокоенности постиндустриального мира (если только оно не затрагивает политических интересов элиты)? Причина в том, что культурное наследие в значительной мере всё ещё плохо скрепляется с императивами глобализирующейся экономики и социальной практики, т.е. пребывает вне насущных задач сегодняшнего дня. О тенденции нарастающего разрыва прошлого и настоящего писал Х. Ортега-и-Гассет, обосновывая закон, названный им «убыванием церемонности» [1997]. В наши дни эта тенденция становится всё более заметной. Если в прежние времена наследие почти всегда «привязывалось» к запросам повседневности, то сегодня – это скорее тема вынужденных отступлений, социальных обязательств, символических бутафорий, художественных увлечений, политических спекуляций и показательных экономических подачек (приношений). В чём тут дело?
Действительно, на протяжении почти всей истории человечества наследие и традиционные ценности выступали неотъемлемой частью повседневной жизни. Прошлое было органически включено в настоящее. Больше того, меморативные объекты были опорой общества, первым и последним пристанищем культуры. Наследие освящалось, дабы не забыли, и передавалось из поколения в поколение как руководство к действию, жизненный завет и стратегия выживания. В течение многих тысячелетий наследие являлось самым активным ретранслятором культуры. К примеру, 44
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS первый Мусейон (основан в Александрии Птолемеем I приблизительно в 290 году до нашей эры) выступал не только как репрезентация памятных предметов старины, но и как учебное заведение. В него входили жилые комнаты, столовые помещения, комнаты для чтения, ботанический и зоологический сады, обсерватория и библиотека.
Музеи современного типа возникают лишь в 18 веке. Именно начиная с эпохи Просвещения, музеи позиционируется в культуре как некое отгороженное и замкнутое пространство для хранения древностей. Первым учреждением такого типа стал Британский музей в Лондоне (открыт в 1753 году). Во времена абсолютизма и Просвещения музей становится престижносимволическим, социально-сакрализованным институтом культуры.
В эпоху либерализации культуры настала пора десакрализации и демократизации памяти. Становится очевидным, что артефакты наследия необходимо сделать участниками большой культурной жизни, агентами и ретрансляторами нового коммуникативного пространства. Необходимо перевести наследие из разряда мёртвых, сухих артефактов, пылящихся на полках музейных витрин, в технологию креативной практики культуры. Наследие должно быть частью креативной среды современности, каждодневно выражающей живую связь времён.
На этот аспект в культурологии наследия обращал внимание Э.Сепир. «Нет ничего в большей степени вызывающего жалость, чем упорство, с которым «ходатаи от культуры» пытаются сохранить или реанимировать культурные стимулы, чья значимость для развития личности давно ушла в прошлое. Например, сберегать или освежать свой греческий язык в тех многочисленных случаях, когда знание греческого утратило подлинную связь с запросами духа, – это почти духовное преступление. Это означает быть собакой на сене по отношению к своей собственной душе. …Без чего мы, вообще говоря, как-нибудь обойдёмся, так это без предостережений относительно необходимости следовать культурной традиции, позыв огласить которые столь часто ощущают в себе защитники культуры» [Сепир, 1993: 484-485]. Как отмечает Э. Сепир: «Творения прошлого по-прежнему вызывают глубочайший интерес и симпатию потому и лишь постольку, поскольку мы можем распознать в них выражения человеческого духа, волнующе сходного, несмотря на все внешние различия, с нашим собственным» [1993: 29].
На современном этапе переосмысления культуры необходимым звеном в конструировании нового коммуникативного пространства должна стать трансинтеграция традиций и инноваций, глобального и локального, меморативного и экспериментального. По существу речь идёт о генерировании культуры участия или партисипации. Культура участия один из императивов жизнеспособности социальной миро-системы. Различие и 45
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS разнообразие несомненно останутся ключевыми темами и проблемами всего обозримого будущего. Следовательно, насущными задачами современности надо признать «создание пространств взаимодействия и общения различных сообществ и групп. Преодоление границ между различными социальными и национальными группами, включение маргинальных групп в поле внимания общества» [Пахтер, Лэндри, 2003: 80]. Встаёт вопрос и о праве на культуру, который продиктован необходимостью включения каждого субъекта общественной практики в полноценное демократическое и самодеятельное социальное и культурное взаимодействие.
Эти ценностные постулаты современной общественной практики во многом воплощены в стратегии мультикультурализма. Сценарии мультикультурных преобразований основываются на поощрении разнообразия, признании прав меньшинств, согласовании интересов и социальном сотворчестве. «Принцип участия в культуре определяется, прежде всего, качеством коммуникации, степенью включенности в неё представителей различных групп и сообществ» [Пахтер, Лэндри, 2003: 82].
Вместе с тем, современный мультикультурализм больше напоминает арену противостояния культур. Природа межкультурных столкновений в современных полиэтнических обществах, как полагает А.Я. Флиер, состоит в том, что 1) взаимодействующие культуры занимают разные степени социального развития и 2) отсутствуют заданные границы сосуществования разных этнокультурных общностей. Основной фактор мультикультурной напряженности по А.Я. Флиеру – разные степени социальной зрелости сосуществующих этнокультурных сообществ [2012]. Следовательно, им лучше не смешиваться, но взаимодействовать в рамках формально прочерченных границ, т.е. с помощью неких институциональных посредников и нормативных адаптеров.
Вероятно, в некоторых случаях без такого разграничения обойтись нельзя. Однако в целом, возврат к Чайна-таунам – это, скорее путь назад, в прошлое. Ведь разные степени социальной зрелости и поликультурная стилистика могут отмечаться и в пределах одной культурной общности, особенно если это большой город. Так что же, надо ранжировать городское пространство на разные социальные и возрастные группы (к примеру, взрослые и дети, богатые и бедные, интеллигенция и рабочие и пр.)? И каковы границы этого ранжирования? Быть может, следует более продуктивно и креативно формировать коммуникативную среду взаимодействия разных социальных и культурных образований в рамках единого многофункционального и многосоставного пространства (города, страны), т.е. генерировать через проектные формы транс-коммуникации новый язык интеграции, который позволит визуализировать понимание, основанное на различиях. Именно так поступает любое общество в 46
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS отношении детей и подрастающего поколения, используя механизмы социализации и инкультурации. Во взаимоотношениях взрослых и детей формируется культура детства, основанная как на уже устоявшихся нормах большой культуры (творчество взрослых для детей), так и на образцах малой культуры или субкультуры (творчество самих детей). Культура детства – это коллективный образец сотворчества, фиксирующий опыт и переживания двух и более поколений людей (культур). Образцы этого сотворчества – детские колыбельные песни, понятные и взрослым и детям. Есть и дошкольные социальные учреждения – детские сады, где дети консолидировано приобщаются к большой культуре.
Таким образом, современный мультикультурный мир предстаёт в виде беспокойной зоны сопротивления культур и может оправдывать своё существование лишь как креативная площадка со-участия, со-творчества всех субъектов и институтов гражданского общества, где различные культуры ищут и конструируют новый язык коммуникации, посредством культурного транскодирования и новых диалоговых технологий.
Существует несколько сценариев устойчивого развития мультикультурного сообщества. Культуры можно формально отделять друг от друга (Чайна-тауны и пр.) или изолировать, поставив их на социальный «карантин» (жизнь замкнутых этнических общин в большом городе), можно регламентировать их общение через социальных посредников-переводчиков, но, полагаю, важнее всего, научится эффективно управлять разнообразием и выстраивать на основе индивидуальных самобытностей новую среду коммуникации, новый язык межкультурного диалога и партисипативных практик. Разные социальные статусы, степени и позиции должны взаимодополнять живое, подвижное и беспокойное мультикультурное сообщество. Ведь «разнообразие выступает не столько функцией изоляции групп, сколько отношений, их объединяющих» [Леви-Строс 2000: 328].
*** *** ***
* Осознание радикальной трансформации культуры как кризиса и переходности репрезентируется в исследованиях многих авторов и применительно к различным социально-историческим контекстам и событиям. Достаточно привести лишь некоторые высказывания, фиксирующие историческую драму культуры и признание судьбоносного для неё характера перемен. Ф.М. Достоевский: «Особенность настоящей эпохи, что она является переходной»; Ф. Ницше : «Огромная волна варварства поднимается у наших дверей»; М. Гершензон: «Культура обанкротилась»; В. Розанов: «Общество переживает кризис вследствие образовавшихся пустот, в которые проваливается культура»; С.Н. Булгаков: « Назревает какой-то кризис, быть может, предвестие грядущего. Все собирается переоценивать самодовольный, хотя и растерявшийся век»; Н.А. Бердяев: «Начался 47
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS роковой процесс внутренней порчи, раздвоения, нарастания катастрофы, вулканического извержения изнутри истории»; Е.Н. Трубецкой: «На наших глазах апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и кровь …ад утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало быть, и всей человеческой культуры»; А. Швейцер: «Наша культура переживает тяжелый кризис»; С.Л. Франк «Случилось что-то роковое и непоправимое. В глубинах духа совершается какой-то надлом; он отрывается от корней, прикрепляющих его к духовной почве»; Вяч.Ив. Иванов: «Человечество линяет, как змея сбрасывая старую шкуру, и потому болеет …Никогда не был человек, казалось бы, столь расплавлен и текуч – и никогда не был он одновременно столь замкнут и замурован в своей самости, столь сердцем хладен как нынче; К. Ясперс: «Мы находимся внутри не завершённой, а лишь возможной, постоянно распадающейся обители исторической целостности»; П. Тейяр де Шарден: «В настоящий момент мы переживаем период изменения эры, осуществляется глубокий вираж мира, способный смять его, наконец, пришел час нового изменения состояния, который отмечен неизбежными муками»; П.А. Сорокин: «Мы живем и действуем в один из поворотных моментов человеческой истории. Весь наш общественный, культурный и личный образ жизни находится в состоянии трагического и эпохального перехода от умирающей чувственной культуры величественного вчера к наступающей новой культуре творческого завтра. Мы живем, думаем и действуем в сгущающихся сумерках ночи переходного периода с ее кошмарами, гигантскими разрушениями и душераздирающими ужасами».
** Вот лишь некоторые примеры уничтожения памятников культурного и исторического наследия и притязаний на меморативные ценности в современном мире.
Афганистан: Бамиан (2001).
Мали: 16 мавзолеев Тимбукту (2012).
Бангладеш: 12 буддийских храмов и 7 монастырей в Раму, Ухия, Текналф (Ukhiya Teknalf) Читтагонг (2012).
Ливия: Так называемые Исламисты или Ваххабиты, взорвали святыни сподвижников пророка Мухаммада в городе Zuwaila (2012).
Египет: Лидер египетских радикальных исламистов Мурган Салем аль-Гохари потребовал сровнять с землей пирамиды в Гизе и сфинкса, так как они являются языческими идолами (2012).
Пакистан: В восточном Пакистане 25 октября 2013 террористы взорвали мусульманскую суфийскую святыню 12 века мечеть Фарид Шакар Гандж в городе Пакраттане. Ранее были взорваны суфийские мечети в Карачи и мечеть Дата Дарбар в городе Лахор.
Мальдивские острова: Фанатики разрушили два памятника на Мальдивских островах - памятник-композицию, состоящий из фигуры Мохаммада Али Джинна, одного из основателей Пакистана и нескольких изображений, заимствованных с печатей древней цивилизации долины Инда. Шри-Ланка преподнесла монумент в виде льва — национального символа страны. Памятники, подаренные государству Мальдивских островов Пакистаном и Шри-Ланкой, подверглись атакам вандалов, поскольку были признаны проявлением «идолопоклонства и нерелигиозности» (2011).
Ирак: Ниневия и др.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Турция : Уникальный русско-турецко-армянский ансамбль города Карс. Наследие древней армянской столицы Ани. Ани расположенный в Турции, у самой границы с Арменией, стал одной из главных жертв "культурного геноцида".
Добавим, что Американский Фонд мирового наследия обнародовал пространный доклад под названием "Спасение нашего гибнущего наследия". В нем перечислены наиболее значительные, по мнению экспертов фонда, древние памятники, которые человечество рискует потерять в самое ближайшее время. Среди них – Херсонес Таврический в Севастополе, Ниневия в Ираке и древняя армянская столица Ани на территории нынешней Турции. В данный список следует включить и такие памятники как «Федоровское поселение» (Самарская область) и «Игнатьевская пещера» (Башкирия) с ее знаменитыми палеолитическими рисунками и многие другие исторически значимые культурные объекты.
Список литературы Борьба за наследие и сопротивление культур в глобализующемся мире
- Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. 120 с.
- Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. М.: Университетская книга, 2013. 240 с.
- Леви-Строс К. Путь масок. М.: Республика, 2000. 399 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь Мир, 1997. 704 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: Издательство АСТ, 2002. 509 с.
- Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. М.: Классика -XXI, 2003. 96 с.
- Померанц Г.С. Собирание себя. Курс лекций, прочитанный в Университете Истории Культур в 1990-1991 гг. М.-СПб.: Центр гуманитарн^iх инициатив, 2013. 143 с.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. 656с.
- Флиер А. Я. Границы мультикультурализма//Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские научные чтения, 17-18 мая 2012 г. Т. 1: Доклады/науч. ред. А.С.Запесоцкий. СПб.: СПбГУП, 2012. (504 с.). C. 358-361.
- Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001. 417 с.
- Conflict Barometer 2012. Heidelberg Institute for International Conflict Research. E V. at the Department of Political Science, University of Heidelberg, Disputes Non-violent Crises, violent crises, limited wars. #21, Heidelberg, 2013. 130 p.
- Ethnologue: Languages of the World/Edited by Lewis, M. Paul, 16th Edition, SIL International, Dallas, Texas, 2009. 1248 pp.
- Starr H., Lindborg Ch. Democratic Dominoes Revisited: The Hazards of Governmental Transitions, 1974 -1996//The Journal of Conflict Resolution. Journal of the Peace Science Society (International), V. 47, №4, 2003. P. 490 -519.
- Saving Our Vanishing Heritage. Safeguarding Endangered Cultural Heritage Sites in Developing World/Global Heritage Fund, GHW. Palo Alto, California, 2010. 69 p.