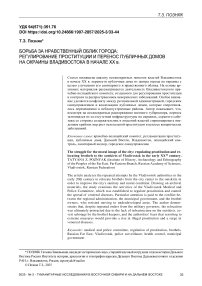Борьба за нравственный облик города: регулирование проституции и перенос публичных домов на окраины Владивостока в начале ХХ в.
Автор: Позняк Т.З.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 3 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу неоднократных попыток властей Владивостока в начале XX в. перенести публичные дома из центра города на окраины с целью улучшения его санитарного и нравственного облика. На основе архивных материалов рассматривается деятельность Владивостокского врачебно-полицейского комитета, созданного для регулирования проституции и контроля за распространением венерических заболеваний. Особое внимание уделяется конфликту между региональной администрацией, городским самоуправлением и владельцами публичных домов, которые сопротивлялись перемещению в неблагоустроенные районы. Автор показывает, что, несмотря на неоднократные распоряжения военного губернатора, перенос затягивался из-за отсутствия инфраструктуры на окраинах, скрытого саботажа со стороны содержательниц и опасений властей спровоцировать введением крайних мер рост нелегальной проституции и всплеск венерических заболеваний.
Врачебно-полицейский комитет, регламентация проституции, публичные дома, Дальний Восток, Владивосток, полицейский контроль, санитарный надзор, городское самоуправление
Короткий адрес: https://sciup.org/170210987
IDR: 170210987 | УДК: 94(571):351.76 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-3/33-44
Текст научной статьи Борьба за нравственный облик города: регулирование проституции и перенос публичных домов на окраины Владивостока в начале ХХ в.
Широкое распространение венерических заболеваний и отсутствие сколько-нибудь значимых результатов в борьбе с ними с помощью запретов и «наказаний непотребства» привели власти Российской империи к идее перехода от запрещения проституции к ее регламентации. Российские власти опирались на опыт Франции, где проституция была объявлена свободной в 1793 г., а с 1796 г. введена система ее регламентации. 8 октября 1843 г. Высочайше утвержденным Положением Комитета министров для осуществления врачебно-полицейского надзора за проституцией в Санкт-Петербурге при Медицинском департаменте МВД был создан врачебно-полицейский комитет (ВПК). Эту регламентацию ввели в столице в виде эксперимента на два года. 29 октября 1843 г. министром внутренних дел были утверждены общие положения об учреждении в С.-Петербурге ВПК, которыми он должен был руководствоваться в своей деятельности. Целью комитета было «искоренение любострастной болезни», а основным средством – надзор за т.н. «публичными женщинами», который состоял в их медицинском освидетельствовании и лечении заболевших венерическими болезнями. В 1840-х гг. опыт столицы был распространен еще на несколько городов империи, а в октябре 1851 г. циркулярное распоряжение о порядке установления надзора за публичными женщинами было разослано по всем губерниям [2, с. 41–44; 6, с. 22–23].
На российском Дальнем Востоке ВПК были созданы позднее – в конце XIX – начале XX вв. Причиной такой задержки стала не столько отдаленность региона, сколько нехватка средств и людских ресурсов для содержания дополнительных полицейских кадров, врачей и специализированных больниц – как у региональной администрации, так и у городских самоуправлений. До создания ВПК, в 1870-х – 1890-х гг. медицинский надзор за публичными домами и одиночной проституцией здесь осуществляли местные врачи (сначала военные, во Владивостоке – морского госпиталя, затем – окружные или городовые), а административный – полиция (Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 28. Л. 23; Ф. 77. Оп. 1. Д. 74. Л. 44об.; Д. 509. Л. 110; Д. 211. Л. 144, 149).
Проституция на Дальнем Востоке России во второй половине XIX – начале XX в. имела ряд особенностей в сравнении с европейской частью империи: кроме «русских» и «европейских» проституток здесь присутствовали китайские и японские [8; 10]. Численность публичных домов в регионе была значительной из-за специфики половозрастного состава населения: здесь наблюдалось преобладание холостых мужчин трудоспособного возраста, что было обусловлено размещением в регионе значительного числа войск и большим притоком мигрантов из сопредельных азиатских государств [3, c. 508–510; 7, c. 34–53].
Владивостокский ВПК был утвержден приказом военного губернатора Приморской области №437 от 27 ноября 1897 г. (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 379. Л. 43об.–44). Он начал работать, судя по отчету городового врача Владивостока за 1897 г., только с января 1898 г., однако вскоре перестал функционировать вследствие указания МВД, что для его открытия необходимо было предварительное утверждение министерством правил сего комитета, а также за неимением средств по причине прекращения сборов с проституток, на которые он содержался, и из-за отказа городской управы отпустить средства на содержание комитета, смотрового врача и надзирателя за тайной проституцией. Он был создан вновь, согласно журналу медицинского совета от 18 мая 1899 г. № 245 (РГИА ДВ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 130–156; Ф. 702. Оп. 4. Д. 379. Л. 43об.–44, 58), однако опять почти не работал из-за требования Медицинского департамента МВД от 5 июня 1899 г. «пересоставить» Правила Владивостокского ВПК в соответствии с его указаниям (РГИА ДВ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 110. Л. 273–273об.). Наконец, в 1906–1917 гг. комитет действовал уже почти беспрерывно [10; 11; 13; 14].
В начале XX в. ВПК Владивостока, как и другие комитеты в империи1, в своей деятельности руководствовался циркуляром Медицинского департамента МВД от 8 октября 1903 г. № 1611 и приложенным к нему – «Положением об организации надзора за городской проституцией в империи» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 379. Л. 228; Ф. 9. Оп. 1. Д. 7. Л. 19–23об.). В Приморской области был разработан и свой вариант нормативных документов – Правил для содержательниц публичных домов и проституток, инструкций для должностных лиц, осуществлявших административный и медицинский надзор за проституцией, которые по основному смыслу совпадали с общеимперскими. Согласно нормативным документам, ВПК обладал широким функционалом в сфере медико-полицейского надзора над проституцией. В обязанности его входили: а) розыск и привлечение к законной ответственности тайных проституток, содержателей тайных притонов разврата, сутенеров и лиц, способствующих тайному разврату; б) подчинение проституток врачебно-полицейскому надзору и освобождение от него, с отдачей в подлежащих случаях проституток на поруки; попечение о беременных, больных, несовершеннолетних проститутках и возвращающихся к честному образу жизни и содействие обществам и установлениям, стремящимся к умень- шению проституции; в) выдача разрешений на открытие домов терпимости и поднадзорных притонов, надзор за ними и закрытие их; г) организация врачебных осмотров и амбулаторного лечения на смотровых пунктах проституток, страдающих сифилисом и венерическими болезнями, отправка в лечебные заведения проституток, подлежащих больничному лечению (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 7. Л. 19-23об.).
Одной из обязанностей ВПК была выдача разрешений на открытие публичных домов и определение мест их расположения. При подаче прошения об открытии дома терпимости содержательницы были обязаны представить письменное согласие домовладельца или управляющего домом, в котором его предполагалось открыть. Избираемые дома или квартиры должны были быть удалены от церквей, училищ, школ и общественных учреждений не менее чем на 150 сажень (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 7. Л. 19–23об.). Кроме того, ВПК могли руководствоваться решением Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената № 49 от 1892 г., согласно которому он имел право определять, в каких именно местностях города допускается устройство домов терпимости и проживание состоящих под его надзором проституток-одиночек, «промышляющих непотребством» у себя на квартире (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 5. Л. 4, 7об.; Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 17, 18, 20).
Перенос публичных домов на окраины практиковался во многих городах Российской империи, в Петербурге его удалось осуществить к концу XIX в. [15, с. 43]. Тем самым власти пытались избавить центральные кварталы от преступности и явлений, нарушавших покой и оскорблявших чувства благопристойных горожан. Возникновение проблемы переноса публичных домов на окраины городов российского Дальнего Востока в начале XX в. было связано с жалобами обывателей на нежелательное соседство и стремлением органов городского самоуправления и региональной администрации оздоровить санитарную и нравственную обстановку в городах. Это стремление также нашло свое выражение в многолетних усилиях органов власти и городского самоуправления по отведению в дальневосточных городах особых кварталов для поселения китайского и корейского населения.
Если в отношении европейской части России мы можем утверждать, что история проституции и деятельности врачей и полиции по организации административно-санитарного надзора изучалась весьма плодотворно [2; 4; 5; 6 и др.], то исследование указанной темы на дальневосточном материале только началось [1; 9; 10; 11; 13; 14]. При этом вопросы регулирования проституции и переноса публичных домов на окраины Владивостока в начале XX в. в исторической литературе до сегодняшнего дня не поднималась.
Цель данной статьи – охарактеризовать усилия Владивостокского врачебно-полицейского комитета по переносу публичных домов на окраину города в начале XX в. и выявить затруднения, с которыми пришлось столкнуться региональной администрации в решении этой проблемы.
Борьба за перенос публичных домов в 1905–1911 гг.
Осенью 1905 г. несколько домовладельцев Пологой, Комаровской и прилегающих к ним улиц г. Владивосток обратились к военному губернатору Приморской области генерал-майору В.Е. Флугу с просьбой закрыть дома терпимости на их улицах и перенести в другое место. 12 ноября 1905 г. военный губернатор предложил Владивостокскому городскому голове вынести этот вопрос на обсуждение городской думы (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–1об.). 19 ноября дума постановила: «признать необходимость закрытия домов терпимости на Пологой и других улицах в городе. Открытие таких домов признать возможным: а) в самом конце Матросской слободы, вне поселения на участках, которые будут отведены городом; б) в Линейной слободке военного ведомства и в) вне городского поселения по направлению к Куперовской пади, на местах по отводу города». Сроков переноса установлено не было (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л.1–1об.), [12, с. 570].
Военный губернатор 5 декабря 1905 г. предложил полицмейстеру г. Владивосток «без замедления принять меры к переносу домов терпимости в места, указываемые городской думой» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 1об.–2). 13 января 1906 г. он попросил полицмейстера «немедленно уведомить, какое последовало распоряжение по предложению от 5 декабря 1905 г.» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 3). Только после напоминания полицмейстер приказал подчиненным собрать сведения о числе публичных заведений и наличии в отведенных районах зданий, пригодных для них. 19 января 1906 г. полицейский пристав 1-го участка уведомил начальника, «что в районе 1 части по 7 Матросской улице функционируют два дома терпимости в д. Терлецкого (14 девиц) и в д. Сердюкова (9 девиц)», и планируются к открытию в скором времени по той же улице в домах Водовозова, Душкина, Иванова и Петряева. «Более подходящих домов в указанном месте для открытия заведений не имеется и числа открытых домов достаточно для потребности» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 7– 7об.). Пристав 2-й части в тот же день сообщил, что в его районе домов терпимости не существует, и пригодные помещения для них отсутствуют (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 8, 25). Пристав 3-й
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ части сообщил, что в его участке нет помещений для заведений 1 и 2 разрядов и представил список существующих борделей: 14 шт. со 113 проститутками, в т.ч. 2 дома содержались француженками, 1 – американской гражданкой, 1 – совместно французской и германской подданной, остальные 10 – российскими подданными (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 9–9об., 17). В марте – апреле 1906 г. на российский Дальний Восток начали возвращаться японки – содержательницы и проститутки, уехавшие на родину перед началом Русско-японской войны, но процесс открытия японских публичных домов занял некоторое время. В августе 1906 г. в городе существовало 14 «европейских» домов терпимости с 93 проститутками и 30 японских с 227 (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. I–VI).
Жители Пологой улицы, не дождавшись результата, вновь попросили убрать с их улицы публичные дома. 25 января 1906 г. городская дума постановила обратиться по этому поводу к военному губернатору, а тот запросил у полицмейстера сведения о принятых мерах.
7 февраля 1906 г. Владивостокский ВПК, рассмотрев вопрос «о выселении домов терпимости с Пологой улицы», установил срок переезда – к 1 января 1907 г., дав почти год на исполнение распоряжения начальства (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 40). 8 февраля 1906 г. полицмейстер Владивостока, ротмистр Г.И. Лединг изложил губернатору решение ВПК о том, что «немедленное выселение домов терпимости является невозможным по следующим соображениям: 1-х, выселение домов терпимости без предупреждения содержательниц повлечет за собой полное разорение последних, так как все таковые дома открыты исключительно осенью минувшего года и ими затрачены большие суммы на ремонт и приспособление нанятых помещений; 2-х, на указанных думою местах для домов терпимости в настоящее время совершенно не имеется помещений для таковых…» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 39–40). Полицмейстер, согласившись с мнением комитета, предложил «отложить выселение существующих домов терпимости не менее как на один год, иначе город останется без домов терпимости и выброшенные из домов женщины займутся тайной проституцией, что повлечет за собой увеличение тайных притонов и весьма вредно отразится на здоровье обывателей города». Он также усомнился в обоснованности заявления домовладельцев Пологой, Комаровской и прилегающих улиц, поскольку только 7 из 30 домовладельцев, подписавших это заявление, «действительно проживают в районе расположения домов терпимости, а остальные же не только по этой улице и поблизости, но не в районе, и все неудобства, кои неизбежны при существовании этих домов, нисколько не могут причинить им в значительной степени беспокойство и нарушить их тишину» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 39об.).
Весной 1906 г. по поручению городской управы земельная комиссия обследовала город и наметила для размещения публичных домов измененный список мест: 1) Рабочая слободка; 2) Северный склон горы за сжигательной печью в Ку-перовской пади; 3) Линейная слободка. Управа предложила городской думе ходатайствовать перед губернатором о запрете размещать публичные дома где-либо кроме указанных мест. 20 апреля 1906 г. дума утвердила перечень мест для постройки публичных домов, а также определила размер отводимых участок – 200 кв. саж., срок аренды участков для деревянных домов – 5 лет, для каменных – 10 лет. Гласные также постановили, что указанные районы отводятся под публичные дома на пять лет, после чего дума имеет право пересмотреть их, оставив во владении прежних арендаторов застроенные каменными домами участки до конца 10-летнего срока2 [12, с. 570].
5 июля 1906 г. военный губернатор Приморской области В.Е. Флуг запросил коменданта Владивостокской крепости, не встречается ли с его стороны препятствий к размещению публичных домов на местах, предложенных городом, при этом указав, что в настоящий момент они располагаются на Пологой и 7-й Матросской улицах и в старой Корейской слободке (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 116об.–117). 7 сентября 1906 г. и.д. коменданта крепости генерал-майор В.А. Ирман ответил губернатору, что считает необходимым закрыть заведения, расположенные по 7-ой Матросской улице: «Непосредственное соседство этих заведений к войсковым частям, расположенным в Гнилом углу, крайне развращающим образом влияет на нижних чинов, увеличивает число самовольных отлучек и случаев нарушений нижними чинами дисциплины и общественного порядка. Установление в этом отношении надзора со стороны военного начальства не может быть действительно, так как названная улица лежит по пути из Гнилого угла на форты и к городу, если же наряжать на эту улицу специальные патрули, то сами патрульные будут развращаться. Принимая во внимание, что как повсюду, так и во Владивостоке уличные беспорядки обыкновенно начинаются с разгрома помянутых заведений, полагаю, что эти заведения должны находиться как можно дальше от расположения войсковых частей, от близости коих зависит большее или меньшее присутствие пьяных нижних чинов в буйствующей толпе» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 17–17об.; Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 117–117об .).
Учитывая пожелание коменданта крепости, 16 декабря 1906 г. военный губернатор предписал полицмейстеру публичные заведения с 7-ой Матросской улицы убрать в Рабочую слободку до 1 мая 1907 г., а с Пологой улицы – в квартал за городской сжигательной печью в Куперовской пади до 1 июля 1907 г. (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 117об). В марте 1907 г. он также предложил городскому самоуправлению пересмотреть условия аренды участков в отводимых районах, построить публичные дома за городские средства для сдачи их в аренду, озаботиться проведением и освещением дорог в предлагаемые районы. Городская дума 3 апреля 1907 г. постановила срок аренды участков установить от 8 до 12 лет с арендной платой по 2 руб. за кв. саж., дороги и освещение устроить после строительства домов, а просьбу об их постройке за городские средства отклонить [12, с. 571].
Рабочая слободка в то время представляла собой слабозаселенный район без устроенных дорог и подходящих строений. К 1 мая никто из хозяек не смог ни выстроить собственные дома, ни подыскать готовые, и губернатор разрешил вновь открыть публичные дома на 7-й Матросской улице тем из содержательниц, которые приступили к постройке домов в Рабочей слободке, установив срок переноса до 1 декабря 1907 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 8–8об.).
В начале июня 1907 г. комиссия во главе с исполняющим обязанности председателя ВПК Н.Е. Акацатовым при участии представителя городского самоуправления осмотрела место в Куперов-ской пади и установила, «что разбивка улиц на местах, предназначенных к застройке, не сделана, усадебные места не разбиты на участки и не застолблены, дорога в это место из города … в таком состоянии, что по ней и двум не всегда можно проехать, а ночью, за полным отсутствием освещения, этого сделать совершенно нельзя и небезопасно в виду отсутствия в той части города полицейского надзора» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 9–9об.).
-
13 июня 1907 г. ВПК признал отведенное место неподходящим по вышеуказанным причинам и попросил городское самоуправление разрешить домам терпимости 1-го разряда поместиться в конце Нижне-Пологой и Фонтанной улиц по западной стороне железнодорожного переезда, а при нехватке места – в самом конце названных улиц. 17 июня 1907 г. городская дума постановила: временно оставить дома терпимости 1-го разряда в кварталах Пологой и Фонтанной улиц, между железной дорогой и безымянной батареей. Содержательницы домов 2-го разряда обязаны были найти квартиры или построить дома в Куперовской пади (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 9–9об., 37).
Перенос сроков исполнения приказов городским самоуправлением и ВПК вызвал недовольство военного губернатора В.Е. Флуга. 6 ноября 1907 г. он издал приказ № 463 о назначении на 6 ноября комиссии под председательством вицегубернатора Я.П. Омельянович-Павленко для ревизии деятельности Владивостокского ВПК (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–1об.).
К началу работы комиссии дома терпимости оставались на прежних местах. ВПК выяснил, что из пяти лиц, коим было разрешено открыть дома терпимости на 7-й Матросской, выстроили, но не отделали дома в Рабочей слободке только две содержательницы, остальные же ограничились привозом строительного материала. Содержательницы же первоклассных заведений на Пологой и Фонтанной улицах заключили контракты с домовладельцами кварталов по западной стороне железнодорожного переезда, но потом, ввиду распространившихся между ними слухов о возможности оставления их заведений на прежних местах, их расторгли. Учитывая неспешность, а, возможно, сознательное игнорирование указаний губернатора, ВПК в докладе комиссии указал, что считает необходимым с 1 декабря закрыть заведения, хозяйки которых проигнорировали требования комитета, остальным дать отсрочку, но не свыше двух месяцев (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 8–8об., 10).
Комиссия, рассмотрев все обстоятельства, постановила: «1. За перенесение всех домов терпимости с Пологой улицы в конец Пологой и Фонтанной улиц между безымянной батареей и Корейской улицей, с тем, что по Корейской улице открытие домов терпимости не разрешалось, а в домах, выстроенных на углах Пологой и Корейской, а также Фонтанной и Корейской улицы могут быть открыты дома терпимости только при том непременном условии, чтобы вход в эти дома с Пологой и Фонтанной улиц. 2. Дать содержательницам домов терпимости определенный срок со дня объявления на заключение контракта на аренду с кем-либо из домовладельцев вышесказанной местности, и у тех содержательниц, которые к означенному сроку контрактов не заключат, дом терпимости закрыть. 3. Тем содержательницам, которые контракты заключают, дать также определенный срок на переезд, по истечению его не перенесенные дома терпимости должны подлежать закрытию. 4. Тем содержательницам домов терпимости, которые заключают контракты на аренду помещений в домах вновь выстроенных, как, например, дом Рачкова на Пологой улице, дать достаточный срок на переезд ввиду необходимости осушки вновь выстроенных домов, без каковой осушки размещение в таких зданиях домов терпимости не следовало бы допускать. Затем допущение каких-либо разных отсрочек в переносе домов терпимости представлялось
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ бы нежелательным. …Чтобы перенос домов терпимости … мог фактически осуществиться, представляется необходимым, что Городское Общественное управление своевременно озаботилось как о проведении удобнопроезжих дорог … и освещении, а равно озаботилось проложением улиц между кварталами и остолбило усадебные места» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 10–11об.).
-
14 декабря 1907 г. В.Е. Флуг, не согласный пойти и на такие уступки, разрешил комитету временно оставить дома терпимости 1 разряда на Пологой улице в районе к западу от полотна железной дороги, «но отнюдь не до Корейской улицы», дома к востоку от полотна железной дороги – закрыть, дав окончательный срок 1 мая 1908 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 16–16об.).
В январе 1908 г. по новой просьбе ВПК увеличить сроки для переезда публичных домов с Пологой и Фонтанной улиц губернатор разрешил оставить дома 1-го разряда в этом районе тем содержательницам, которые заключили нотариальные контракты до 14 декабря 1907 г., но не далее чем до 31 августа 1909 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 18–18об., 20–20об.; Д. 56. Л. 2–3.). Не успевшие переехать дома 2-го разряда в этом районе закрылись, и большая часть заведений весной 1908 г. размещалась в Корейской слободке3, но так и не переехала в Куперовскую падь (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 56. Л. 7–8; Д. 58. Л. 49–49об.; Д. 59. Л. 19–23, 45–46об.).
В августе 1909 г. подошел новый срок переезда, и хотя участки за сжигательной печью в Ку-перовской пади были разбиты, нормальные дороги и освещение по-прежнему отсутствовали, о чем ВПК был вновь вынужден доложить губернатору 23 августа 1909 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 21–26). Судя по письму от 5 сентября 1909 г. комитету, В.Е. Флуг был взбешен неисполнением его указаний. Он очередной раз повторил свое разрешение содержательницам оставить публичные дома на Пологой и Фонтанной улицах только к западу от полотна железной дороги, а для перехода в Куперовскую падь дал срок до наступающего Нового года (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 27–28, 30–33об.).
Городское самоуправление не благоустроило Куперовскую падь, поскольку в сентябре 1909 г. боролось с холерой, занесенной в город из Кореи. Первый случай заболевания был обнаружен на мысе Эгершельд, где затем было найдено «тайное корейское холерное кладбище». Благодаря принятым мерам удалось предотвратить распространение эпидемии на область. Последний случай заболевания был обнаружен в городе 4 ноября. Всего заболело 143 чел., умерло 90 (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 360. Л. 6).
Кроме того, владельцы участков на Фонтанной и Пологой улицах к западу от железной дороги, воспользовавшись безвыходным положением хозяек публичных домов, выставили непомерно высокие цены на аренду. Кеммер был согласен сам выстроить дом при условии, что арендатор внесет залог в 5 тыс. руб. и будет платить ежемесячно по 300 руб. в течение 5 лет. Заварова потребовала выстроить на ее участке дом за 10 тыс. руб., арендовать его на 5 лет за 300 руб. в месяц, после чего оставить в ее собственности. Балсурин пожелал, чтобы на его участке выстроили дом стоимостью 10 тыс. руб. с переходом в его собственность через два года. Остальные домовладельцы либо сдали свои постройки на долгие сроки, либо не желали сдавать их под публичные дома (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 38–39).
В конце сентября комитет очередной раз убедился в невозможности переезда. 22 сентября 1909 г. его председатель Н.Е. Акацатов указал управе на обстоятельства, препятствующие как переносу домов терпимости в Куперовскую падь, так и сосредоточению всех домов на Пологой и Фонтанной улицах к западу от полотна железной дороги. И вновь прозвучали прежние доводы об опасности закрытия домов терпимости в крепости со значительным гарнизоном: «развитие тайной проституции в городе со всеми последствиями этого весьма нежелательного явления» или же «целый ряд преступных деяний на почве половых требований» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 41–41об.). Он попросил управу сообщить «о намерениях города в отношении приведения в скорейшем времени в должный вид всего района», а при невозможности благоустроить его, учитывая усиленные расходы на борьбу с холерой, город должен обратиться к военному губернатору на предмет оставления заведений на прежнем месте, при этом точно указав срок, на который дается разрешение (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 42–42об.).
29 сентября 1909 г. председатель ВПК доложил губернатору все вышеуказанные обстоятельства и попросил отложить закрытие домов терпимости, не исполнивших требование властей (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 44–47). Военный губернатор В.Е. Флуг 30 сентября 1909 г. наложил на его докладе резолюцию: «Распоряжение свое о переносе домов терпимости оставляю в силе, так как считаю, что если бы содержательницы домов терпимости пожелали бы исполнить мое первоначальное требование, то они всегда бы имели воз- можность просить город о скорейшем вырешении вопроса относительно подготовки новых мест. В том, что это не было сделано, я вижу только обход моего распоряжения, а со стороны Врач. Пол. Комитета усматриваю отсутствие наблюдения за тем, чтобы мои распоряжения, касающиеся упорядочения вопроса о домах терпимости, действительно исполнялись и могли быть исполнены» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 46–47). Несмотря на это городская дума 16 октября 1909 г. постановила оставить временно дома терпимости на Пологой и Фонтанной улицах на всем их протяжении (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 54–55).
26 октября 1909 г. комитет, ознакомившись с письмом губернатора, не усмотрел «оснований для обвинения его в обходе распоряжений Его Превосходительства». Он также посчитал неправильным, чтобы содержательницы сами требовали от управы благоустройства отведенных районов (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 51–52). Главным виновником ВПК считал городское самоуправление, которое вышло с ходатайством о переносе домов терпимости, но ничего для его осуществления не сделало и постоянно отменяло свое же решение (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 52об.).
Текст постановления ВПК от 26 октября 1909 г. является наглядной иллюстрацией взаимозависимости надзирателей и надзираемых. Комитет, существуя за счет сборов с домов терпимости и проституток-одиночек, стал своеобразным заложником созданной системы: чем больше в городе было проституток, тем лучше обстояли дела у комитета – можно было тратить больше средств на содержание врачей и полицейских чинов, ремонт лечебницы и улучшение условий содержания в ней больных и пр. В постановлении говорилось: «В последней мере Комитет не может не усмотреть последствий: а) с закрытием домов терпимости все проститутки, числом около 80–90, должны оставить эти дома и по понятным причинам обратиться или в тайных проституток, или, в лучшем случае, в одиночек. Это обстоятельство не может не привести к понижению врачебно-полицейского надзора и развитию заболеваний среди определенной части населения; б) обеспеченные в домах проститутки останутся без крова и средств существования в зимнее время, чего комитет по своей обязанности не должен допускать; в) с закрытием домов терпимости уменьшится соответственно уменьшению числа проституток и ежемесячный добровольный взнос, что приведет материальные средства комитета к упадку и необходимости сократить расходы, т.е. к уменьшению числа смотровых врачей, к закрытию лечебницы, ибо расход комитета достигает 2 000 рублей ежемесячно. Это обстоятельство тем более должно отразиться на постановке дела врачебно-полицей- ского надзора и на увеличении распространения венерических заболеваний, особенно среди нижних чинов гарнизона; г) при таких условиях передача дела надзора в ведение города, на что принципиальное согласие было дано Городским Головой, в виду возникшего распада налаженного дела явится еще более несбыточной» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 52об.–53).
В итоге комитет постановил ходатайствовать перед военным губернатором об оставлении домов терпимости на Пологой улице до приведения в порядок Куперовской пади (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 53). Однако письмо председателя ВПК от 31 октября 1909 г. губернатору заканчивалось не этим ходатайством, а словами, что изложенное докладывается на «благоусмотрение Вашего Превосходительства» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 56–57). Судя по всему, он вполне осознавал, какой гнев начальства вызовет очередная отсрочка исполнения распоряжения. 7 ноября 1909 г. явно рассерженный В.Е. Флуг ответил ВПК: «Вследствие представления от 31-го октября с.г. за № 335, сообщаю, что дома терпимости разрешаю только в местности к западу от железной дороги, почему все такие дома, находящиеся к востоку от железной дороги, должны быть закрыты. Имея в виду, что возбужденная по этому вопросу переписка, затянувшаяся гораздо дольше, чем то следовало, могла подать содержательницам надежду на оставление их в теперешнем месте, даю им последний срок, а именно первое декабря сего года. Не признавая все представленные мне до сего времени доводы в пользу оставления домов терпимости в настоящем месте достаточно обоснованными и, видя в результате их только одну оттяжку в исполнении моего требования, я больше никаких докладов по этому вопросу принимать не буду и требую исполнения моего распоряжения в указанный срок (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 58–58об.).
В этот же день, 7 ноября 1909 г. ВПК уведомил содержательниц о требовании перейти в Ку-перовскую падь или к западу за полотно железной дороги и о закрытии публичных домов тех, кто не исполнит данное требование до 1 декабря (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 59–60). Но хозяйки публичных домов решили бороться и обратились к обычной для того времени практике – жалобам вышестоящему начальству.
-
12 ноября 1909 г. 6 содержательниц написали слезное прошение Приамурскому генерал-губернатору с просьбой «не разорять» их и «не выгонять на улицу в зимнее время девушек до 1 декабря», отсрочив их переезд. Письмо содержит все аргументы, представленные в докладе председателя ВПК: отсутствие дорог и освещения на новом месте, непомерные требования домовладельцев Пологой и Фонтанной улиц, угроза наводнения го-
- ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ рода тайными проститутками и венерическими болезнями в случае закрытия публичных домов и прекращения медицинских осмотров. Кроме того, просительницы настаивали на невозможности переезда ввиду окончания строительного сезона и невозможности выстроить дома на новом месте, а также уповали на гуманность генерал-губернатора, которого тронет тяжелая участь 80 проституток, которые окажутся на улице в зимнее время (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 103–106об.).
Губернатор под давлением начальства вынужден был сжалиться, и 28 ноября 1909 г. предложил ВПК объявить содержательницам, что ввиду нехватки мест к западу от железной дороги, с 1 декабря разрешает тем, кто не сможет поместиться в указанном районе, временно поместиться на 6 и 7 Матросской улицах впредь до устройства Куперовской пади (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 21. Л. 62–63). 1 декабря 1909 г. губернатор сообщил об этом Приамурскому генерал-губернатору (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 286. Л. 111–111об.)
Ни в декабре 1909 г., ни в 1910 г. публичные дома не переехали в Куперовскую падь, они сосредоточились в Корейской слободке, в прежних районах их количество сократилось до минимума. В январе 1910 г. в этой слободке располагалось 16 японских и 4 русских дома терпимости, в Рабочей слободке – 1 японский и 1 русский, на Пологой улице – 2 французских, на Фонтанной – 1 русский, на Корейской – 1 русский, на 7-ой Матросской – 1 русский (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 81. Л. 16–32, Д. 86. Л. 1; Д. 87. Л. 1–16). При этом, судя по протоколам надзирателя ВПК, в районе Матросской слободки процветала тайная проституция в пивных залах, квасных, харчевнях, столовых, а в центре города – в шантанах, ресторанах, гостиницах; одиночки искали клиентов на Свет-ланской улице, а дамы полусвета принимали их в своих квартирах в доходных домах в самой фешенебельной части города (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 60. Л. 17–17об., 20–25об.).
В апреле 1911 г. городская дума, вероятно, убедившись в невозможности благоустроить Куперовскую падь, прекратила свои попытки переноса и назначила в качестве места для домов терпимости Корейскую (или Старо-Корейскую) слободку [12, с. 571]. Новый военный губернатор Приморской области М.М. Манакин 19 апреля 1911 г. сообщил городскому голове о согласии с предложенным местом (РГИА ДВ. Ф. 703. Оп. 3. Д. 286. Л. 135–136об.). На этом первый эпизод истории с переносом публичных домов на окраину Владивостока можно считать оконченным.
Требования к переносу публичных домов не коснулись китайских заведений, которые во Вла- дивостоке продолжали занимать квартиры в районе, ограниченном улицами Пекинской и Семеновской на их протяжении от Семеновского базара до Китайской улицы. Русские проститутки-одиночки также селились там, где пожелают. Горожане считали, что их присутствие не менее вредно для нравственного облика города, чем соседство с публичными домами, поскольку они, как считалось, своим пьянством, драками и непристойным поведением нарушали тишину и благопристойность, мешали нормальному течению жизни городских обывателей, оскорбляли чувства гулявших по центральным улицам женщин и детей. Несмотря на неоднократные просьбы горожан запретить публичным женщинам работать в центре города, комитет отказывал в их удовлетворении. Основанием для отказа он называл Правила МВД от 1903 г., которыми не оговорено было право комитета определять местожительство одиночек, по непонятной причине игнорируя возможность такого запрета, предоставленную ему решением Правительствующего сената № 49 от 1892 г. Только 4 июня 1913 г. военный губернатор Приморской области сообщил полицмейстеру, что запретил проживание русских проституток-одиночек в кварталах, прилегающих к Светланской улице на протяжении ее от Ключевой улицы до Набережной4 (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 75).
Попытка переноса публичных домовв годы Первой мировой войны
В конце 1914 г. до Владивостока дошли слухи о закрытии в Европейской части России публичных домов в связи с началом Первой мировой войны. Почти в это же время, 4 декабря 1914 г., военный губернатор Приморской области предложил закрыть дома терпимости в Корейской слободке, как находившиеся на расстоянии менее 150 сажень от Покровской церкви (за исключением трех заведений). 18 декабря 1914 г. комитет, рассмотрев его предложение, постановил «по примеру столицы и многих губернских городов» закрыть все публичные дома, дав содержательницам для ликвидации месячный срок, считая с 1 января 1915 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 108). Вероятно, слухи о распоряжении губернатора дошли до содержательниц до заседания, потому что 18 декабря 1914 г. комитет рассмотрел и обращение хозяек 12 японских борделей об отсрочке закрытия до весны и постановил отсрочить его до 1 марта 1915 г. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 108).
-
18 февраля 1915 г. комитет был вынужден вернуться к этому вопросу, поскольку у военного губернатора возникли резонные вопросы: чем будет заниматься комитет в случае закрытия домов терпимости в городе; кто будет бороться с тайной проституцией и ее последствиями; как предполагается поступить с проститутками, находящимися в публичных домах и одиночками; кому и когда комитет передаст свою лечебницу и средства и т.д. (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 110об.–111). Судя по тексту постановления, комитет глубоко призадумался о последствиях принятого ранее решения: «В виду того, что с закрытием домов терпимости и прекращением регистрации проституции возникнет много сложных вопросов, требующих для разрешения их собрания особого материала, постановление приостановить приведением в исполнение закрытие вышеозначенных домов, просить г. Врачебного инспектора снестись с городами, в коих закрытие домов и регистрация упразднены, причем войти в сношение с городом по вопросу о принятии больницы комитета вместе с имеющимися средствами в свое ведение и организации амбулаторной бесплатной помощи венерикам и сифилитикам» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 110об.–111). В этот же день ВПК рассматривал прошение содержательниц русских домов терпимости о том, чтобы в случае закрытия домов предоставить для их ликвидации срок до 6 месяцев, чтобы «проститутки могли подыскать для себя места службы». Ввиду вышеприведенного решения прошение оставили без рассмотрения (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 111об.).
В марте комитет получил ответ от Томского городского полицейского управления о том, что дома терпимости в г. Томск функционируют на общих основаниях, а в апреле – от Петроградского ВПК о том, что регистрация проституток не отменена и публичные дома существуют. В результате комитет пошел на попятную и 28 апреля 1915 г. постановил: «вопрос о закрытии домов терпимости и об изменении правил надзора за проституцией впредь до выработки нового положения в Петрограде рассмотрением отложить» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 114). Учитывая же необходимость исполнения предложения губернатора о закрытии домов терпимости в Старо-Корейской слободке5, находящихся ближе 150 сажень от Покровской церкви, решили предложить содержательницам перенести свои публичные дома в другое место не позднее, чем к 1 января 1916 г. с предупреждением, что заведения не исполнивших будут закрыты (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 115).
Предложенное городом место на окраине – восточнее мельницы Русского Мукомольного товарищества – было незаселенным и неблагоустроенным, осенью 1915 г. оно оставалось в прежнем состоянии. 8 октября 1915 г. Владивостокская городская дума приняла постановление № 124 об увеличении сроков переноса до 1 июня 1916 г. 18 декабря 1915 г. Комитет постановил объявить содержательницам публичных домов новый срок переезда (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 123).
7 июня 1916 г. Владивостокский полицмейстер сообщил ВПК, что перенос домов терпимости из Старо-Корейской слободки на свободное место восточнее мельницы Русского мукомольного товарищества он нашел невозможным «по следующим основаниям: 1. Площадь, указанная думой, на текущий год уже сдана городской управой китайцам под огороды и последними уже разработана. 2. Жилых помещений в этом районе, где можно было бы разместить дома терпимости, не имеется, за исключением постройки, возведенной неким Ефимовым, предполагающим открыть в нем маслобойный завод. 3. Предположенная под дома терпимости местность находится вблизи костомольного и стеклянного завода и Русского Мукомольного Товарищества. Кроме того, вблизи расположены мастерские по сборке вагонов, рабочие которых расквартированы по квартирам Первой Речки, версты за 1½–2 казармы военного ведомства. 4. Полицейские посты около намеченной местности не установлены и установить их в виду ограниченного штата городовых не представляется возможным. 5. С переносом в это место домов терпимости весьма возможны столкновения рабочих с солдатами, тем более, если принять во внимание существование здесь тайной торговли спиртными напитками. 6. Также возможны будут грабежи и убийства вследствие отдаленности, разбросанности и неблагоустроенно-сти этого района, где отсутствует надлежащее освещение улиц» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 130–131).
Почти одновременно в комитет обратились содержательницы японских публичных домов, возбудившие ходатайства перед городской управой об отводе им в указанном месте в аренду участков под постройку домов, сообщив, что отведенные участки оказались для них малы, их пересекали овраги и речка, поэтому необходимо было сооружение мостов. Они просили комитет об отсрочке переноса до благоустройства местности. Содержательницы же русских домов ходатайствовали об отсрочке до постройки на новом месте домов кем-либо из домовладельцев, ибо на строительство собственных домов у них не было средств, поскольку «мужья некоторых из них находятся на военной службе» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 131–131об.).
21 июня 1916 г. ВПК отсрочил переезд до 1 октября 1916 г. с предупреждением о том, что не исполнившие будут лишены права содержать заведения, и перестал давать разрешения на открытие новых домов в Старо-Корейской слободке (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 130-132, 134, 135об.).
30 августа 1916 г. военный губернатор области напомнил комитету об обязательном закрытии всех домов терпимости в Старо-Корейской слободке с 1 октября. 28 сентября 1916 г., рассмотрев его приказ и ходатайство 12 содержательниц японских домов терпимости о разрешении временно перевести дома в Куперовскую падь или любую другую местность, комитет постановил объявить хозяйкам, что дома в Старой Корейской слободке тех, кто не найдет возможности перейти на указанное комитетом место, будут закрыты (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 133об.). На заседании 28 сентября 1916 г. врачебный инспектор С.В. Виноградский остался при особом мнении: «Не считаю возможным закрытие домов терпимости из-за возможности распространения сифилиса и венерических болезней в г. Владивостоке. Необходимо указать место в городе, где имеются готовые дома для переселения» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 136).
-
19 октября городская управа сообщила комитету, что отведенное городом место для переноса домов терпимости из Старо-Корейской слободки «ныне оказывается непригодным для означенной надобности, в виду начатия там работ по прокладке железной дороги и поэтому вопрос об участках под дома терпимости вновь передан на рассмотрение земельно-лесоустроительной комиссии, и затем будет внесен в Городскую Думу» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 136об.). Кроме того, в октябре содержательницы японских домов терпимости обратились к военному губернатору Приморской области и Приамурскому генерал-губернатору с просьбой об отсрочке закрытия их заведений в Старой Корейской слободке или временном переносе их на 7-ю Матросскую улицу, впредь до отвода городом участков земли в новом месте. Генерал-губернатор наложил на прошении резолюцию: «Губернатору на распоряжение. Необходимо в виду новых обстоятельств рассмотреть вновь это дело и дать хотя бы двухмесячную отсрочку». Губернатор предложил временно разрешить перенести дома на 7-ю Матросскую улицу.
28 октября 1916 г. ВПК разрешил содержательницам временно перенести их заведения на 7-ю Матросскую улицу (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 136об.–137). В ноябре 1916 г. хозяйки японских заведений уведомили комитет об избранных ими домах. Комиссия осмотрела их, признала «несоответствующими санитарно-гигиеническим требованиям», и 26 ноября 1916 г. комитет отказал в устройстве в них заведений (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 138). Вероятно, на решение комиссии и комитета оказали влияние протесты горожан, поскольку в этот же день ВПК рассматривал поступившие на имя губернатора: ходатайство городского головы от 10 ноября, два заявления обывателей и домовладельцев Матросской слободки, отношение Владивостокского епархиального училищного совета от 6 ноября, рапорт Владивостокского полицмейстера от 15 ноября. Все просили не размещать заведений на 7-й Матросской улице, а временно оставить их в Старой Корейской слободке (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 138об.).
Заключение
В результате дома терпимости остались на прежнем месте до конца 1916 г., а в феврале 1917 г. началась революция, которая привела дело надзора за проституцией к полному развалу. 11 апреля 1917 г. Владивостокский ВПК постановил: «1. Регламентацию проституции уничтожить. 2. Дома терпимости, существующие по прежним правилам, закрыть. Правила считать утратившими свое назначение, а Врачебно-полицейский комитет несуществующим. 3. Не выселяя женщин из бывших домов терпимости, просить их сорганизоваться и, если будут заниматься проституцией, сорганизовать врачебно-санитарный надзор» (РГИА ДВ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 71. Л. 142а-142б.). ВПК прекратил свое существование, а с ним и требования региональной администрации и органов городского самоуправления о переносе публичных заведений на окраины.
Итак, после постановки вопроса о необходимости переноса публичных домов из центра на окраины Владивостока в первый раз решение проблемы растянулось на несколько лет. Бесконечная переписка и бесчисленные заседания не продвигали ход дела. Региональная администрация и ВПК наталкивались на скрытое сопротивление содержательниц публичных заведений, которым невыгодно было переезжать на слабозаселенные и неблагоустроенные окраины. Владивостокское городское самоуправление также не спешило создавать хоть сколько-нибудь приемлемые условия для переезда. Это было связано как с нехваткой средств в городском бюджете на устройство, ремонт городских улиц и их освещение, так и с большим вниманием городских властей к благоустройству центра города. Военный губернатор Приморской области, глубоко раздосадованный неспешностью решения проблемы городом и комитетом, подозревал их и содержательниц в саботаже его приказов. Хотя и постоянные уступки со стороны губернатора и комитета, вероятно, также способствовали убежденности хозяек публичных заведений в их безнаказанности, поскольку глав- ной причиной невозможности кардинально решить вопрос и закрыть публичные дома было опасение региональной администрации и ВПК, что этот промысел в результате перейдет в теневую плоскость, проститутки перестанут проходить медицинские осмотры, что приведет к всплеску венерических заболеваний среди военного и гражданского населения города. Вторая попытка переноса публичных домов из Старо-Корейской слободки дальше на окраину, затеянная в годы Первой мировой войны, не увенчалась успехом по тем же причинам.