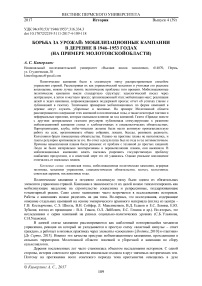Борьба за урожай: мобилизационные кампании в деревне в 1946-1953 годах (на примере Молотовской области)
Автор: Кимерлинг Анна Семеновна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советского общества
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Политические кампании были в сталинскую эпоху распространенным способом управления страной. Рассматривая их как управленческий механизм и учитывая его реальное воплощение, можно лучше понять политические проблемы того времени. Мобилизационные политические кампании имели стандартную структуру: идеологический посыл через центральную, а затем и местную прессу; организационный этап; мобилизация масс; реализация целей и задач кампании, сопровождающаяся поддержкой прессы; отчет об успехах (также с публикацией в газетах). Типичными примерами мобилизационных по форме кампаний в деревне могут служить уборочные и посевные. На примере Молотовской области рассматриваются содержание этих кампаний в послевоенные годы, а также некоторые тактики и неформальные практики, которые оказывали влияние на ход кампаний. Газета «Правда» вместе с другими центральными газетами регулярно публиковала стимулирующие к развитию мобилизационной кампании статьи о хлебозаготовках и социалистических обязательствах. Парторганизации, клубы, избы-читальни должны были вести активную пропагандистскую работу на селе, организовывать общие собрания, лекции, беседы, развивать радиосеть. Колхозники брали повышенные обязательства. Однако на практике планы не выполнялись, и газеты регулярно критиковали за это. Но отчет о результатах был из года в год оптимистичным. Причины невыполнения планов были разными: от проблем с техникой до простых хищений. Люди не были материально заинтересованы в перевыполнении планов, они выживали. В мобилизационных кампаниях власть пыталась разрешить государственную проблему снабжения продуктами, и в известной мере это ей удавалось. Однако реальное воплощение отличалось от идеальных планов.
Cталинская эпоха, мобилизационная политическая кампания, аграрная политика, механизм управления, социалистическое обязательство, колхоз, колхозники, советская деревня, послевоенные годы
Короткий адрес: https://sciup.org/147203826
IDR: 147203826 | УДК: 94(470.53)"1946/1953":316.334.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-109-118
Текст научной статьи Борьба за урожай: мобилизационные кампании в деревне в 1946-1953 годах (на примере Молотовской области)
Политические кампании в позднюю сталинскую эпоху были одним из обязательных элементов управления страной. Кампании в зависимости от их целей можно типологизировать как мобилизующие население на строительство социализма и репрессивные, поддерживающие тоталитарный режим. Само слово «кампания» часто встречается в исследованиях историков. Работы о кампаниях можно разделить на два типа. Во-первых, это исследования, содержащие описание отдельных кампаний на основе эмпирического архивного материала (взгляд из центра – Г.В. Костырченко, С.Э. Шноль, В.Н. Сойфер, Л. Максименков, В.Д. Есаков и Е.С. Левина, Е.Ю. Зубкова; взгляд из провинции – В.А. Гижов, О.Л. Лейбович, Е.С. Генина и др.). Во-вторых, это исследования о серии кампаний на разных социально-политических уровнях (С.Б. Ульянова, С.Н.Ушакова).
В данной статье кампании рассматриваются как шаблонный повторяющийся механизм управления, реакция на который не укладывается в простую схему «властный импульс – ответ граждан», а работает в низовых практиках через элементы «своеволия» [ Людтке , 2010] и «тактики» [ Де Серто , 2013]. Именно эти качества присущи мобилизационным кампаниям, проходившим в сельских территориях Молотовской области: посевной и уборочной и кампании по сбору сельхозналогов.
Деревня послевоенных лет часто становилась объектом исследования историков. С одной стороны, история советского крестьянства изначально входила в круг значимых исторических тем. Поэтому на протяжении всего советского периода тема крестьянства освещалась в духе
господствовавших идеологических принципов. С другой стороны, развитие концепта «повседневность» на рубеже 1990 и 2000 гг. придало этой теме новый импульс и наполняло ее новым содержанием.
В советской историографии И.В. Кометчиков выделяет три периода изучения крестьянства в зависимости от партийных установок: с середины 1940-х по середину 1950-х гг., когда осуществлялось «донаучное накопление» материала; с середины 1950-х по середину 1960-х гг., когда возобновилась публикация статистических материалов и стали появляться исторические, экономические и этнографические исследования деревни; с середины 1960-х по конец 1980-х гг., когда началось изучение социальных изменений в советской деревне [ Кометчиков , 2005, с. 5; 2015, с. 14].
Работы советского и постсоветского периодов о производительных силах деревни анализирует в своей диссертации Ю.В. Ищенко [ Ищенко , 2005]. Историография исследований, посвященных восстановлению деревни после Великой Отечественной войны представлена в статьях Н.В. Кузнецовой [ Кузнецова , 2011, с. 144–146] и И.М. Волкова [ Волков , 2000].
Впервые в постсоветские годы аграрная история в основном изучалась через оптику модернизационного подхода, ставшего в тот период едва ли не мейнстримом отечественной науки. Наибольший вклад в исследование аграрного сектора в рамках этого подхода внесли М.А. Безнин и Т.М. Димони [ Безнин, Димони, 2005; Вишневский , 1998]. Они описывали советскую деревню через концепт государственного капитализма. Модернизационные процессы в уральской деревне рассматривает Г.Е. Корнилов [ Корнилов, 2015 ].
В.П. Попов и О.М. Вербицкая, изучая процессы «раскрестьянивания» советской деревни вследствие советского модернизационного проекта, уделяют особое внимание не только материальному положению колхозников, но и трансформации духовной культуры и быта послевоенной деревни. В трудах многих историков, посвященных драматическим событиям в послевоенной деревне, таким как голод, увеличение налогового бремени, депортация сельского населения, элементы истории повседневности встречаются особенно часто. Это работы Ф.М. Зимы, Т.Д. Надькина, В.В. Кондрашина, О.Р. Хасьянова, Р.Р. Хасамутдиновой, Е.А. Чайки и мн. др.
В настоящее время можно констатировать настоящий бум исследований, посвященных истории повседневности в советской деревне послевоенного периода. Так, И.Е. Кознова изучает проблемы отражения в исторической памяти эволюции ментальных установок российского крестьянства [ Кознова , 2016]. Значительное число авторов уделяют внимание проблемам распространенности и трансформации религиозных представлений в среде послевоенного крестьянства [ Зубкова , 1999; Вербицкая , 1992; Беглов , 2008; Димони , 2000; Михайловский , 2010]. Еще чаще методология повседневности ложится в основу исследования послевоенной деревни в Восточной Сибири [ Ковригина , 2009; Миронов , 2012], Центральной России [ Кометчиков , 2015; Загороднев , 2011], Поволжья [ Хасянов , 2017], Калининградской области [ Костяшов , 2015], Юга России [ Стругова , 2007], Дальнего Востока [ Стрельцова , 2006].
Изучение повседневных практик крестьян и тактики хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий на селе позволяет определить особенности поздней сталинской эпохи.
В послевоенные годы, когда государство быстрыми темпами восстанавливало промышленность, деревня должна была обеспечивать снабжение города продуктами питания. Поэтому с 1946 г. начали проводить ежегодные массовые политические кампании, наполненные ритуальными действиями и идеологическими посылами, мобилизующие деревню на борьбу за урожай. Но планы все равно не выполнялись. Обращение к реалиям жизни крестьян Молотовской области позволит разобраться в причинах этих неудач, понять, как повседневные тактики, практикуемые на селе, влияли на ход кампаний.
Кампании, мобилизующие население на борьбу за урожай, имели ту же структуру, что и прочие кампании мобилизационного типа: они начинались, а затем подпитывались газетными публикациями в центральной и местной прессе, выступлениями по радио, важность их подробно и многократно разъясняли гражданам на разных массовых мероприятиях, об их ходе давали отчет. Каждый этап кампании имел свои цели. Серия передовиц через центральную, а затем и через местную прессу задавали тон и формулировали дискурс кампании, создавали идеологический посыл, который публично определял ее цели. Организационный этап институциализировал ее, устанавливал нормы и ритуалы. Многократное повторение в печати установок кампании, усиленное действиями партии и хозяйственного руководства всех уровней, давало возможность запрограммировать поведение людей и заставить их действовать не задумываясь. Затем следовала мобилизация масс, т.е.в кампанию включались трудовые коллективы, которые не только брали конкретные обязательства, но и предлагали встречные планы. Кампания сопровождалась публикациями об усилиях и критикой недостатков.
В статье описываются действие механизма мобилизационной кампании применительно к борьбе за урожай, а также особенности повседневности и социально-экономической ситуации на селе, которые оказывали влияние на ход и результат кампании.
Типичными для деревни были уборочные и посевные кампании. Военное происхождение слов «кампания» и «борьба за урожай» было неслучайным. Сельскохозяйственные кампании проводились с использованием военных технологий, предполагали тактические и стратегические решения и действия. Райкомы партии направляли на село своих уполномоченных, которые должны были обеспечить выполнение государственного плана заготовок.
В кампаниях достаточно активно участвовали представители МГБ. О событиях уборочной кампании 1949 г. можно обнаружить такую информацию: «В период уборочной кампании, летом 1949 г., начальник Чернушинского РО МГБ И-ов вместе с секретарем РК ВКП (б) тов. К-ым, будучи в пьяном виде, избил председателя колхоза "Заря социализма" И.Ф.Ф. (имена зашифрованы автором. - А. К. ) и угрожал ему оружием». В данном случае важно обратить внимание на действия должностного лица, который с оружием в руках требовал что-то во время уборочной кампании от председателя колхоза.
Начиналась кампания с публикаций в центральной прессе. Газета «Правда», а за ней и местные газеты регулярно печатали передовицы мотивационного характера: «Выполнение плана хлебозаготовок - важнейшая государственная задача» (Правда,1946, 9 окт.), «Выше уровень политической и организаторской работы на хлебозаготовках» (Правда,1946, 12 окт.), «Все силы колхозных парторганизаций - на борьбу за хлеб» (Правда,1946, 17 окт.). С начала октября «Правда» и другие центральные газеты («Известия», «Комсомольская правда», «Животноводство», «Социалистическое земледелие») на первых полосах публиковали социалистические обязательства колхозников каждой области страны.
Организационный этап кампании объединялся с мобилизационным. Например, на 20-м пленуме Молотовского обкома партии докладчики объясняли, что парторганизации, клубы, избы-читальни должны вести активную пропагандистскую работу на селе: проводить общие собрания, лекции, беседы, развивать радиосеть. От редакций газет требовалось «широко освещать ход соцсоревнования, смело критиковать недостатки отстающих» (Стенограмма 20 пленума…, 1946, л. 36).
«Встречный план» был формой ритуализированной «инициативы масс» в рамках мобилизационной кампании, организованной властью. Он предполагал взятие на себя более высоких социалистических обязательств, досрочное выполнение всех планов, большие объемы хлебозаготовок. Информация о размерах «встречных планов» также публиковалась в газетах. Встречный план мог стать значимой причиной голода. В письме брату инвалид Отечественной войны 2-й группы Александр Б-в, 1911 г. рождения (место жительства - с. Старый Брод Чернушинского района Молотовской области), писал 28 января 1947 г.: «Примерно с апреля–мая грозит хороший голод. В колхозах что полагалось на трудодни сверх госпоставок, осенью приехали представители и буквально все отправили в порядке "встречного" плана сдачи, под Красным Флагом. Колхозники уже голодают. Тяжелое время подошло и еще предвидится тяжелее» (Справка о наличии компрометирующих материалов..., 1951, л. 145).
В сельском хозяйстве, как и в промышленности, планы выполнялись плохо. Типичным можно назвать доклад на пленуме Молотовского обкома партии 1946 г. Он начинается с ритуальной фразы: «план хлебозаготовок выполнен», но потом докладчик перечисляет реальные проблемы: «18 районов области не обеспечили выполнения плана сельскохозяйственных работ <.> более 600 колхозов не обеспечили себя семенами весеннего сева, не создали необходимые фуражные и страховые фонды, мало выдали колхозникам хлеба по трудодням. <.> В Большесосновском районе весенний сев проводили 53 дня и закончили его только к 26 июня. Удобрили только 11% яровых <.> подборонили озимых только 20% <.> Широко распространен ручной посев <…> по состоянию на 1 апреля 1946 план зимней вывозки навоза выполнен на 74%, собрано золы 11%, завезено минеральных удобрений 47%. <…> на складах скопилось более 3 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако вывозка идет крайне медленно... Беда в том, недостаток лошадей и других транспортных средств <…> большинство районов и по настоящее время неудовлетворительно занимается выращиванием картофеля и овощей. Например, Нытвенский район в 1945 выполнил план посева овощей на 90%, картофеля на 84 %. План заготовок картофеля выполнил на 77%, овощей – на 85%» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 6–15).
Причина неудач сельскохозяйственных кампаний заключалась, с одной стороны, в плохом техническом оснащении колхозов, а с другой – в тактиках выживания крестьян, которые при отсутствии экономической мотивации труда уклонялись от работы в колхозе, записывались в рабочие и прибегали к неформальному распределению продуктов. Судя по «письмам во власть» из разных районов страны, «плохой урожай и большой падеж поголовья в районе и области объясняют дождливыми летом и осенью 1946 года, фактически же в большей доле это следствие массового расхищения» (Письмо уполномоченным Орловского райкома Н. Федорова, 1946).
В.Ф. Зима писал, что «техническое оснащение сельского хозяйства было прекращено в самом начале войны. Все без исключения заводы, производившие сельскохозяйственные машины и оборудование, были переключены на военную технику. Поставка селу тракторов и плугов по сравнению с предвоенной сократилась в 9 раз, комбайнов – в 50 раз» [ Зима , 1996, с. 12]. Это послужило причиной того, что в колхозах Молотовской области функции сельхозмашин выполняли лошади (на них приходилось около 70% всех работ). Однако с их содержанием были связаны серьезные проблемы, например, отмечалось истощение лошадей, поскольку они недополучали корм из-за регулярных хищений. При этом лошади находились в неотапливаемых конюшнях: «…Конского поголовья на 1 января 1946г. <…> в Больше-Сосновском районе 11% истощенных лошадей и 58% ниже средней упитанности, в Чердынском районе 25 и 50, в Карагайском 10 и 56%» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 20–21).
Сохранившаяся сельскохозяйственная техника чаще всего была устаревшей и в плохом состоянии. Планы по ее ремонту и восстановлению тоже не выполнялись: «на 1 апреля 1946 в колхозах отремонтировано плугов 88%, сеялок 83%, культиваторов 72% <…> из 88 МТС (общее количество МТС в Молотовской области. – А.К. ) в 1945 выполнили государственный план тракторных работ только 62 <…> план сдачи натуроплаты выполнили 56 МТС» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 22).
Но, пожалуй, более значимой причиной неудачи кампаний по борьбе за урожай были тактики выживания крестьян в трудных условиях послевоенных лет. Крестьяне, работая в колхозе за трудодни, пытались минимизировать трудовые затраты. Колхозники не вырабатывали норму трудодней (она по-прежнему была на уровне военных лет), регулярно не выходили на работу: «Среднегодовая выработка на одного работоспособного колхозника с 300 трудодней в 1940 увеличилась до 320 трудодней в 1944 году <…> В Кунгурском районе число колхозников, не выработавших минимума трудодней, возросло с 86 человек в 1944 году до 128 человек в 1945, в Черновском районе соответственно – с 31 до 88 человек, в Уинском районе – с 124 до 227 человек» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 17). Даже учитывая возвращение фронтовиков, цифры демонстрируют популярность тактики отказа от бесплатной работы за трудодни среди колхозников. Показательную статистику по одному из колхозов Молотовкой области привел на пленуме председатель облисполкома тов. Швецов: «В колхозе "Трудовик" Оханского района был сделан анализ использования лошадей и людей за каждый день января 1946г. <…> из имеющихся 20 лошадей и 75 трудоспособных колхозников ежедневно работало людей 30–32 и максимум 66 человек, а лошадей 4–5–13 и максимум 19 <…> за месяц в целом получилось, что в колхозе ежедневно не использовалось 20 человек людей и 7–8 лошадей» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 45).Сомнительно, чтобы в докладе использовался редкий случай, вероятно, такая ситуация была достаточно типичной.
Судя по всему, колхозники вполне резонно считали бессмысленной работу за трудодни, ничем не обеспеченные. Вместо этого они искали способы более продуктивного заработка, например, работали на своих приусадебных участках или в подсобных хозяйствах заводов (во втором случае они получали статус рабочего и все связанные с этим преимущества). Председатель колхоза «Ленинский путь» Кунгурского района Молотовской области писал Сталину, что многие колхозники меняли социальный статус (по мобилизации или самовольно): живя в селе, официально становились рабочими и служащими больниц, артелей, школ. В колхозе «Ленинский путь» из 520 домохозяйств лишь 180 входили в коллективное хозяйство. При этом хозяева оставшихся 340 участков бесплатно использовали для выпаса собственного скота колхозные пастбища (из числа пахотных земель колхоза), а нетрудоспособных членов семьи и детей записывали в колхоз, чтобы семья получила право еще и на приусадебный участок от 0,25 до 0,35 га. (Письмо И.В. Сталину…, 1951, л. 122–125).
ЦК ВКП(б) и СНК СССР было издано Постановление «О государственном плане сельхозработ на 1946 год», в котором подчеркивалась необходимость организовать все сельскохозяйственные работы на основе индивидуальной и мелкой групповой сдельщины, организовав внутри бригад звенья на весь сезон. Но практика отличалась от планов: «В Кишертском районе весной 1945 г. было организовано 45 звеньев на семенных участках, 63 звена по выращиванию овощей и 87 звеньев по выращиванию картофеля <…> к концу года сохранилось 22 овощеводческих звена, а все другие распались. Дополнительная оплата была начислена всего 14 звеньям» (Стенограмма 19 пленума, 1946, т. 1, л. 18). Дело в том, что дополнительная плата полагалась за перевыполнение задания. Получается, что распалось подавляющее большинство звеньев, а из тех, что остались, менее 50% перевыполнили план. По сути, сельскохозяйственные мобилизационные кампании провалились даже на бумаге. Кампания в прессе, однако, представляла собой поток позитивной информации. Как писал в дневнике А. Дмитриев, «вообще-то по газетам живется очень хорошо» (Личные дневники А.И. Дмитриева…, 1946, л. 93об.–94).
Форму кампании на селе принимал и сбор сельскохозяйственных налогов. Крестьяне платили значительные налоги: за приусадебные участки, за домашний скот. Об этом свидетельствуют следующие материалы Коми АССР: «Платить приходилось также за каждое животное, находившееся в хозяйстве. Так, доходность 1 коровы в среднем по РСФСР была установлена государством в размере 2540 рублей в год, в Коми – 1800 рублей. Крестьянин в 1948 году в республике отдавал сталинскому государству за неё налог в размере 198 рублей. Много ли это было? Усреднено, денежный доход от трудодней в республике на 1 хозяйство в том же году составлял 373,59 рублей. Т.е. крестьянин отдавал со своей колхозной "получки" до 53% только за корову. Колхозница Е.М. Семяшкина из колхоза имени Маленкова Троице-Печорского района заплатила в 1950 году налог в размере 539,04 рублей. Налог был выплачен с: 1 коровы; 390 кв. метров огорода под картофель; – грядки в 20 кв. метров; 1,5 гектаров сенокосов» (70-процентные налоги…). О проблемах крестьян в Молотовской области писали: «С колхозника "вытрясается" налог во всяких видах, а где он возьмет деньги? От продажи с/х продуктов, хлеба? Область к 15 октября выполнила план хлебосдачи, а до сих пор свободная продажа хлеба колхозникам не разрешена (по закону излишки частные лица могли продавать, когда план выполнен колхозом. – А.К. ), однако колхозник вынужден где-то найти деньги для налога и своих нужд. Для этого он продает свои "излишки" хлеба, полученные по 1,5 кило на трудодень. Везет и продает из-под полы» (Справка о наличии…, 1951, л. 146).
Руководство было недовольно тем, что налоги с крестьян собирались неполностью. В ноябре 1950 г. бюро Молотовского обкома приняло постановление «О ходе выполнения плана поступления сельскохозяйственного налога и других платежей с населения и колхозов области», в котором отметило неудовлетворительный сбор платежей: «План сельскохозяйственного налога выполнен всего лишь на 54%, в третьем квартале в бюджет недодано 6572 тысячи рублей, сорваны мероприятия по сбору налога в октябре…, крайне плохо организована также работа по сбору подоходного налога с колхозов, налога с малосемейных, страховых платежей и займовых средств». Происходит это, но терминология кампаний, «в результате запущенности дела с мобилизацией средств в бюджет…» (Постановление бюро…, 1950, л. 59). Сбор налогов расценивался как мобилизация средств, одна из важнейших хозяйственно-политических кампаний. Проблемы же со сбором налогов возникали еще и потому, потому что «финансовые работники на местах систематически отвлекаются от своей основной работы для проведения тех или иных кампаний в районе» (Там же, л. 61).
Еще одна практика выживания, появившаяся в годы войны, – использование подсобных хозяйств заводов и приусадебных участков. После войны эту практику решили прекратить, но не получилось. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 19 сентября 1946 г. приняли Постановление «О мерах по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели в колхозах», которое возвращало колхозы в довоенные границы, забирая землю приусадебных участков колхозников и подсобные хозяйства у организаций. Согласно постановлению следовало «проверить в натуре в срок до 15 ноября 1946 года по каждому колхозу и сличить с записями в земельных шнуровых книгах наличие общественных земель и размеры приусадебных участков, изъять незаконно захваченные земли как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и учреждений для подсобных хозяйств и возвратить их колхозам. Восстановить в этот же срок всю документацию записи земель колхозов (акты, шнуровые книги и т.д.). Отменить пункт 2 действовавшего на время войны Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 года о предоставлении на время войны Совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и областным исполкомам, при отсутствии свободных городских земель и земель госфонда, права разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям производить временно посевы на неиспользуемых землях колхозов с согласия последних, а земли, временно переданные по этому Постановлению, вернуть соответствующим колхозам в срок до 15 ноября 1946 года» (Постановление Совета Министров…, 1946).
Выполнить это постановление в срок не смогли. Многие влиятельные предприятия и учреждения Молотовской области не вернули землю даже к началу 50-х гг. В письме председателя колхоза «Ленинский путь», написанном Сталину в 1951 г., содержится просьба вернуть в колхоз крестьян, которые работают в подсобных хозяйствах Молотовского завода №33, завода №19 и Кунгурской колонии № 2 (Письмо И.В. Сталину…, 1951, л. 122–125). Председателя колхоза не смущало само существование этих подсобных хозяйств. Видимо, это нарушение устава сельхозартели воспринималось как норма. В некоторых случаях властные структуры обходились без формальностей: «работники МТС на колхозных землях в 1947 г. производили посев для райкома партии на площади 1 гектара» (Доклад о состоянии…, 1948, л. 154).
Купить в сельской местности промышленные товары было достаточно сложно. И в 1948 г., «несмотря на отмену карточной системы, все еще продолжают иметь место факты не открытой торговли, а по принципу распределений, особенно таких товаров, которые являются в условиях сельской местности дефицитными. Так еще в июне месяце с.г. по распоряжению… было скрыто под прилавком продавца раймага П. большая партия чулок и 12 метров диагонали, предназначенных для определенной группы людей районного центра <…> а еще в данное время <…> хлеб продается по этим родственным и товарищеским признакам» (Состояние дел..., 1948, л. 169–171). В письмах А. Белев описывал противоречие между пропагандой и реальностью в доступе к промтоварам деревенских жителей: «Хорош был доклад Молотова… тут, например, говорится, что промышленность достигла довоенного уровня. А где, спрашивает колхозник, продукция этой промышленности? Как с 1940 года колхознику ничего не давали ни на копейку, так и до сих пор он ничего не получил от промышленности ни на грош» (Справка о наличии…, 1951, л. 145). В реальности неформальные способы распределения продуктов и промтоваров одинаково использовались на селе и в городе.
Борьба за урожай как политическая кампания со временем приобретала все более ритуализированную форму: в газетах печатались передовицы, на местах давали «повышенные обязательства», руководство отчитывалось об успехах, но планы не выполнялись. Кампании, несмотря на старания местных властей, сталкивались как с социально-экономическими проблемами, так и с повседневной тактикой, которая препятствовала их реализации.
Список литературы Борьба за урожай: мобилизационные кампании в деревне в 1946-1953 годах (на примере Молотовской области)
- Безнин М. А., Димони Т. М. Капитализация в российской деревне 1930-1980-х гг. Вологда: ИПЦ «Легия», 2005. 130 с.
- Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущёву. Середина 40-х -начало 60-х гг. М.: Наука, 1992. 224 с.
- Волков И. М. Деревня СССР в 1945-1953 годах в новейших исследованиях историков//Отечественная история. 2000. №6. С. 115-124.
- «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937-1938 гг./отв. ред. О.Л. Лейбович. М.: РОССПЭН, 2009. 318 с.
- Генина Е.С. Кампании по борьбе с космополитизмом в Сибири 1949-1953. Кемерово: Изд-во Кемер. гос. ун-та, 2009. 255 с.
- Гижов В.А. Идеологические кампании 1946-1953 гг. в российской провинции (на примере Саратовской и Куйбышевской областей): Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2004. 211 с.
- Де Серто М. Изобретение повседневности. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.
- Есаков В.Д., Левина Е.С. Сталинские «суды чести»: «Дело "КР"». М.: Наука, 2005. 440 с.
- Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 гг.: происхождение и последствия. М.: РАН, 1996. 265 с.
- Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. М.: РОССПЭН, 1999. 229 с.
- Иванов Н.С. Раскрестьянивание деревни (середина 40-х гг.-50-е гг.)//Судьба российского крестьянства. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С. 416-435.
- Ищенко Ю.В. Развитие производительных сил села в послевоенный период: середина 1940-х -начало 1950-х гг. (На материалах Саратовской и Сталинградской областей): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2011. 19 с.
- Кознова И.Е. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России. М.: РОССПЭН, 2016. 464 с.
- Кометчиков И.В. Повседневные взаимоотношения власти и сельского социума Центрального Нечерноземья в 1945-1960-х гг.: Дис… докт. ист. наук. Вологда, 2015. 440 с.
- Корнилов Г.Е. Аграрная и демографическая модернизация России в конце ХIX - начале XXI вв.: региональное измерение // Педагогическое образование в России. 2015. №12. С. 58-63.
- Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М.: Междунар. отношения, 2003. 784 с.
- Костяшов Ю.В. Повседневность послевоенной деревни: Из истории переселенческих колхозов Калининградской области. 1946-1953. М.: РОССПЭН, 2015. 264 с.
- Кузнецова Н.В. Отечественная историография об экономических и социальных проблемах послевоенного восстановления и развития страны в 1945-1953 гг.//Вестник Волгоградского государственного университета. 2005. Сер. 4. Вып. 10. С. 141-146.
- Лейбович О.Л. Разорение дома Париных: Молотовские медики в политической кампании 1947//Лейбович О. В городе М. М.: РОССПЭН, 2008. С. 37-72.
- Людтке А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти/под общ. ред. С. В. Журавлева; пер. с англ. и нем. М.: РОССПЭН, 2010. 271 с.
- Максименков Л. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938. М.: Юрид. книга, 1997. 229 с.
- Миронов Р. Б.Социальные проблемы колхозного крестьянства Байкальского региона (1945-1956 гг.): Автореф. дис. …канд. ист. наук. Иркутск, 2012. 24 с.
- Михайловский А. Ю. Провинциальные церковные приходы во второй половине 1940-х гг. // Вопросы истории. 2010. № 6. С. 143-145.
- Надькин Т.Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М.: РОСПЭН, 2010. 198 с.
- Попов В.П. Голод и государственная политика//Отечественные архивы. 1992. № 6. С. 37-60.
- Сойфер В.Н. Сталин и мошенники в науке. М.: Добросвет, Городец, 2012. 480 с.
- Стрельцова Т. П. Амурская деревня: противоречия и трудности послевоенного развития (1946-1965 гг.): Дис.… канд. ист. наук. Владивосток, 2006. 283 с.
- Стругова М. Р.Социальные процессы в послевоенном советском обществе (1945-1953 гг.): на примере Краснодарского края: Дис.… канд. ист. наук. Краснодар, 2007. 265 с.
- Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х -1953 г.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 424 с.
- Ульянова С.Б. «То на боку, то на скаку»: Массовые хозяйственно-политические кампании в петроградской/ленинградской промышленности в 1921-1928 гг. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2006. 530 с.
- Ушакова С. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники. М.: РОССПЭН, 2013. 215 с.
- Хасамутдинова Р.Р. Антикрестьянская сущность Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. и его осуществление на Урале // Вестник Оренбургского государственного университета. 2002. № 8. С. 56-62.
- Хасянов О. Р. Повседневная жизнь советского крестьянства в послевоенное время. 1945-1953 гг. (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей): Дис. … докт. ист. наук. Самара, 2017. 459 с.
- Шноль С.Э. Герои и злодеи советской науки. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. 464 с.