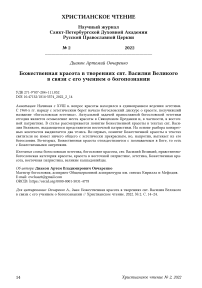Божественная красота в творениях свт. Василия Великого в связи с его учением о богопознании
Автор: Овчаренко Артем Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
Начиная с XVIII в. вопрос красоты находился в единоправном ведении эстетики. С 1960-х гг. наряду с эстетическим берет начало богословский дискурс о красоте, получивший название «богословская эстетика». Актуальной задачей православной богословской эстетики сегодня является осмысление места красоты в Священном Предании и, в частности, в восточной патристике. В статье рассматривается понятие Божественной красоты в текстах свт. Василия Великого, выдающегося представителя восточной патристики. На основе разбора конкретных контекстов выдвигается два тезиса. Во-первых, понятие Божественной красоты в текстах святителя не имеет ничего общего с эстетически прекрасным, но, напротив, вытекает из его богословия. Во-вторых, Божественная красота отождествляется с познаваемым в Боге, то есть с Божественными энергиями.
Богословская эстетика, богословие красоты, свт. василий великий, нравственнобогословская категория красоты, красота в восточной патристике, эстетика, божественная красота, восточная патристика, великие каппадокийцы
Короткий адрес: https://sciup.org/140293634
IDR: 140293634 | УДК: 271-9"03"-284+111.852
Текст научной статьи Божественная красота в творениях свт. Василия Великого в связи с его учением о богопознании
Долгое время монополия на разработку вопроса красоты принадлежала эстетике. Узкоэстетический подход к вопросу красоты ограничивается чувственно воспринимаемой красотой в искусстве. В 60-х гг. ХХ в. возникает новый для эпохи модерна подход к красоте, приверженцы которого сознательно обращаются к широкому понятию красоты, помимо эстетически прекрасного учитывающему нравственную и Божественную красоту. На Западе этот подход впервые был реализован католическим теологом Г. У. фон Бальтазаром [Бальтазар, 2019, 2020; Balthasar, 1962; Balthasar, 1965a; Balthasar, 1965b; Balthasar, 1967; Balthasar, 1969]. Вслед за ним свои богословские эссе красоте посвятили некоторые другие католические [Navone, 1996; Forte, 1999; Radaelli, 2010] и православные [Евдокимов, 2006; Харт, 2010; Давыдов, 2020] авторы. К настоящему моменту можно констатировать появление богословской эстетики — нового направления, которое с богословских позиций осмысляет вопросы, традиционно относимые к ведению эстетики. Среди последних числится как один из главнейших и вопрос красоты.
Перед богословской эстетикой с самого ее появления встала актуальная задача реконструкции с богословских позиций идей о красоте у христианских авторов Средневековья. Если красота действительно имеет не только эстетическое, но еще и богословское измерение, то, очевидно, на повестку дня выходит осмысление нравственнобогословской проблематики красоты в христианской богословской традиции. К этой важнейшей работе впервые обращается уже сам основатель богословской эстетики, однако в своей выборке авторов христианского Средневековья основное внимание он уделяет западным теологам, из авторов восточной патристики остановившись на одном св. Дионисии Ареопагите [Бальтазар, 2020]. Последующие за Бальтазаром западные авторы, в целом, поддерживают этот посыл — фокусироваться, главным образом, на мыслителях западной традиции. Из восточных отцов до сих пор западные авторы уделяли внимание все тому же св. Ареопагиту [Bender, 2010; Sammon, 2013], а также отчасти свт. Григорию Нисскому [Харт, 2010]. Таким образом, реконструкция богословия красоты в восточной патристике только начинается1.
В этой связи актуальной задачей является реконструкция богословия красоты у выдающегося представителя восточной патристики свт. Василия Великого. В силу того идейного влияния, какое он, как признано в науке, имел на остальных каппадокийцев [Quasten, 1986], уяснение его идей о красоте является важнейшим звеном в осмыслении места красоты в Священном Предании в целом.
К настоящему моменту вопрос красоты у св. Василия уже обсуждался, однако не с богословских, а с эстетических позиций [Courtonne, 1934; Ayy^^HG, 2004]. Обращаясь к понятию прекрасного у великого каппадокийца, исследователи имели в виду описать совокупность его идей о красоте, исходя не из его богословской доктрины, а из той категории прекрасного, которое к ХХ в. выработала эстетика. Это отразилось, в частности, на том, что при анализе прекрасного у свт. Василия фокус внимания был сосредоточен главным образом на красоте чувственно воспринимаемого предмета. Оба исследователя, впрочем, пришли к справедливым выводам, отметив богословский характер дискурса красоты у свт. Василия. Так, Куртонн, ограничивая свой анализ исключительно «Беседами на Шестоднев», верно подмечает, что, с одной стороны, у святителя отсутствует цельная эстетическая теория прекрасного, но, с другой стороны, у него присутствует, по выражению исследователя, «божественный смысл красоты», который сводится к телеологическому смыслу: объекты природы прекрасны потому, что соответствуют цели Творца о них в контексте творения в целом [Courtonne, 1934, 133-134]. Ангелис также приходит к выводу о том, что у свт. Василия красота чувственного предмета имеет телеологический смысл. По сравнению с Куртонном он, однако, делает существенный шаг вперед, правильно указывая на связь понятия красоты у святителя с нравственно-аскетическим учением и сотерио-логией, хотя и не ставя перед собой задачу полноценной реконструкции этой связи [Αγγελής, 2004].
При всей важности полученных исследователями данных эти результаты нельзя считать завершением разговора о красоте у великого каппадокийца. Многочисленные контексты в корпусе творений свт. Василия содержат понятие Божественной красоты. Уже это наблюдение общего характера заставляет высказать предположение о том, что представления святителя о красоте целесообразно связывать с его богословием и выводить из него. Более перспективным представляется начинать реконструкцию категории красоты в его произведениях с богословских позиций, а не с позиций эстетики.
Следует учитывать ту информацию, которая в полной мере не может быть отражена в рамках настоящей статьи. Во-первых, термины κάλλος («красота») и καλόν («прекрасное») святитель использует в многочисленных контекстах. В большинстве из них понятие красоты связано с богословием или аскетикой. Нигде свт. Василий не резюмирует свое понимание красоты, не предлагает конечной дефиниции. Во-вторых, оба термина в отдельных контекстах выражают не одно и то же понятие красоты, но различные понятия. Термин «красота» покрывает широкий семантический спектр — от тех или иных предметов материального мира до Божественной красоты. Более корректно говорить не о понятии красоты, а о категории красоты, которая охватывает различные понятия.
В данной статье из всего множества контекстов предлагается остановиться на небольшой выборке, где святитель использует понятие красоты по отношению к Богу, иными словами, говорит о Божественной красоте.
В беседе 15 «О вере» святитель, характеризуя Божественную природу (фботд), использует ряд понятий, среди которых содержится и понятие красоты2:
Помысли Божественную природу: неподвижную, всегда тождественную самой себе, неизменяемую, бесстрастную, простую, без какой-либо сложности или разделения, — помысли этот неприступный Свет, эту неизреченную Силу, необозримую Мощь, сверкающую Славу, вожделенную Благость, неотразимую Красоту, которая, хотя неистово схватывает пораженную душу, все же не может быть по достоинству выражена словом3.
В данном отрывке обращает на себя внимание специфическая семантика термина «красота». Если все прочие характеристики Божественной природы можно назвать отвлеченно-теоретическими4, то понятие красоты, хотя также описывает Бога, имплицитно подразумевает и воспринимающего эту красоту человека. Выражение «неотразимая Красота», которая «неистово схватывает пораженную душу», подразумевает кого-то , на кого красота оказывает впечатление, в ком продуцирует переживания. Святитель не просто сравнивает Бога с чем-то таким из повседневного человеческого опыта, что можно назвать прекрасным. Он фактически формирует сцену , в которой фигурирует два участника: некто («душа») воспринимает Бога и при этом испытывает определенные переживания.
Если попытаться разложить данную сцену на атомы смысла, можно выделить несколько параметров , которые ее формируют: {1} ‘Божественная красота’, {2a} ‘созерцатель’, {2b} ‘орган созерцания’ («душа»), {3} ‘внутреннее состояние’ (которое созерцатель испытывает в связи с восприятием Божественной красоты).
Подобную функцию понятие красоты выполняет и в следующей цитате:
Счастливая Природа, щедрая Благость, многожеланная Красота, которую любят все причастные к разуму, Начало сущих, Источник жизни, умственный Свет, неприступная Мудрость, — вот Кто «сотворил в начале небо и землю»5.
Как можно видеть, понятие красоты также относится к Божественной природе. Собственно, термин «красота» использован здесь в качестве одного из имен Бога (наряду с терминами «благость», «начало», «источник», «свет» и «мудрость»). Как и во фрагменте (1), в этой цитате понятие красоты также отличается тем, что помещается в сцену, в которой выявляются те же самые параметры. Помимо {1} ‘Божественной красоты’ здесь присутствует {2a} ‘созерцатель’ («все причастные к разуму») и, неявно, {2b} ‘орган созерцания’ («разум»). Кроме того, здесь также отмечено {3} ‘внутреннее состояние’ созерцателя: любовь и сильное страстное желание, поскольку Божественная красота описывается выражениями «та, которую любят» (ἀγαπητὸν) и «та, которую сильно вожделеют» (πολυπόθητον).
Описание в (1) — (2) сцены, в которую помещается понятие красоты, позволяет сделать вывод, что Божественная красота каким-то образом воспринимается созерцателем. Однако свт. Василий здесь не уточняет характер этой перцепции. Следующая цитата добавляет и этот параметр:
«Твоей зрелостью», т. е. при исполнении времен, и «Твоей красотой», т. е. созерцаемым и умопостигаемым Божеством6.
Эти слова святитель высказывает при толковании заключительной части стиха Пс 44:47. Цитата относится к христологии. Красота Иисуса Христа отождествляется с «Божеством» (θεότης). Данный термин в христологическом контексте указывает на Божественную природу во Христе [Lampe, 1961, 637–638]. Стало быть, здесь снова речь ведется о красоте Божественной природы. Свт. Василий заявляет, что эта красота воспринимается оптически (θεωρητή) и постигается умом (νοητή). Хотя в этом фрагменте эксплицитно не фигурирует {2a} ‘созерцатель’, пассивные причастия позволяют его здесь предполагать. Кроме того, пассивное причастие νοητή позволяет сделать вывод, что параметром {2b} ‘орган созерцания’ здесь выступает ум (voug). Содержащуюся в данном тексте мысль можно было бы выразить и так: красота Иисуса Христа — это Его Божественная природа, которую некто созерцает и постигает. Таким образом, данная цитата содержит параметры {1}, {2a} и {2b}, но не содержит {3} ‘внутреннее состояние созерцателя’. Вместо него здесь присутствует {4} ‘оптическое восприятие’ Божественной красоты.
В следующей цитате к выявленным параметрам сцены, в которую свт. Василий помещает понятие Божественной красоты, добавляется еще один:
Но красота истинная и самая вожделенная, которая открыта к созерца-(4) нию лишь тому, кто уже очистил свой ум, — эта красота относится к Боже ственной и блаженной природе8.
Как можно видеть, тут фигурируют выявленные ранее параметры. На месте параметра {1} ‘Божественная красота’ здесь снова красота Божественной природы. Параметры {2a} ‘созерцатель’ и {2b} ‘орган созерцания’ здесь отражены выражением «тот, кто уже очистил свой ум». Параметр {3} ‘внутреннее состояние’ созерцателя передается эпитетом красоты «самая вожделенная» (ἐρασμιώτατον), что означает, что созерцатель пребывает в состоянии пылкой любви по отношению к Божественной красоте. Параметр {4} ‘оптическое восприятие’ здесь также налицо. Кроме того, данная цитата содержит еще один важный параметр {5} ‘нравственное изменение’. Выражение «тот, кто уже очистил свой ум» предполагает, что созерцатель достиг оптического восприятия Божественной красоты в результате определенного внутреннего изменения; восприятие Божественной красоты есть плод внутренней работы, которую созерцатель предварительно осуществил.
В письме 150 свт. Василий использует выражение «красота славы Божьей»:
Кроме того, очистить око души, чтобы, когда отнято, словно слизь, всякое помрачение из-за невежества, стать способным воззреть на красоту славы Божьей, — это я считаю делом, требующим немалого труда, а также приносящим немалую пользу9.
На месте параметра {1} ‘Божественная красота’ здесь фигурирует выражение «красота Божьей славы», по поводу которой пока нет положительной ясности, следует ли его отождествлять с понятием красоты Божественной природы, которое было выявлено выше в (1) — (4). На месте {2a} ‘созерцателя’ здесь свт. Василий ставит самого себя. Хотя конкретно из фрагмента (5) это еще не следует, из общего содержания письма явствует, что святитель говорит о самом себе. В качестве {2b} ‘органа созерцания’ фигурирует выражение «око души». Параметры {4} ‘оптическое восприятие’ и {5} ‘нравственное изменение’ также налицо. Поскольку восприятие Божественной красоты описывается не как свершившийся факт, но как аскетическое задание, то и нравственное изменение здесь фигурирует как задача, которую еще нужно выполнить. Эта задача, между прочим, характеризуется выражением «дело, требующее немалого труда» (οὐ μικροῦ ἔργου).
В цитате (5) опущен параметр {3} ‘внутреннее состояние’. Зато этот параметр присутствует в двух других цитатах, где используется то же самое выражение «красота Божьей славы».
Здесь очи из-за скорби проливают слезы, а там слеза уже не помрачает зрения тех, кто получает радость от созерцания красоты Божьей славы10.
Взойди своею мыслью вместе со мной и посмотри на ангельское состояние: может ли у них быть какое-либо иное состояние, кроме непрестанной радости и благодушия? Ведь они удостоились предстоять Богу и наслаждаться неизреченной красотой славы нашего Создателя11.
В обеих цитатах в качестве {1} ‘Божественной красоты’ святитель привлекает выражения «красота славы Божьей» и «красота славы нашего Создателя», которые, очевидно, тождественны по смыслу. На месте {2a} ‘созерцателя’ в (6) неявно подразумеваются души праведников после смерти, в (7) прямо говорится об ангелах.
Кроме того, контекст беседы 4 «О благодарении», в который помещен фрагмент (7), позволяет говорить о том, что состояние ангелов святитель описывает в качестве аскетического задания для своей аудитории; это позволяет имплицитно усматривать в этом фрагменте, помимо ангелов, и христиан, прошедших нравственное изменение. В обеих цитатах опускается параметр {2b} ‘орган созерцания’. Параметр {3} ‘внутреннее состояние’ описывается выражениями «получать радость» (τῶν εὐφραινομένων) в (6) и «радость» (χαίρειν), «благодушие» (διευθυμεῖσθαι) и «наслаждаться» (ἀπολαύειν) в (7). Параметр {4} ‘оптическое восприятие’ отражен в (6), но отсутствует в (7). Наконец, параметр {5} ‘нравственное изменение’ присутствует, но имплицитно. В (6) подразумеваются души праведников после смерти, которые, стало быть, прошли путь нравственного изменения при жизни, а в (7) речь ведется об ангелах, которые описываются как в некотором смысле нравственный эталон для аудитории свт. Василия, к которому следует приближаться.
Сравнение цитат (5) — (7) с цитатами (1) — (4) показывает, что искомое понятие красоты и там, и здесь помещается в идентичный смысловой контекст. Святитель раз за разом обращается к одной и той же сцене, которая описывается рядом параметров (до сих пор было выявлено пять). В каждом отдельном случае он, правда, прибегает лишь к некоторым из них, оставляя другие в стороне. Однако сопоставление отдельных случаев выявляет, если пользоваться языком лингвистики, инвариант , который автор держит в голове.
Из идентичности сцен во всех рассмотренных фрагментах следует вывод и об идентичности понятия красоты, ради которого, собственно, все эти сцены и формируются. Иными словами, выражение «красота славы Божьей» в (5) — (7) является еще одним вариантом обозначить понятие красоты Божественной природы.
Тем не менее, несмотря на все сказанное, нет оснований утверждать, что выявленные пять параметров сцены, которую святитель формирует для передачи понятия о красоте Божественной природы, — это все параметры, и что других параметров быть не может. К подобному выводу приводит письмо 233 (Saint Basil, 1930, 364–370).
В этом письме свт. Василий рассуждает о трех возможных состояниях человеческого ума (νοῦς). Так, ум может пребывать сам в себе (ὅταν μὲν ἐφ’ ἑαυτοῦ μένῃ), то есть опираться на свои естественные возможности; при этом его познавательные способности ограничены. Вторым возможным его состоянием является состояние, когда он подпадает под власть падших духов, которые вводят его в заблуждение (ὅταν 5е anaTOciv Kaurov Ёп1§ы); при этом его познавательные способности искажены. Наконец, в третьем состоянии он становится способен постигать Бога. Вот как об этом рассуждает сам великий каппадокиец:
А когда [ум] обратится к своей более Божественной части и примет благодатные дары Духа, тогда он становится способным воспринимать более Божественное, насколько это соразмерно его природе... Смешавшись, ста-
-
(8) ло быть, с божеством Духа, ум становится посвященным в великие созерцания и воспринимает Божественные красоты, в той, конечно же, мере, насколько дает благодать и насколько собственное его устройство в силах принять12.
В данном контексте параметр {1} ‘Божественная красота’ фигурирует в виде выражения «Божественные красоты» (τὰ θεῖα κάλλη). {2a} ‘созерцатель’ здесь не дан эксплицитно, но очевидно подразумевается. Из содержания письма следует, что это человек вообще во время земной жизни (не душа после смерти и не ангел). В явном виде присутствует {2b} ‘орган созерцания’ — ум. Фрагмент опускает параметр {3}
‘внутреннее состояние’. Параметр {4} ‘оптическое восприятие’ задан фразами «становится посвященным в великие созерцания» (τῶν μεγάλων ἐστὶ θεωρημάτων ἐποπτικὸς) и «воспринимает Божественные красоты» (кабора та бelа каХХп). Параметр {5} ‘нравственное изменение’ также присутствует, но в неявном виде: этот параметр обозначается выражением «когда [ум] обратится к своей более Божественной части». Таким образом, можно констатировать идентичность сцены, в которую помещено понятие Божественной красоты, рассмотренным выше случаям в цитатах (1) — (7).
Однако в данном фрагменте появляется новый параметр {6} ‘действие Святого Духа’. Он описывается выражениями «примет благодатные дары Духа» (τὰς τοῦ Πνεύματος ὑποδέξηται χάριτας) и «смешавшись с божеством Духа» (τῇ θεότητι τοῦ Пvevцaтog avaкpaбeig). С учетом вывода об идентичности данной сцены созерцания Божественной красоты со всеми предыдущими сценами напрашивается вывод, что и данный новый параметр является еще одной составляющей, которая в неявном виде содержалась и во всех предыдущих сценах. Иными словами, инвариант сцены созерцания Божественной красоты содержит не пять, а шесть параметров.
Из идентичности сцены должен следовать вывод и об идентичности понятия Божественной красоты. Выражение «Божественные красоты», следовательно, является еще одним способом обозначения красоты Божественной природы, которое фигурировало до сих пор.
Наконец, следует рассмотреть две цитаты из трактата «О Святом Духе», в которых также фигурирует {6} ‘действие Святого Духа’.
-
(9) И Он [Дух], словно солнце, нашедшее очищенный глаз, покажет тебе в Самом Себе Образ Невидимого. А в счастливом созерцании Образа ты увидишь неизреченную красоту Первообраза13.
А когда же посредством просвещающей силы мы устремляем взор на красоту Образа Бога невидимого и через нее возводимся к превышающему всякую красоту созерцанию Первообраза, нераздельно с этим тут же присутствует Дух знания, Который тем, кто ищет созерцания Истины, доставляет таинственную силу видеть Образ в Самом Себе, не вне Себя являя Его, но в Самом Себе вводя в познание14.
Обе цитаты взяты из триадологического контекста. Святитель аргументирует божество Святого Духа и в связи с этим использует понятие образа (εἰκών). Термином «Образ» он именует ипостась Сына, термином «Первообраз» (архЁтилод) — ипостась Отца. В обеих цитатах присутствует понятие Божественной красоты. Таким образом, в (9) красота характеризует ипостась Отца, в (10) — ипостась Сына. В обеих цитатах красота помещается в сцену. Однако сходу нельзя поставить оба фрагмента в один ряд с рассмотренными ранее.
Данные цитаты ставят перед двумя вопросами, ответ на которые будет ключевым для выводов всей статьи в целом:
-
1) описывают ли эти цитаты ту же самую сцену, что и цитаты (1) — (8)?
-
2) можно ли используемое здесь понятие Божественной красоты отождествить с красотой Божественной природы в (1) — (8)?
В (9) присутствуют почти все параметры из выявленных ранее. Так, {1} ‘Божественная красота’ обозначена как «красота Первообраза»; {2a} ‘созерцатель’ обозначен авторским «ты», под чем следует подразумевать «любой человек»; {3} ‘внутреннее состояние’ неявно содержится в выражении «счастливое созерцание»; {4} ‘оптическое восприятие’ присутствует эксплицитно. Параметр {5} ‘внутреннее изменение’ конкретно в приводимом фрагменте дан неявно в выражении «очищенный глаз». Однако святитель приводит этот параметр эксплицитно несколько выше15. Наконец, параметр {6} ‘действие Святого Духа’ здесь также налицо. Если не считать отсутствие {2b} ‘органа созерцания’, данная сцена содержит все остальные параметры. Данный фрагмент, таким образом, описывает ту же самую сцену, что была выявлена в рассмотренных ранее цитатах.
По аналогии с фрагментом (9) можно провести анализ и фрагмента (10). Можно убедиться, что в нем содержатся параметры: {1}, {2a}, {3}, {4} и {6}. Параметр {3} ‘внутреннее состояние’ присутствует имплицитно в выражении «те, кто ищет созерцания Истины» (τοῖς τῆς ἀληθείας φιλοθεάμοσιν), что подразумевает наличие в созерцателях любви в момент созерцания. Фрагмент опускает параметры {2b} и {5}. Хотя в (9) два из шести параметров отсутствуют, не вызывает сомнения, что в нем разрабатывается та же самая проблематика, что и в (8), ведь оба фрагмента содержатся в одном и том же трактате, посвященном доказательству Божественности Святого Духа.
Очевидно, что на первый из поставленных вопросов должен быть дан утвердительный ответ: да, фрагменты (9) — (10) описывают ту же самую сцену, что и все предыдущие фрагменты.
Осталось решить вопрос с понятием Божественной красоты в (9) — (10). Во всех предыдущих фрагментах красота неизменно связывалась с Божественной природой, тогда как в данных двух фрагментах связывается с Божественными ипостасями.
Ключ к ответу на данный вопрос содержится в тексте, следующем несколько ниже после фрагмента (10). Свт. Василий пишет: «Так что [Дух] в Самом Себе являет славу Единородного и в Самом Себе доставляет познание Бога тем, кто поклоняется Ему истинно. Поэтому путь человека в познании Бога пролегает от единого Духа через единого Сына к единому Отцу. И обратно: благость Божественной природы, и соответствующее этой природе освящение, и царское достоинство от Отца через Единородного простираются и на Духа»16. Как явствует из данной цитаты, свт. Василий строит свою аргументацию таким образом, чтобы подчеркнуть единство природы у ипостасей Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому фрагмент (10), который непосредственно предшествует данной цитате, следует прочитывать в свете этого главного намерения автора. А именно: понятие образа и понятие красоты используются автором для аргументации тождественности Сына и Отца по природе. Поскольку Образ, то есть Сын, наделен Божественной природой, то в Нем можно узреть Отца как носителя той же самой природы. Стало быть, в (10) используется то же самое понятие красоты Божественной природы.
Очевидно, что и в (9) использовано то же самое понятие.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующее резюме. Используя термин «красота» по отношению к Богу, во всех рассмотренных случаях великий каппадокиец подразумевает красоту Божественной природы, которая воспринимается созерцателем (христианином в рамках земной жизни, душой праведника после смерти либо ангелом) и вызывает в нем определенные внутренние состояния.
Следовательно, термин «красота» описывает познаваемый аспект Божественной природы, открытый опыту человека. Иначе говоря, для свт. Василия «красота» — одно из наименований познаваемых человеком Божественных энергий.
Данный вывод хорошо согласуется с той схемой богопознания, которую исповедует свт. Василий [Давыденков, 2015, 80–85]. В частности, он пишет: «А мы утверждаем, что познаем нашего Бога из Его действий, но не обещаем приблизиться к самой Его сущности. Потому что, хотя действия нисходят и до нас, сущность Его пребывает для нас недоступной»17. Проведенный анализ функционирования термина «красота» убеждает в том, что данное методологическое разделение великий каппадокиец в своих произведениях проводит системно.
В заключение следует отметить, что вся рассматриваемая в статье проблематика весьма далека от той повестки, которую задает наука эстетика. Понятие Божественной красоты в текстах великого каппадокийца вытекает из его богословских представлений. В разобранных фрагментах связь красоты с искусством можно усмотреть лишь гипотетически в цитатах (9) — (10), где привлекается понятие образа. Однако данный тезис требует отдельного изучения.
Список литературы Божественная красота в творениях свт. Василия Великого в связи с его учением о богопознании
- Basile de Cesaree (1968) — Basile de Cesaree. Sur le Saint-Esprit / Introd., texte, trad. et notes par B. Pruche // SC. № 17 bis. P., 1968.
- PG. T. 29 — Basilii Cxsarex Cappadocix archiepiscopi opera omnia qua extant. T.1 // Patrologia cursus graecae. T. 29. 1857.
- PG.T. 31 — Basilii Cxsarex Cappadocix archiepiscopi Opera omnia qua extant. T.3 // Patrologia cursus graecae. T.31. 1857.
- Basilio di Cesarea (1990) — Basilio di Cesarea. Sulla Genesi (Omelie sull'Esamerone) / A cura di M. Naldini. Milano: Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 1990.
- Saint Basil (1928) — Saint Basil. The Letters: in 4 vol. L., N. Y., 1928. Vol. 2.
- Saint Basil (1930) — Saint Basil. The Letters: in 4 vol. L., N. Y., 1930. Vol. 3.
- Бальтазар (2019) — Бальтазар Г.У. фон. Слава Господа. Богословская эстетика / Пер. с нем. О. Хмелевская. Т. 1: Созерцание формы. М.: ББИ, 2019. [Оригинальное издание: Balthasar H. U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 1. Schau der Gestalt. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961.]
- Бальтазар (2020) — Бальтазар Г.У. фон. Слава Господа. Богословская эстетика. Т. II: Сферы стилей. Ч. 1: Клерикальные стили / Пер. с нем. М.: ББИ, 2020. [Оригинальное издание: Balthasar H.U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 2. Fächer der Stile. Tl. 1. Klerikale Stile. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961.]
- Бычков (1991) — Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. К.: Путь к истине, 1991.
- Бычков (2015) — Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита. М.: ИФРАН, 2015.
- Бычков (1995) — Бычков В.В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви. I: Апологеты. Блаженный Августин. М.: Ладомир, 1995.
- Давыденков (2015) — Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Уч. пособ. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.
- Давыдов (2020) — Давыдов О. Откровение Любви. Тринитарная истина бытия. М.: Изд-во ББИ, 2020.
- Евдокимов (2006) — Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты / Пер. с фр. иеромон. Димитрия (Захарова). Клин: Христианская жизнь, 2006. [Оригинальное издание: Evdokimov P. L'art de l'icône. Théologie de la beauté. Paris: Desclée de Brouwer, 1970.]
- Харт (2010) — Харт Д. Красота бесконечного: Эстетика христианской истины. М.: ББИ, 2010. [Оригинальное издание: Hart D.B. The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth. Grand Rapids, 2004.]
- Balthasar (1962) — Balthasar H. U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 2: Fächer der Stile. Tl. 2: Laikale Stile. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1962.
- Balthasar (1965a) — Balthasar H. U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 3, 1: Im Raum der Metaphysik. Tl. 1: Altertum. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1965.
- Balthasar (1965b) — Balthasar H. U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 3, 1: Im Raum der Metaphysik. Tl. 2: Neuzeit. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1965.
- Balthasar (1967) — BalthasarH.U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 3, 2: Theologie. Tl. 1: Alter Bund. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1967.
- Balthasar (1969) — Balthasar H.U. v. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd. 3, 2: Theologie. Tl. 2: Neuer Bund. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1969.
- Bender (2010) — Bender M. The Dawn of the Invisible. The Reception of the Platonic Doctrine on Beauty in the Christian Middle Ages: Pseudo-Dionysius the Areopagite — Albert the Great — Thomas Aquinas — Nicholas of Cusa. Münster, 2010.
- Courtonne (1934) — Courtonne Y. Saint Basile et l'héllenisme: Étude sur la rencontre de la pensée chrétienne avec la sagesse antique dans l'Hexaéméron de Basile le Grand. P., 1934.
- Forte (1999) — Forte B. La porta della Bellezza. Per un'estetica teologica. Brescia: Morceliana, 1999.
- Lampe (1961) — A Patristic Greek Lexicon / Ed. by G.W.H. Lampe. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Navone (1996) — Navone J. Toward Theology of Beauty. Collegeville: Liturgical Press, 1996.
- Quasten (1986) — Çhiasten J. Basil the Great // Quasten J. Patrology. Vol. 3: The Golden Age of Greek Patristic Literature. Westminster US: Christian Classics, 1986.
- Radaelli (2010) — Radaelli E. M. La bellezza che si salva. La forza di Imago, il secondo Nome dell'Unigenito di Dio, che, con Logos, puo dar vita a una nuova cività, fondata sulla bellezza. 2010.
- Sammon (2013) — Sammon B. Th. The God Who Is Beauty: Beauty as a Divine Name in Thomas Aquinas and Dionysius the Areopagite. Princeton, 2013.
- AyyeX^ç (2004) — AyyeÀfjç А. Аьстб^тьк^ BuÇavxtv^: H évvoia тои râXXouç orov MÉya BaaiÀEio. A9r|va: Oi ekôôcteiç twv yiÀwv, 2004.