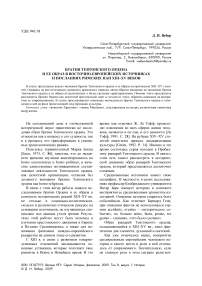Братия Тевтонского ордена и ее образ в восточно-европейских источниках и посланиях римских пап XIII-XV веков
Автор: Вебер Дмитрий Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ эволюции братии Тевтонского ордена и ее образа на протяжении XIII-XV столетий. Опираясь на ряд источников указанного временного периода, автор обратил внимание на эволюцию братии Тевтонского ордена и ее образа от религиозных к более светским характеристикам. Помимо этого предлагается рассмотреть братию Ордена как носителей крестоносной идеи и, исходя из этого, обратить внимание на восприятие ее современниками. В статье прослеживается изменение ментальности братии Тевтонского ордена и отношения к ней на фоне происходящей секуляризации культуры.
"воинство христово", "новые маккавеи", секуляризация культуры, религиозная символика вооружения
Короткий адрес: https://sciup.org/14737003
IDR: 14737003 | УДК: 940.18
Текст научной статьи Братия Тевтонского ордена и ее образ в восточно-европейских источниках и посланиях римских пап XIII-XV веков
На сегодняшний день в отечественной исторической науке практически не исследован образ братии Тевтонского ордена. Это относится как к вопросу о его сущности, так и к процессу его трансформации в указанных хронологических рамках.
Пользуясь терминологией Марка Блока [Блок, 1973. С. 86], заметим, что до недавнего времени изучение акцентировалось на homo oeconomicus и homo politicus, в качестве единственных мотивационных составляющих деятельности Тевтонского ордена, как целостной организации, оставляя без должного внимания братию Тевтонского ордена как homo religiosus.
В связи с этим автор работы занялся исследованием братии Ордена и ее образа в контексте исторических реалий XIII–XV вв. не столько в социально-политическом, сколько в религиозно-этическом ракурсе на основании источников, не изучавшихся специально под данным углом зрения. Результаты этой работы могут быть полезны в изучении крестоносного движения в Европе в Позднее Средневековье, а также для понимания феномена западно-европейского рыцарства на данном этапе его развития.
С XIII в. в связи с развитием товарноденежных отношений закладываются основные установки, которые получают свое развитие в Новое и Новейшее время. В это время, как отмечает Ж. Ле Гофф, происходят изменения во всех сферах жизни человека, меняется и он сам, и его ценности [Ле Гофф, 1991. С. 28]. На рубеже XIV–XV столетий наметился процесс десакрализации культуры [Green, 1992. P. 14]. Именно в это время состоялась серия походов в Прибалтику рыцарей Тевтонского ордена. В связи с этим есть смысл рассмотреть в исторической динамике образ рыцарей Тевтонского ордена, который представляется достаточно сложным.
Средневековые источники имеют свою специфику. В частности, в своих исследованиях профессор Кембриджского университета Питер Берк именует историю в контексте восприятия ее средневековым хронистом аллегорией. Описание истории старалось быть событийным. Как отмечает Бернард Гене, при описании фактов не использовался термин accidents, eventus – «историческое событие», но больше actus, facta, gestae, res gestae – «деяния», «что было сделано».
Образ рыцарей Тевтонского ордена, складывающийся в XIII–XV вв., имел фактически два элемента: духовный и светский.
Как уже отмечалось выше, восприятие средневековым европейским человеком истории и своего места и роли в ней отличалось от современного. Значительную, если не главную роль в этом сыграло религиоз-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © Д. И. Вебер, 2009
ное восприятие всего происходящего как промысла Божьего. В большинстве источников XIII и первой половины XIV вв. рыцари Тевтонского ордена рассматриваются через призму религиозного мышления.
В Прологе «Хроники земли Прусской» встречаем следующее: «…Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной…» [Петр из Дус - бурга. Ч. III. Гл. 23]. Данная цитата из Мат. 16 : 24. Как мы видим, хронист, рассматривающий историю с точки зрения провиденциализма, воспринимал братьев Тевтонского Ордена как «воинство Христово», а их деятельность как богоугодное дело. Для более глубокого понимания обратимся непосредственно к Еванелию от Матфея, поскольку тогда можно будет понять тот подтекст, который содержится в этом фрагменте. В нем говорится: «Он же обратившись сказал Петру: отойди от меня, Сатана! Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое… Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мат. 16 : 23–25). Таким образом, мы видим, что хронист не только своей цитатой показывает отношение к событию и его участникам, как угодное Господу деяние, но в подтексте указана и одна из причин, почему это событие произошло.
Обратимся к Генриху Латвийскому и его «Хронике Ливонии». В самом начале книги первой он пишет буквально следующее: «О первом епископе Мейнарде. Божественное провидение, помнящее о Раабе и Вавилоне, то есть, о заблуждении язычников, вот таким образом в наше нынешнее время огнем любви своей пробудило от греховного сна в идолопоклонстве идолопоклонников ливов». Цитата приводится из Псалма 86 : 4. Акцент делается в данном отрывке на то, что деятельность епископа Мейнарда является divina providentia («божественным провидением»), но, обратившись к полному тексту псалма, мы можем почерпнуть дополнительную информацию. «Основание его (Иерусалима) на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возмещается о тебе, град Божий!.. О Сионе же будут говорить такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его». Видимо, приводя цитату, хронист подразумевал не только наличие в данных событиях провиденциализма, но и богоугодности деятельности Мейнарда, что он доказывает лишний раз, упоминая об Иерусалиме, как бы сравнивая эти два региона по своей значимости.
Говоря о том, что формировало цельный образ рыцаря Тевтонского ордена, отметим такую составляющую, как его описание с использованием ярких эпитетов, особенно в сравнении с образом идеологического врага. Не менее важную роль для понимания образа участника Крестового похода в Пруссию, является символика вооружения, о чем речь пойдет ниже.
В «Хронике земли Прусской» Петра из Дусбурга выделяется отдельная глава с описанием символов оружия. Религиозная функция рыцарской экипировки, видимо, выражает восприятие рыцарей как «воинов Христовых» и их призвание отстаивать интересы христианства.
Вооружение и защитного, и атакующего характера именуется в хронике как оружие «плотское и духовное» – тем самым указы вает на религиозную символичность этого оружия. При этом автор опирается на Священное Писание. В первую очередь скажем о защитных доспехах и щитах. Петр из Дус-бурга выделяет два вида щитов: длинный и круглый. Под длинным щитом хронист призывает понимать веру, ссылаясь на слова апостола Павла «А паче всего возьмите щит веры» (Еф. 6, 16). Нередко на щитах, наряду с геральдическими знаками изображались и символы веры, например крест или образ Пресвятой Девы Марии (что было актуально для Тевтонского ордена). Так, в Марбурге хранится щит Конрада фон Тюрингена и Гессена (великий магистр Тевтонского ордена в 1220–1241 гг.), на котором изображены рыцарь и дама, часто символизировавшая Деву Марию. О круглом же щите Петр говорит следующее: «…Под щитом разумей слово Божие, наставляющее нас на всех благих делах…» [Петр из Дусбурга. Ч. 2. Гл. 8].
Если же говорить непосредственно о доспехах, то необходимо сказать о «броне» и «шлеме». Первая символизировала собой праведность, а шлем – спасение, «которое человек получает от Бога от этого оружия добродетелей…» [Там же]. Таким образом, защитное вооружение символизировало одни из основных положений христианства (слово Божие, праведность, спасение души, вера), являясь своеобразной основой для символов наступательного оружия, разви- вающих восприятие крестоносца, как «рыцаря Христова».
Говоря о наступательном оружии, в первую очередь отметим отношение к мечу. Приблизительно к 1150 г. оформляется его священное восприятие. Теперь прежние, языческие элементы вытесняются христианскими. Так, о мече пишется следующее: «…Под мечом разумей праведные дела, ибо вера без дел мертва…» [Петр из Дусбурга. Ч. 2. Гл. 8]. И как бы в подтверждение, нередко на мечах встречаются девизы нравоучительного характера. Например, в дюссельдорфском музее хранится меч XIII в., на котором выложена следующая фраза: «Qui falsitate vivit animam occidit. Falsus in ore, caret honore» (Вероломный губит свою душу, а лжец – свою честь) [Окшотт, 2004. С. 255].
Помимо этого, согласно мнению некоторых ученых, он стал символом защиты от греха, благодаря своей форме. Также для помощи небесных сил в рукоять меча мог вкладываться фрагмент мощей того или иного святого. Необходимым условием благого дела было искреннее намерение, под которым следовало «разуметь» копье. У Петра из Дусбур-га упоминаются лук и колчан со стрелами. «Луком обозначается смирение, ибо как он гнется, сгибается и распрямляется, не ломаясь, так набожный среди удачливых и противников равнодушно и безропотно должен сгибаться и распрямиться смирением…», под стрелами и колчаном – непорочность и нищета и дальше присутствует аллегорическое сравнение: «…ибо как стрела скрывается и сохраняется в колчане, так и непорочность – в нищете… »[Петр из Дусбурга. Ч. 2. Гл. 8].
Судя по всему, в основу защитного вооружения ложились символы, соответствующие основным положениям христианства (слово Божие, праведность, спасение души, вера), в то время как символика наступательного вооружения развивала религиозное их значение (благие дела, искренние намерения, праведность, нищета и т. д.).
Папские послания являются одним из важных источников для анализа образа Тевтонского ордена. Достаточно часто в посланиях пап по отношению к Ордену присутствует весьма благожелательная интонация. Так, в послании папы Александра IV архиепископу Рижскому от 19 марта 1255 г. упоминается формулировка «…delictorum filiorum magistri et fratrum hospitalis s. Maria Theotonicorum in Livoniaet Pruscia, si ex- pedire vuderis, in episcopum et pasrorem» («…любезных детей, магистра и братьев Тевтонского госпиталя св. Марии в Пруссии и Ливонии…») [Senas Latvijas…, 1940], что говорит о положительном отношении папы к Тевтонскому ордену.
Исходя из того, что основной целью Ордена являлась христианизация населения в Прибалтике, соответствующим был и характер посланий: «…Cum igitur, sicut accepimus, zelo fidei Christianae succens, noviter conver-sos ad fidem in partibus Livoniae et Estoniae a pesecutoribus sollicite defendatis, tam paganis quam Rutenis virliter obistendo, nos vestris supplicationibus annuentes, vos сivitatem et portum vestrum, sub beati Petri et nostra pro-tectione suscipimus…» («Как нам стало известно, вы, воспламененных заботой о вере христианской, намерены заботливо защищать новообращенных в Ливонии и Эстонии от гонителей, мужественно давая отпор, как язычникам, так и рутенам. Поэтому мы, вняв вашим мольбам, вас, город и порт ваш берем под защиту блаженного Петра и подтверждаем наше покровительство…») [His-torica Rusiae…, 1841. XX, 20]. В данном случае достаточно четко прослеживается поддержка со стороны Ватикана.
Следует отметить, что одним из важных направлений политики пап в XIII в. являлось противостояние татаро-монгольскому нашествию. В частности, по мнению В. И. Матузовой и Е. Л. Назаровой, папский престол в лице Иннокентия IV планировал выстроить на восточной границе христианского мира своего рода сигнальную систему, важное значение в функционировании которой придавалось Тевтонскому ордену. В ка честве наиболее эффективного способа борьбы с татаро-монголами мыслился крестовый поход (что также свидетельствует о том, насколько прочно крестоносная идеология внедрилась в сознание средневекового европейца).
В феврале 1260 г. Папа обращается с призывом к крестовому походу, жалуя при этом русские земли, которые Орден сможет завоевать у татар. Дела же русской Церкви предполагалось передать духовным лицам, которые согласились бы на унию. Однако уже 21 марта и 8 апреля папа дважды обращается к прусскому магистру Гартмуду фон Грюнбахус с призывом к борьбе с татарами, но Русь в этом контексте не фигурирует.
Теперь обратимся непосредственно к тексту. В послании папы Александра IV магистру и братьям ордена от 4 февраля 1260 г. говорится следующее: «Мы, внимая вашим просьбам, все земли, замки, деревни города и прочие места в Русции, которые будут пожалованы их владельцами или отойдут по закону, или занятые безбожными татарами, если сможете отнять у них, впрочем, с согласия тех, к кому, как известно, они относятся, отныне по праву признаем собственностью святого Петра и после того, как они примут обряд христианский, объявляем под особой протекцией и защитой апостольского престола во веки веков и жалуем их вам и дому вашему со всеми правами и доходами и десятинами навеки в свободное владение, причем эти земли, замки, деревни или города и местности ни вы, ни кто иной никогда не должен передавать во власть другого» [Матузова, Назарова, 2002. С. 369–371].
Четырнадцатый век, являющийся временем наибольшего расцвета Тевтонского ордена, вместе с тем вносит свои коррективы в ментальность его братии и в отношения к ней современников. С ростом влияния и могущества Ордена появляются и первые свидетельства недовольства орденской братии в Прибалтике [Масан, 1986. С. 79].
Одновременно перемещается и отмечаемый исследователями центр пополнения орденской общины из Тюрингии и Вестфалии на юго-запад Германии – Франконию и Швабию [Котов, 2007. С. 259]. Правители Тюрингии и Вестфалии – первых регионов, откуда пополнялась братия Тевтонского ордена, были связаны со Штауфенами, для которых нарождающийся Тевтонский орден играл определенную политическую роль. Ландграфы Тюрингии находились в тесной династической связи с императорским родом: сестра Фридриха Барбароссы, Ютта, была женой графа Тюрингского Людвига II. Поэтому, судя по всему, ландграфы Тюрингские принимали личное участие в основании Тевтонского ордена в Святой земле.
Перемещение центра пополнения орденской братии было связано, видимо, не только со сменой правящей династии, но и ростом заинтересованности рыцарства юго-западной Германии. Именно во Франконии и Швабии в руках министериалитета были са- мые мелкие земельные владения. А в условиях майората младшим сыновьям приходилось искать для себя обеспеченной жизни на стороне [Urban, 2000. P. 11–20].
Ситуация начинает меняться в XV в. Наиболее характерным является становление национального самосознания прусских городов на основе сопоставления себя и Ордена, ведь «чтобы появилось субъективное “мы”, требовалось повстречаться и обособиться с каким-то “они” <…> “они” на первых порах куда конкретнее, реальнее несут с собой те или иные определенные свойства…» [Поршнев, 1979. С. 79]. Именно поэтому, судя по всему, «Данцигская хроника Союза» так много внимания уделяет Ордену и гроссмейстерам. И в силу того же мотива в Пруссии города себя считают теми, кто христианизировал язычников: «Они говорили, что они нас добыли мечом. Но ныне стремятся они к тому, чтобы, если они могли бы нас превратить в прах, не преминули бы это сделать. Но потому, что мы сейчас видим и слышим, что наши предки по отношению к ним никаких долгов не имели, в то время как они изо дня в день наши и наших людей привилегии и права нарушают, так это очевидно. Также если их предшественники часть земли к Христианской вере привели, с чьей же помощью это было сделано, как ни силой наших родителей, которые их затем также еще очевидно с большей силой на земле поддерживали?» [Die Danziger…, 1861. № 1].
Братья-рыцари оценивались негативно не только в Пруссии, но и в Польше, где шел процесс объединения государства. Причем и здесь появилась традиция, оспаривающая прежнюю мощь Ордена. Согласно Яну Длу-гошу, Тевтонский орден основал один из польских князей в XIII в. – князь Конрад Мазовецкий [Длугош, 1962. С. 34]. Однако Конрад Мазовецкий всего лишь призвал братьев-рыцарей себе на помощь.
На положение Ордена большое влияние оказал собор в Констанце 1414–1418 гг., на котором польская делегация внесла жалобу на Тевтонский орден, обвинявшего польского короля в восстановлении язычества в Литве [Дыбковская и др., 1995. С. 34]. В 1417 г. было принято решение, что Орден не может более добиваться новых привилегий [Keyser, 1925. S. 19].
В итоге в 1455 г. по жалобе Прусского союза папа Каликст III (1455–1458) признал, что братия Ордена живет в «неподобающем сраме» и «развращенности» [Die Danziger…, 1861. № 48].
Братия Тевтонского ордена, как и ее образ, не были статичными в период XIII–XV столетий. С изменением исторических реалий в указанные хронологические рамки трансформировался и образ рыцарей Тевтонского ордена и их самоидентичность.
Изначально рыцарь Тевтонского ордена воспринимался как член военно-монашеской организации, направленной на заботу о раненых, о чем говорит и тот факт, что Орден какое-то время входил в состав госпитальеров. Иначе говоря, на заре своего существования братия Тевтонского ордена воспринимались как часть организации иоаннитов. Но начиная с 90-х гг. XII в. ситуация меняется кардинальным образом. После издания римским папой двух булл Орден становится независимым. Боевые действия на Востоке стали местом рождения Тевтонской братии, как и других военномонашеских орденов.
А поскольку в тот исторический период идея крестоносного движения еще себя не изжила, что будет наблюдаться через полтора-два столетия, то крестоносцы воспринимались как «militia Dei». Об этом свидетельствует несколько основных моментов. Во-первых, это те привилегии, которые предоставлялись и братии Тевтонского ордена, и простым участникам, так называемых «райзенов». Во-вторых, это эпитеты, которыми награждают рыцарей хронисты, сравнивая их с Маккавеями, борющимися с Амаликитянами, что особенно проявляется в сравнении их с образом противников, в первую очередь язычников. Также обращает на себя внимание позиция не только авторов хроник, но и официальная позиция папского престола. Особенно яркой она видится в XIII в.
В XIV–XV вв. образ братии Тевтонского ордена претерпевает определенное изменение. Его восприятие постепенно перемещается из духовной в светскую плоскость. Причиной этому послужили во многом, как отмечалось выше, и общие процессы, характерные для Европы в целом и для восточноевропейского региона в частности.
BRETHREN OF TEUTONIC KNIGHTS
AND THEIR IMAGE IN THE HISTORICAL SOURCES XIII–XV CENTURES