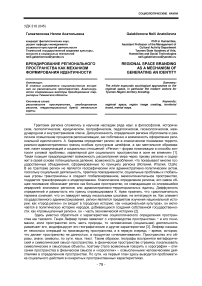Брендирование регионального пространства как механизм формирования идентичности
Автор: Галактионова Нелли Анатольевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются социологические воззрения на региональное пространство. Анализируются современные векторы брендирования территории Тюменской области.
Региональное пространство, имиджирование региона, территориальный бренд, метальные карты
Короткий адрес: https://sciup.org/14934371
IDR: 14934371 | УДК: 316
Текст научной статьи Брендирование регионального пространства как механизм формирования идентичности
Трактовки региона сложились в научном наследии ряда наук: в философском, историческом, геополитическом, юридическом, географическом, педагогическом, геоэкологическом, международном и внутристрановом ключе. Дискуссионность определения региона обусловила и различное осмысление процессов регионализации, как собственно и возможность оформления региональной идентичности. А. Каримова определяет регион не в классическом понимании территориально-административных границ особым культурным шлейфом, а как ментальное образование, пакет коммуникаций и социальных отношений: «Регион – форма локализации и способы контроля узловой проблемы, характерной для социального пространства в зоне ее влияния» [1]. Такая позиция предопределяет возможность рассмотрения мира через призму региона и содержит в своей основе потенциальное деление, возможность дробления, что показывают многие государственные объединения, сформированные по принципу региона (Испания, Италия, США). В ее трактовке регион не является географическим или административно-политическим актом, поскольку социальная деятельность, практика повседневности, социальные проблемы и глобальные угрозы трансграничны и создают глобализированное, межконтинентальное пространство, поддается трансформации и моделированию. Классическое определение региона, его самое общее понимание обозначает регион как большое пространство, не совпадающее со сложившейся иерархией экономики регионов или административно-территориальных единиц. Диффузность определений и размытость его границ спровоцировала К. Арви признать, что «расплывчатость термина означает, что он лавирует между несколькими школами, не интегрируя их. Как элемент государственного администрирования, регион является предметом изучения национальной истории; как «город-регион» он входит в городскую историю; как «национальная культура», он включается в политическую историю народов, добивающихся создания собственной государственности; как «промышленный регион», он - часть экономической истории» [2].
Здесь уместно обратиться к характеристике социологического определения пространства как такового. Генри Лефевр прямо заявляет о «производстве пространства» - в его понимании, если пространство есть часть природы, то человеческая (социальная) деятельность размечает его, модифицирует его географические и другие характеристики [3]. Лефевр называет несколько операций по производству пространства, и в первую очередь – время, историю, что делает пространство не данностью, а продуктом «очеловечивания». Пространство это образы, знаки, символы, по сути, язык, текст. Таким образом, географы восприняли метафорический и символический смысл пространства, в физическом пространстве стремясь локализовать символические и смысловые объекты, поэтому стало возможным говорить о хорографии – описании пространства в физическом смысле и «хорологии» - осмысленными человеческими действиями в определенном пространстве. По сути, на первый план здесь выводится проблематика социального действия в конкретных пространственных характеристиках.
Пространство преломляется в территориальных характеристиках, а те, в свою очередь, сопрягаются с понятием региона. Англичанин Найджел Трифт настаивает, что изучение пространства – это исследование региона от географических детерминант, климата, через описание организации производства, классовой структуры, религиозных, расовых, этнических и т.д. особенностей [4].
В настоящей статье под региональным пространством понимается пространство трех субъектов федерации (тюменский регион), имеющих общие социально-экономические, политико-правовые и культурные основания, осознаваемые таковыми его жителями, ибо региональная идентичность есть рефлексия людей о своей социальной пространственности, ощущение своей эмоциональной связи с теми, кто живет в регионе. Она сфокусирована на общей истории, культурных ценностях и экономическом потенциале региона, его роли в общероссийском историческом процессе. При этом региональная идентичность понимается как текучее и динамическое явление, а не как неизменное пространство с четкими границами. Подобное определение территориальной идентичности находится в русле теории М. Кастельса [5] и Г. Башляра [6]. Итак, регион характеризуется с точки зрения общности исторических судеб, общности материальной и духовной культуры, географического единства, общего типа экономики, совместной работе в региональных, федеральных, международных организациях.
Применительно к России вопрос о значимости формирования региональной идентичности не имеет однозначного ответа. Как показал опыт развития страны в 90-х гг., мобилизация регионального самосознания населения может быть использована политическими силами в разных интересах, кроме того, в условиях, когда разрушена иерархия общественных ценностей и отсутствует консолидирующие все общество идеи, актуализация форм идентичностей, сфокусированных на регионе или городе, может сопровождаться размыванием идентификации с «большим» обществом. Об этом свидетельствуют результаты некоторых исследований, проведенных отечественными социологами в 90-е гг., доля респондентов, ассоциирующих себя только с локальными и региональными общностями, доминировала над долей тех, кто в первую очередь идентифицировал себя с россиянами. Активизация региональной идентичности определяется рядом факторов. Она культивируется «сверху» усилиями власти и инициативой творческой интеллигенции и политиками. Такую картину можно наблюдать в социокультурных политических процессах Якутии, Бурятии, Татарстана, Северного Кавказа, в частности, в Адыгее и Карачаево-Черкесии.
В Тюменской области этот процесс нивелирован, что обусловлено практически полной интеграцией Сибири в российский социум, не мыслящий себя отдельно. Мы относим тюменский регион к северу Сибири, имея на это несколько оснований. С одной стороны, картографически закрепленные географические номинации «Сибирь», «Западно-Сибирская равнина (низменность)», «Западная Сибирь». Второй факт – традиция осмысления территорий за Уральскими горами как сибирских. Причем административные преобразования последних лет (включение Тюменской области в Уральский Федеральный округ) мало повлияли на традицию самоидентификации жителей региона с сибиряками. Наблюдается активное стремление обозначить, вычленить статус сибиряка, «сибирскость» в знаковых для каждого россиянина фактах, людях, событиях. Патриотические чувства, например, стали краеугольным камнем творчества А. Омельчука. Сибирь в книге А. Омельчука становится «стержнем космического миропорядка». Он включает в сибирскую орбиту Верна, Льва Толстого, Гумбольдта, Ленина, Пушкина, Достоевского, Ельцина, Смоктуновского и т.д. [7]. Во многих регионах процесс выделения, маркированности уникального является важным брендинговым моментом.
Для политических элит обращение к региональному типу идентичности вызвано рядом целей. Развитие региональной идентичности способствует культурно-политической интеграции населения, одновременно выступая фактором политической легитимизации региональных властных институтов вне и внутри региона [8]. В Тюменской области Губернатор В. Якушев в своих посланиях прямо говорит о необходимости имиджирования региона и настаивает на актуальности не только брендирования территории области, но и о широкой популяризации «тюменского бренда» с использованием усилий широкого спектра возможностей СМК.
Региональная идентичность становится актуальной в условиях обострения кризиса общества. В этом случае оно подкрепляется самопроизвольными процессами, идущими «снизу», и отражают ориентацию населения на более устойчивые формы пространственной коллективности. Тюменская область граничит с Казахстаном, Республикой Коми, Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Архангельской областями. Территория области – 1 435,2 тыс. кв. км. В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа, 483 муниципальных образования. На территории региона добывается около 67 % нефти и 91 % естественного газа от общей добычи в стране. Основные запасы углеводородного сырья сосредоточены в
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Индекс развития человеческого потенциала Тюменской области (ИЧРП), рассчитанный по методике ООН, признан наивысшим в России. Этот российский регион опережает Москву (0,866 против 0,846).
Ш. Эйзенштадт утверждает, что символическая функция формирования коллективных идентичностей через приобщение к общему социальному, культурному и политическому порядку и к участию в этом порядке возлагается на центр [9]. Основой консолидации, по нашему мнению является работа по имиджированию территорий, по аккумуляции символического капитала. Символический капитал тюменского региона накапливался десятилетиями, по подсчетам К. Лагунова, библиография литературных произведений о Тюменской земле периода открытия нефтегазоносных месторождений составляла более четырехсот романов, повестей, очерков и стихотворений [10].
У Тюмени есть несколько перспективных линий брендирования, чему способствует несколько факторов. Это география, поскольку город близок к условному центру евроазиатской суши, через город проходит водная и железнодорожная транспортные магистрали. Это экономико-демографический фактор, ибо население региона с равновесной возрастной структурой, развитые сельскохозяйственные районы, районы по переработке и добыче полезных ископаемых. Имеется развитая инфраструктура и, наконец, важнейший символический фактор.
Тюмень всегда позиционировалась как ворота в Сибирь, и жители прочно ассоциируют себя с сибиряками. Приписывание региона к УРФО никак не изменило идентификацию жителей в сторону уральцев или зауральцев. Тюмень определила свои символические ресурсные центры, работа на популяризации которых ведется с разной степенью интенсивности. Это имя сказочника Ершова, написавшего «Конька-Горбунка», Великая Отечественная война, и особая роль Тюмени как хранителя тела Ленина.
Далее – край ссыльных, и в этом случае интенсифицируются не только отрицательные моменты, связанные с каторгой, но и те, которые позволяют говорить о «втором дыхании» оказавшихся здесь декабристов, писательское творчество княгини Долгорукой, Тобольская ссылка царской семьи, ставшая последней передышкой перед уральской трагедией. Еще один локус символизации – малочисленные народы севера, которые благодаря Тюмени получили возможность заявить о себе как о самобытных творцах в области культуры и искусства. Имеются давние традиции в области декоративно-прикладного творчества - узнаваемы тюменский ковер, тюменская домовая резьба. Последнее символическое открытие Тюмени - горячие источники, способные дать новую энергию внутрирегиональному и общероссийскому туризму. Задача Тюмени – аккумуляция этих символических локусов, актуализация их именно как тюменского достояния, популяризация их на общероссийском и общемировом уровне.
Региональная идентичность – одна из наиболее востребованных по количеству мобилизационных проектов в целях решения властью каких-либо задач. Искусство, декларативные призывы, законодательные акты, обращения знаковых личностей эксплицируют территориальные мотивы, напрямую обращаясь к региональной идентичности, эксплуатируя тему «малой родины». Учет специфики региональной самоорганизации – одно из направлений политического управления.
«Тюмень - звезда Сибири и сердце России», «Тюменская область – сердце России» -наиболее популярные тюменские лозунги, здесь очертания Тюменской области на географической карте намеренно предстают в виде стилизованного сердца, окрашенного в цвета российского флага. Эта ментальная карта демонстрирует вариант использования географии в качестве идеологического приема.
В начале ХХ в. мысли об «особости» Сибири, ее уникальности вылились в движение областничества, подпитанное книгой Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» [11]. Н. Ядринцев, А. Щапов говорили об особом сибиро-русском народе, с уникальным антропологическим типом, языком, самосознанием, культурой. Другой аспект «самостоятельности Сибири» связан с 1918 г., когда Временное правительство Сибири в Омске приняло Декларацию независимости Сибири. Подспудно идеи самостоятельности сохранились в форме легенд и частушек: « Эх, я Сибири не боюся, Сибирь ведь тоже русская земля» . На рубеже нового тысячелетия эти идеи могут обрести «вторую жизнь». Идея самостоятельно управлять Сибирью педалируется националистами разного рода. Лозунг «Сибирь не колония!» - был опубликован на сайтах rusinfo.org, golosa.info в июле 2009 г. Внутри области и регионов подобные мысли кажутся крамольными и фантасмагорическими, их «стеснялись» озвучивать даже в «грязных» предвыборных технологиях. Лидеры области и округов подчеркнуто встроены в вертикаль управления, многие из них продолжают карьеру в органах центральной исполнительной и законодательной власти – Г. Райков, С. Собянин, С. Шахрай, С. Киричук и т.д.
Мобилизация региональной идентичности обусловлена особыми задачами и изменившимися условиями. В понятии региона закрепляется не просто географическая территория, декларативно выделенная на карте страны, тем более что последнее обусловлено лишь полити- ческой волей руководства, или референдумом жителей, как это произошло в ряде последних преобразований, направленных на укрупнение регионов. Тюменская область в результате одних из последних переделов территорий отнесена к Уралу, и в местном сообществе постепенно закрепляется понятие «Зауралье» по отношению к области, а не Сибирь, как это было долгое время. Регион – единица, в которой территориально обусловлены механизмы воспроизводства жизнедеятельности, культуры, природные и трудовые процессы.
Для интенсивного освоения малозаселенной территории региона (в среднем на квадратный километр приходится 2,3 человека, на Ямале – 0,7, в Югре – 2,8, на юге области 8,2) нужны люди. Пришло понимание того, что временщики – вредное явление, нужно создавать местные укорененные сообщества, имеющие традиции. С. Литенкова считает важным условием формирования единой территориальной общности формирование опорного каркаса расселения (совокупность узлов (городов, краевых центров) и связывающих их транспортных магистралей) [12]. Но именно этот фактор в недостаточной степени проявляет себя в северо-восточной части Тюменской области – на территориях национальных округов [13]. Транспортные артерии здесь неразвиты, и развитие сети дорог связано не столько с нуждами населения северных городов и поселков (до сих пор нет железнодорожного сообщения с Надымом, автомобильное действует только в зимний период – по ледовой переправе), сколько с позиций интересов добывающей отрасли (фото 1).

Фото 1 – Месторождение Песцовое (ЯНАО)
Идентификация с местом проживания как один из аспектов культурной укорененности, социальная активность, информированность о различных аспектах социального пространства места жительства и т.д.
В ходе массового опроса населения Тюменской области в 2010 г., участниками которого стали 992 респондента, проживающих в 26 муниципальных образованиях юга области, был выявлен общий уровень самочувствия респондентов, их жизненные планы в зависимости от территориальной укорененности, а также некоторые аспекты ценностных ориентаций. Большинство (37,76 %) респондентов в целом довольны, что живут в Тюменской области, 33,88 % в целом довольны, что живут в Тюменской области, но при этом их многое не устраивает.
Вместе с тем особое внимание заслуживает тот факт, что негативные настроения здесь высказали 25,1 % (одна четвертая опрошенных), крайнюю негативную позицию отметили 3,06 % опрошенных.
В области идет процесс конструирования идентичности с помощью самых различных инструментов. К таким инструментам можно отнести образование, деятельность СМИ, культуру (в ее прикладном аспекте), социальные акции.
В регионе действует сеть высших учебных заведений, идет процесс становления местной интеллигенции, отток талантливой молодежи в центральные города сокращается. Власть инициирует различные культурные проекты, имеющие суггестивную подоплеку: «Книга года», «Тюменская марка», «Моя Тюмень», «Люблю тебя, мой край родной», создана «Золотая книга молодежи Тюменской области» и т.д. Власть, общественные и образовательные учреждения, используя СМИ, популяризирует достижения местных спортсменов, писателей, художников, стремясь создать противовес имиджу края нефтяных вышек, «трубы». В валоризации региональной идентичности особое место занимает история, что обусловило стремление Тобольска занять нишу туристического центра.
Инициированные или одобренные властью проекты легче координировать, управлять ими. В округах власть справляется с проектом регионализации достаточно успешно. В областном центре очевидны трудности: у Тюмени не было статуса древней столицы Сибири, как у Тобольска, нет залежей природных богатств, нет знаковых личностей, либо их масштаб не «дотягивает» до общенационального, как у знаменитых тоболяков П. Ершова, А. Алябьева, Д. Менделеева. Последнее обстоятельство объясняет и тот факт, что несколько лет подряд не разре- шается ситуация с памятником выдающейся личности. Вопрос об установке памятника был вынесен на всенародное обсуждение, однако ни одна из кандидатур не набрала достаточного количества голосов, а наиболее популярные из них имеют непрямое отношение к столице области. Процесс создания идентичности на уровне города слабо реализуется, но позволяет проектировать различные сценарии изменения ситуации с учётом опыта других регионов или собственных автономных округов. В региональной риторике обязательно эксплицируется общероссийская значимость города, как в популярном лозунге «Тюмень – сердце России». В целом очевидны попытки власти сплотить региональное сообщество, поэтому проективная деятельность направлена в основном «вовнутрь» региона, в российском пространстве область по-прежнему позиционируется как территория тундры, оленей и трубопроводов.
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Каримова А.Б. Регионы в современном мире // Социологические исследования. 2006. № 5. С. 32–41.
-
2. Harvie C. The rise of Regionl Europe. L., 1994.
-
3. Lefebvre H. The Production of Spase / Translated by Donald Nichlson-Smith. Oxford UK& Cambridge USA: Blackwell, 1991.
-
4. Thrift N. Spatial Formations. L., 1996.
-
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2001 .
-
6. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / перев. с франц. Н.В. Кисловой, Г.В. Волковой, М.Ю. Михеева; под ред. Л.Б. Комиссаровой. М., 2004.
-
7. Омельчук А.К. Тюменская книга. Тюмень, 2009.
-
8. Мелешкина Е.Ю. Региональная идентичность как составляющая проблематики российского политического пространства // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России / под. ред. М.В. Ильина, И.М. Бусыгиной. М., 1999. С. 126-137.
-
9. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999.
-
10. Лагунов К. Тяжела ты, шапка Мономаха // Лагунов К. В диалоге с Сибирью. Тюмень, 2010.
-
11. Неклепаев И.Я. Обряды, обычая, поверья. Тюмень, 1997.
-
12. Лаппо Г.М. Города в пространстве России // Отечественные записки. 2002. № 6 (7). С. 380-387.
-
13. Литенкова С.П. Опорный каркас расселения. Тюменская область как индикатор становления региональной общности // Северный регион: наука и социокультурная динамика / отв. ред. В.В. Мархи-нин. Сургут, 2002. С. 119-120 ; Белявский Ф.М. Поездка к ледовитому морю. Тюмень, 2004.
-
1. Karimova A.B. Regiony v sovremennom mire // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2006. № 5. P. 32–41.
-
2. Harvie C. The rise of Regionl Europe. L., 1994.
-
3. Lefebvre H. The Production of Spase / Translated by Donald Nichlson-Smith. Oxford UK& Cambridge USA: Blackwell, 1991.
-
4. Thrift N. Spatial Formations. L., 1996.
-
5. Kastelʹs M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kulʹtura. M., 2001.
-
6. Bashlyar G. Izbrannoe: Poetika prostranstva / transl. from French of N.V. Kislova, G.V. Volkova, M.Y. Mikheev; ed. by L.B. Komissarova. M., 2004.
-
7. Omelʹchuk A.K. Tyumenskaya kniga. Tyumenʹ, 2009.
-
8. Meleshkina E.Y. Regionalʹnaya identichnostʹ kak sostavlyayushchaya problematiki rossiyskogo
-
9. Eyzenshtadt S. Revolyutsiya i preobrazovanie ob-shchestv: sravnitelʹnoe izuchenie tsivilizatsiy. M.,
-
10. Lagunov K. Tyazhela ty, shapka Monomakha // Lagunov K. V dialoge s Sibirʹyu. Tyumenʹ, 2010.
-
11. Neklepaev I.Y. Obryady, obychaya, poverʹya. Tyumenʹ, 1997.
-
12. Lappo G.M. Goroda v prostranstve Rossii // Otech-estvennye zapiski. 2002. № 6 (7). P. 380-387.
-
13. Litenkova S.P. Oporniy karkas rasseleniya. Tyumen-skaya oblastʹ kak indikator stanovleniya regionalʹnoy obshchnosti // Severniy region: nauka i
sotsiokulʹturnaya dinamika / ex. ed. V.V. Markhinin. Surgut, 2002. P. 119-120 ; Belyavskiy F.M. Poezdka k ledovitomu moryu. Tyumenʹ, 2004.
-
politicheskogo prostranstva // Regionalʹnoe samo-soznanie kak faktor formirovaniya politicheskoy kulʹtury v Rossii / ed. by M.V. Ilʹin, I.M. Busygina. M., 1999. P. 126-137.
Список литературы Брендирование регионального пространства как механизм формирования идентичности
- Каримова А.Б. Регионы в современном мире//Социологические исследования. 2006. № 5. С. 32-41.
- Harvie C. The rise of Regionl Europe. L., 1994.
- Lefebvre H. The Production of Spase/Translated by Donald Nichlson-Smith. Oxford UK& Cambridge USA: Blackwell, 1991.
- Thrift N. Spatial Formations. L., 1996.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2001.
- Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства/перев. с франц. Н.В. Кисловой, Г.В. Волковой, М.Ю. Михеева, под ред. Л.Б. Комиссаровой. М., 2004.
- Омельчук А.К. Тюменская книга. Тюмень, 2009.
- Мелешкина Е.Ю. Региональная идентичность как составляющая проблематики российского политического пространства//Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России/под. ред. М.В. Ильина, И.М. Бусыгиной. М., 1999. С. 126-137.
- Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999.
- Лагунов К. Тяжела ты, шапка Мономаха//Лагунов К. В. диалоге с Сибирью. Тюмень, 2010.
- Неклепаев И.Я. Обряды, обычая, поверья. Тюмень, 1997.
- Лаппо Г.М. Города в пространстве России//Отечественные записки. 2002. № 6 (7). С. 380-387.
- Литенкова С.П. Опорный каркас расселения. Тюменская область как индикатор становления региональной общности//Северный регион: наука и социокультурная динамика/отв. ред. В.В. Мархинин. Сургут, 2002. С. 119-120
- Белявский Ф.М. Поездка к ледовитому морю. Тюмень, 2004.