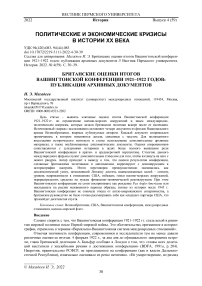Британские оценки итогов Вашингтонской конференции 1921-1922 годов: публикация архивных документов
Автор: Магадеев И.Э.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Политические и экономические кризисы в истории XX века
Статья в выпуске: 4 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - выявить ключевые оценки итогов Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. по ограничению военно-морских вооружений и иным международно-политическим вопросам, которые делали британские политики вскоре после ее окончания. Источниковый «каркас» исследования составляют четыре документа из фондов Национального архива Великобритании, впервые публикуемые автором. Каждый документ сопровожден примечанием, в котором поясняются детали, связанные с текстом. Для полноценного воссоздания исторического контекста в статье использованы дополнительные архивные материалы, а также опубликованные дипломатические документы. Оценки современников сопоставляются с суждениями историков в целях более полного выявления роли Вашингтонской конференции в кратко- и среднесрочной перспективе. Столетие данного международного форума служит дополнительным стимулом для того, чтобы взглянуть на него с нового ракурса. Автор приходит к выводу о том, что оценки результатов конференции, сделанные британскими политиками и дипломатами, коррелируют с доминирующим в историографии настроем. Итоги переговоров преимущественно оценивались как дипломатический успех, позволивший Лондону достичь взаимосвязанных целей - снизить уровень напряженности в отношениях США, избежать гонки военно-морских вооружений, перераспределить средства на нужды финансово-экономической реконструкции. При этом Вашингтонскую конференцию не стоит воспринимать как рождение Pax Anglo-Americana или накладывать на реалии межвоенного периода образцы, взятые из истории после 1945 г. Вашингтонская конференция не означала отказа от англо-американского соперничества, а британское руководство не было готово рассматривать себя как младшего партнера США, что произойдет десятилетия спустя.
Великобритания, сша, вашингтонская конференция, международные отношения, военно-морской флот
Короткий адрес: https://sciup.org/147246452
IDR: 147246452 | УДК: 94(420).083, | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-4-30-39
Текст научной статьи Британские оценки итогов Вашингтонской конференции 1921-1922 годов: публикация архивных документов
Сложно спорить с тем, что Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. стала вехой в развитии мировой политики после Первой мировой войны. Это обстоятельство, признанное в историографии, отразилось в термине «Версальско-Вашингтонская система международных отношений».
Отмечая значимость конференции, современники и исследователи тем не менее давали различные оценки ее итогам. 4 февраля 1922 г., за два дня до официального завершения встречи, глава британской делегации А. Бальфур сообщал в Лондон о том, что «главы всех делегаций выступили с хвалебными речами о достижениях конференции» (BDFA, 1991 a , p. 204). Напротив, правительство РСФСР, не приглашенное на конференцию (как и власти Дальневосточной Республики), изначально оценивало ее резко негативно. «Не умиротворение, но разлад
и ненависть внесет она в международные отношения и явится причиной новых бедствий для человечества», – говорилось в советской ноте от 2 ноября 1921 г. (ДВП СССР, 1960, с. 473).
Оценки исследователей, как правило, располагаются где-то посередине между двумя обозначенными полюсами. Историки признают определенные достижения конференции, однако отмечают ее недостатки. Одни авторы акцентируют внимание на решении вопросов, связанных с ограничением военно-морских вооружений: «Вашингтонскую конференцию быстро назвали успешной. Однако ее провал в установлении ограничений на число кораблей в каждом из вспомогательных классов [т.е. кораблей, легче по тоннажу, чем линкоры и авианосцы. – И. М. ] имел долгосрочные последствия и вызвал ряд серьезных проблем» [ Lisio , 2014, p. 30].
Другие исследователи относят ограничение флотов к достижениям встречи, полагая, что недостатки были в другом: «Постановления конференции носили временный и компромиссный характер, а многие вопросы так и не нашли в них своего разрешения. Противоречия между великими державами были сглажены, но не устранены» [ Горохов , 2004, с. 103]. Наконец, третья группа авторов сосредоточена на последствиях конференции для внешней политики Японии. С их точки зрения, между Вашингтонской конференцией и агрессивными действиями Токио в 1930-е гг. есть взаимосвязь. Решения 1921–1922 гг. выступили «фактором зарождения потенциальных узлов противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [ Безруков , 2015, с. 30].
В данной статье объектом анализа стали оценки итогов Вашингтонской конференции, которые дали политики и дипломаты Великобритании. «Каркасом» для достижения цели стали четыре архивных документа, которые публикуются впервые. Текстовые изъятия, не несущие принципиальной смысловой нагрузки, специально оговорены. Документы снабжены примечаниями, которые поясняют и дополняют детали текста.
Речь идет о следующих документах из фонда Кабинета министров Национального архива Великобритании:
-
1) телеграмма, отправленная от имени Кабинета министров Бальфуру 3 февраля 1922 г.;
-
2) доклад от 4 февраля 1922 г. за подписью министра колоний У. Черчилля;
-
3) выступление Бальфура на заседании Кабинета министров 17 февраля 1922 г.;
-
4) записка министра здравоохранения Великобритании А. Монда и ремарки к ней, сделанные секретарем Кабинета министров М. Хэнки 22 марта 1922 г.
Для полноценного воссоздания исторического контекста также использованы дополнительные материалы Национального архива Великобритании, опубликованные дипломатические документы. Оценки современников сопоставляются с суждениями историков в целях выявления роли Вашингтонской конференции в кратко- и среднесрочной перспективе. Столетие данного международного форума служит дополнительным стимулом для того, чтобы взглянуть на него с нового ракурса.
Итоги Вашингтонской конференции для Великобритании: дискуссии современников и историков
Ни британские современники, ни историография не были едины в оценках того, насколько результаты конференции отвечали интересам Соединенного Королевства. Главные военноморские эксперты британской делегации в Вашингтоне – министр ВМФ виконт А. Ли и начальник Штаба ВМФ адмирал лорд Д. Битти – смотрели на ситуацию с бóльшим пессимизмом, чем Бальфур.
Первая реакция британских флотоводцев на американскую инициативу была негативной. Помощник министра ВМФ США Т. Рузвельт-мл. оставил живые воспоминания о восприятии ими предложений, озвученных госсекретарем США Ч. Хьюзом 12 ноября 1921 г. (они легли в основу Договора пяти и известной пропорции 5:5:3:1,75:1,75 по линкорам): лорд Ли «покрылся несколькими цветами радуги и вел себя так, словно сидел на углях» [ Dukes , 2004, p. 27]. Ру-звельту-мл. вторил американский журналист М. Салливан: «Когда Хьюз принялся перечислять британские корабли, которые подлежат затоплению, – корабли, имена которых были вехами в развитии британской военно-морской мощи, – лорд Битти наклонился в своем кресле, словно бульдог, спавший на крыльце в солнечный день и получивший удар ногой в живот…» [Ibid.].
Британские флотоводцы считали, что инициатива Хьюза больше отвечала интересам США, чем Великобритании, поскольку Британия не строила линкоров последние 5 лет. Битти горячо возражал против 10-летних «морских каникул» (отказ от строительства линкоров). Он считал, что это условие приведет к тому, что к 1931–1932 гг. американцы будут обладать более современным флотом, а Британия потеряет производство, опыт и кадры для строительства линкоров, которые придется экстренно заменять после того, как «каникулы» закончатся [Лихарев, 1997, с. 219]. Тем не менее уже 28 января 1922 г., понимая, куда развивается конференция, Битти запросил у Кабинета министров право отменить заказы на четыре крейсера, размещенные Адмиралтейством в октябре - ноябре 1921 г. (TNA. CAB 24/132. F. 294). Предложение было одобрено 10 февраля (TNA. CAB 23/39. F. 155). Вместе с тем Битти не смотрел на ситуацию только негативно. Он был доволен тем, что британской делегации удалось добиться нераспространения пропорций по линкорам на легкие крейсера, эсминцы и подлодки [Lisio, 2014, p. 24–25].
Оценки Кабинета министров (документ № 1), Бальфура и посольства Великобритании в США были выдержаны в более позитивном ключе. Словно забыв о первой негативной реакции на предложение Хьюза со стороны британских флотоводцев, Бальфур в депеше от 6 февраля отметил лишь положительные аспекты. Констатировав, что «работа конференции была долгой и трудной», он сразу подчеркнул, что ее «счастливый результат обусловлен рядом обстоятельств», главным из которых Бальфур называл «смелое заявление» Хьюза от 12 ноября. Англоамериканский компромисс, как следовало из описания Бальфура, определил ход конференции: «Своим изначальным заявлением американское правительство подало великий пример. Делегация Британской империи с начала и до конца стремилась следовать ему» (TNA. CAB 30/7. F. 411).
Посол Великобритании в США О. Геддес смотрел на ситуацию с еще большим энтузиазмом. В депеше, отправленной в Лондон 13 февраля, он «подчеркнул колоссальное, глубокое и позитивное воздействие, которое конференция оказала на британо-американские отношения. […] [Согласно оценке Хьюза] эти отношения в настоящее время носят более сердечный характер, чем на протяжении последних 150 лет. Способность Великобритании и США тесно сотрудничать друг с другом является фактором колоссальной значимости для урегулирования международных проблем». Геддес не считал, что этот медовый месяц продлится вечно, отмечая возможные поводы для охлаждения отношений: вопрос о военных долгах, стремление США иметь крупный торговый флот, враждебная британцам пропаганда в Америке. Однако общий вывод был отнюдь не пессимистичным. Посол полагал, что Лондон и Вашингтон находятся «в начале новой эпохи англо-американских отношений, которая будет лучше предыдущей» (BDFA, 1991 a , p. 246). В обобщающем политическом докладе за 1922 г. Геддес повторил указанные мысли (BDFA, 1991 b , p. 54).
Постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Э. Кроу в чуть более поздней оценке (записка от 24 июня 1923 г.) смотрел на итоги конференции прагматично. Кроу считал, что необходимыми компонентами договоренностей стали желание Лондона «сэкономить деньги» и некоторые опасения, что линкоры, «учитывая условия и характер современной войны», прежде всего развитие авиации, «могут оказаться плохой инвестицией» [ Orde , 1978, p. 41–42].
Важную роль в британском согласии на американские предложения по сокращению флотов сыграло понимание в Лондоне того, что у Великобритании практически нет шансов выиграть военно-морскую гонку у США, учитывая масштаб американских финансовоэкономических ресурсов. Более того, как писал министр иностранных дел, виконт Дж. Керзон в письме Черчиллю от 29 сентября 1921 г., США могли использовать для достижения своих целей на конференции давление на Лондон в вопросе военных долгов [ Goldstein , 1993, p. 10].
Двойственное положение Великобритании, желавшей снизить напряженность в отношениях США, не превратившись в младшего партнера Америки, зафиксировал премьер-министр Д. Ллойд Джордж. Опасаясь негативного эффекта от разрыва англо-японского союза, он полагал в декабре 1920 г., что «не может быть более фатальной политики, чем та, в результате которой мы будем зависеть от милости Соединенных Штатов» [ Neilson , 2005, p. 68–69]. Вместе с тем на заседании Кабинета министров от 30 июня 1921 г. Ллойд Джордж признавал, что «Великобритания не может позволить себе ссориться» с американцами (TNA. CAB 23/26. F. 103). Схожий настрой на равноправное сотрудничество с США отразился в принципе однодержавного стандарта (равенство в военно-морской мощи с любой другой державой), утвержденном на Имперской конференции (20 июня – 5 августа 1921 г.). Меморандум Черчилля (документ № 2) и записка Монда (документ № 4) проникнуты идеей паритетного сотрудничества с США.
Финансово-экономические последствия Вашингтонской конференции, которые нередко остаются в тени ее международно-политических итогов, были крайне важными. О взаимосвязи указанных аспектов для Великобритании говорило то, что подготовка и ход конференции шли параллельно работе комитета Геддеса – органа, сформированного Кабинетом министров в августе 1921 г. и возглавленного министром транспорта Э. Геддесом, братом британского посла в США. Главной целью комитета было формулирование программы по сокращению государственных расходов, и флот был одной из важных целей Геддеса, являвшегося в 1917–1919 гг., как ни странно, министром ВМФ [ McDonald , 1989].
Рекомендации, сформулированные комитетом, вызвали отторжение Адмиралтейства. По результатам правительственных дискуссий в январе – феврале 1922 г. некоторые предложения были скорректированы, однако и в таком виде речь шла о сокращениях. Если Геддес предлагал снизить численность личного состава на флоте в 1922/23 финансовом году со 121 600 до 86 600 чел., то правительственный комитет во главе с Черчиллем «в качестве минимальной численности» указал число в 98 570 чел. (TNA. CAB 24/132. F. 563). Вместо предложенного Геддесом урезания военно-морских расходов на 21 млн. ф. ст., Черчилль в докладе от 4 февраля 1922 г. предлагал сокращение на 19 млн (TNA. CAB 24/132. F. 513). Как демонстрировали ремарки Хэнки (документ № 4), реальный секвестр оказался даже меньше (10–12 млн).
Тем не менее результаты Вашингтонской конференции, очевидно, усилили голос тех, кто выступал за то, чтобы в настоящее время отдать приоритет финансово-экономической реконструкции, а не усилению ВМФ. Об этом свидетельствовала позиция Бальфура (документ № 3).
Определенная разноголосица в суждениях о роли конференции для Великобритании, характерная для современников, существует и среди исследователей. Однако доминируют позитивные для Лондона оценки. Канадский историк Дж. Феррис считал, что по итогам конференции «Британия потеряла свой особый морской статус в принципе, но сохранила его на практике. Она оставалась самой могущественной военно-морской державой, способной полноценно защищать свои интересы на морях» [ Ferris , 1991, p. 77]. Британский исследователь Дж. Силь-верлок также полагал, что конференция была «очень успешной» для Лондона [ Silverlock , 2003, p. 186]. Схожей оценки придерживается российский историк Д.В. Лихарев: «Англия пожертвовала только устаревшими кораблями, в то время как Япония и США – новейшими. […] из всех трех Англия продолжала оставаться сильнейшей морской державой, вполне способной отстоять свои позиции» [ Лихарев , 1997, с. 223]. Эти выводы коррелируют с данными самого Адмиралтейства. В январе 1922 г. его сотрудники отмечали, что ВМФ Великобритании сохранил преимущество над США по тоннажу линкоров (580 950 против 525 350 тонн) и крейсеров (240 570 против 153 130 тонн), уступая американцам по лидерам и эсминцам (221 655 против 361 117 тонн), а также по подлодкам (49 272 против 85 121 тонн) (TNA. CAB 24/132. F. 533).
В чуть менее триумфалистском ключе размышлял американский историк Э. Голдстейн. Он писал о том, что «Британия победила в Вашингтоне» за счет дрейфа в американскую орбиту влияния [ Goldstein , 1993, p. 28]. Наиболее критичная оценка (из числа приведенных) принадлежит британскому историку А. Тузу. Характеризуя итоги конференции, он считал, что «никогда прежде Британская империя столь явным образом не сдавала своих позиций мировой державы» [ Туз , 2017, с. 502].
Таким образом, при наличии амбивалентности в восприятии итогов Вашингтонской конференции британскими современниками и историками доминируют позитивные оценки. С определенными оговорками они были зафиксированы и в текстах документов, публикуемых ниже.
Документы
№ 1. Телеграмма Кабинета министров Великобритании главе британской делегации на Вашингтонской конференции А. Бальфуру, 3 февраля 1922 г.
В настоящее время труды коллег и Ваши собственные подходят к концу. Можно с уверенностью говорить о том, что бесконечное терпение, мастерство и способности, проявленные всеми членами британской делегации, увенчались успехом. Кабинет министров хотел бы передать Вам самые теплые поздравления. Коллективная работа делегации во время конференции и особенно – рассудительность и тонкость, с которыми Вы руководили ей, сделали больше, чем действия, предпринятые на протяжении многих лет, дабы ликвидировать непонимание, дать ясное представление об общих интересах и укрепить узы дружбы между американским наро- дом и нами. Одновременно были заложены основания для мира не только в Восточном полушарии, но и на всем земном шаре. Мы уверены, что вся страна присоединяется к благодарности, которую выражает Вам правительство Его Величества.
TNA, CAB 30/7. F. 63. Копия.
Примечание : решение об отправке благодарственной телеграммы Бальфуру было принято на заседании Кабинета министров от 2 февраля после того, как Керзон сделал сообщение о том, что «Вашингтонская конференция практически завершила свою работу» (TNA. CAB 23/29. F. 93).
№ 2. Из доклада председателя комитета Кабинета министров Великобритании по изучению расходов на оборону, министра колоний У. Черчилля, 4 февраля 1922 г.
[…] (В опущенных фрагментах обсуждались различные предложения комитета по сокращению военных расходов, не касавшихся ВМФ. – И. М. ).
-
VIII – Военно-морские расходы.
-
9. … Мы полагаем, что не будет иметь смысла обсуждать военно-морские расходы, исходя из совершенно искусственной ситуации, будто Вашингтонской конференции и ее результатов не существует… Таким образом, наши рекомендации Кабинету министров основаны на анализе итогов и воздействия Вашингтонской конференции. Мы полагаем, что столь серьезное сокращение расходов не было бы возможно без Вашингтонской конференции. […]
-
10. Преувеличение говорить о том, что в случае провала Вашингтонской конференции мы оказались бы перед перспективой войны на Тихом океане в обозримом будущем, в которой Великобритания не участвовала, но наши жизненные интересы оказались затронуты на каждой стадии войны и особенно – во время ее завершения. Как минимум, мы бы столкнулись с быстрым и агрессивным развитием военно-морской мощи Америки и Японии. Нам потребовалось тогда самим предпринять крайне серьезные усилия [по укреплению ВМФ] или окончательно смириться с превращением в военно-морскую державу второго или третьего разряда. … мы стремились определить, каким может быть минимальный уровень военных расходов в 1922/23 финансовом году. Благодаря счастливому исходу Вашингтонской конференции, мы можем в это время поддерживать однодержавный стандарт. […]
-
11. В период, начиная с завершения Наполеоновский войн и до двадцатого века, британский флот был не только сильнейшим в мире, но он превосходил по своей мощи флоты всех держав, взятых вместе. К концу данного периода мы стали руководствоваться двухдержавным стандартом, т.е. британский флот с высокой степенью вероятности должен победить в войне против двух других сильнейших флотов. […] Мы оказались в совершенно другой ситуации после великих побед в недавней войне. Мы отказались от идеи военно-морского превосходства, основы нашего былого величия, и согласились на равенство с Соединенными Штатами. Однако подобное равенство по силам не есть равенство в положении, поскольку США могут обеспечить себя и не зависят от флота, в то время как 4/5 наших продовольственных поставок поступают по морю. Обстоятельства заставили нас принять однодержавный стандарт, вызывающий некоторую меланхолию. В настоящее время мы должны полагаться на поддержание хороших отношений с США и на долгосрочный мир, который, возможно, приведет к сокращению американских военно-морских усилий.
-
12. Мы считаем, что подлинный однодержавный стандарт необходимо поддерживать. […] Если мы опустимся ниже него, это скажется на всем нашем международном положении и влиянии; это станет сигналом для доминионов, что в англо-саксонском мире возник новый центр. Мы полагаем, что Кабинет министров и даже Парламент исходят из того, что поддержание однодержавного стандарта является для нас императивом.
-
13. Помимо общего стандарта военно-морской мощи, который надо сохранить, необходимо принять во внимание потенциального противника. Мы считаем, что наши отношения с Японией требует серьезного и экстренного рассмотрения Комитетом имперской обороны. Мы находимся под большим впечатлением от того, что лорд Битти говорил по данному вопросу. […] На протяжении следующих нескольких лет Япония будет находиться в могущественном положении. Согласно лорду Битти, США ничего не могут предпринять против нее ввиду колоссальных масштабов Тихого океана. Безусловно, мы не сможем удержать Гонконг в случае войны против Японии. Если Сингапур не будет соответствующим образом укреплен, нам не удержать и его. Если на пути на Восток, в Адене и Коломбо, не будут созданы пункты доза-
- правки для флота, нам не удастся базировать флот, способный сражаться с Японией за Сингапур. Если Сингапур падет в первые два-три месяца войны, весь Тихоокеанский регион окажется под полным японским господством. Пройдут многие годы до того, как Британия и США вернутся на просторы Тихого океана с необходимыми силами. В настоящее время Индия, Бирма, Поселения у пролива [на полуострове Малакка. – И. М.], Австралия и Новая Зеландия находится в пределах возможного проецирования превосходящей японской мощи. Мы уверены в том, что необходимо продолжить сдержанное строительство пунктов дозаправки и Сингапурской базы. Лишь они позволят флоту обеспечить некоторую защиту наших интересов в Тихом океане…
[…]
TNA. CAB 24/132. F. 510–512. Копия.
Примечание : помимо Черчилля, в комитет по изучению расходов на оборону входили лорд-канцлер Кабинета, виконт Ф. Биркенхед, министр по делам Индии Э. Монтагю, министр торговли С. Болдуин, секретарь Дж. Ченселлор.
Доклад Черчилля, словно прогнозировавший события Второй мировой войны на Тихом океане, фиксировал ряд важных элементов «сингапурской стратегии», начавшей формироваться еще до Вашингтонской конференции. На заседаниях Кабинета министров от 16 июня 1921 г. были одобрены основы этой стратегии, в основе которой лежал проект по созданию первоклассной военно-морской базы в Тихом океане (TNA. CAB 23/26. F. 49). На заседании от 30 июня того же года министры отметили, что «войны между Америкой и Японией на протяжении нескольких следующих лет не состоится, поскольку за отсутствием баз ни одна из держав не сможет действовать против побережья противника. В подобных условиях Великобритания – единственная держава, на которую Япония может напасть» (TNA. CAB 23/26. F. 103).
Подобный настрой закрепился в январе 1922 г. Британские флотоводцы, размышляя о том, как решения Вашингтонской конференции скажутся на расходах королевского ВМФ по созданию резервов топлива, отметили: «На протяжении нескольких лет основная часть программы Адмиралтейства по формированию запасов мазута будет нацелена на то, чтобы создать запасы на Дальнем Востоке и на коммуникациях к нему. Наша цель – позволить Великобритании выдвинуть сильный флот до Сингапура и обеспечить ее военно-морское присутствие в регионе в том случае, если интересы Великобритании, Индии, Австралии или Новой Зеландии подвергнутся угрозе» (TNA. CAB 24/132. F. 535).
№ 3. Из стенограммы заседания Кабинета министров Великобритании, 17 февраля 1922 г.
[…] (Опущена часть дискуссии по сокращению военно-морских расходов, в пользу которого выступал министр финансов Р. Хорн; ему оппонировал министр ВМФ Ли. – И. М. )
Премьер-министр просит г-на БАЛЬФУРА, недавно рассматривавшего эти вопросы в Вашингтоне, высказать свою точку зрения о положении дел с военно-морскими расходами. Г-н БАЛЬФУР отметил, что Великобритания неизбежно будет находиться в несколько рискованном положении на протяжении следующих двух лет. Она должна пройти между Сциллой и Харибдой, выбрав между военно-морскими рисками и риском финансовой катастрофы. Кабинет министров и Палата общин должны будут сделать выбор. Он хотел бы честно заявить о своей позиции в Парламенте. Он не просит Адмиралтейство говорить о том, что флот находится в удовлетворительном состоянии, когда на самом деле это не так. Он проинформирует Парламент, что правительство неудовлетворенно предложенными в настоящее время расходами на флот, не рассматривает их как неизменные и сделает рано или поздно запрос об их увеличении. Однако на данный момент правительство рассматривает военно-морские риски как менее серьезные, чем финансовые. В интересах страны необходимо временно сократить флот.
TNA. CAB 23/29. F. 134. Копия.
Примечание : позиция, занятая Бальфуром на данном заседании Кабинета, имела достаточно глубокие корни. Еще в период подписания англо-японского союза (30 января 1902 г.) Бальфур выступал против этого шага, а опыт Первой мировой войны убедил его в финансовой мощи США.
В разгар Первой мировой войны, 28 июня 1917 г., он писал американскому полковнику Э. Хаузу, советнику президента США В. Вильсона, о том, что Великобритания «находится на грани финансовой катастрофы… Если нам не удастся поддерживать обменный курс, ни мы, ни наши союзники не сможем выплатить долги, номинированные в долларах; мы лишимся золота, а все закупки из Соединенных Штатов будут немедленно остановлены» (TNA. FO 800/209. F. 174). 5 июля 1917 г. Бальфур излагал тому же американскому адресату точку зрения, отчасти близкую той, что британцы будут защищать в ходе Вашингтонской конференции четыре с лишним года спустя. Отметив наличие в США «широкораспространенного недоверия к японским намерениям», Бальфур подчеркнул, что, «с точки зрения наших военно-морских экспертов, Соединенным Штатам не стоит бояться Японии, поскольку, за исключением некоторых немаловажных позиций, американский флот значительно сильнее японского… Наиболее острые потребности американского флота, если сравнивать его с японским, состоят в легких крейсерах, эсминцах и противолодочных кораблях. По-видимому, строительство новых линкоров было бы тратой ресурсов со стороны правительства США» (TNA. FO 800/209. F. 189–190).
Cлова Бальфура на заседании Кабинета 17 февраля 1922 г. могли создать впечатление, что он планировал выступить с развернутой оценкой Вашингтонской конференции в Парламенте. Однако его заявления в Палате общин (от 23 февраля и 13 марта) касались частных вопросов (публикация договоров, подписанных в Вашингтоне, и сроки их вступления в действие) (Hansard’s Parliamentary Debates, 1922 a , col. 2088; Hansard’s Parliamentary Debates, 1922 b . col. 1768–1769).
№ 4. Из записки министра здравоохранения Великобритании А. Монда «Вашингтонская конференция» и ремарок к ней, сделанных секретарем Кабинета министров Великобритании М. Хэнки, 22 марта 1922 г.
До Вашингтонской конференции существовала угроза очень серьезной гонки военноморских вооружений. Подобная угроза проистекала из того факта, что Соединенные Штаты Америки и Япония имели определенный конфликт региональных интересов, и каждая из стран заложила колоссальную военно-морскую программу. Интересы Британской империи в Тихоокеанском регионе также были очень важны. Помимо того, что здесь располагаются Австралия и Новая Зеландия, торговые интересы имели для нас серьезное значение. К тому же Британская империя не может позволить себе быть слабее на морях, чем какая-либо другая держава.
Таким образом, основная проблема в ходе Вашингтонской конференции заключалась в том, как организовать взаимное и широкомасштабное сокращение военно-морских вооружений. Однако даже этого результата оказалось бы недостаточно, если не ликвидировать причины противоречий между указанными государствами.
Первая из этих причин – существование англо-японского союза, крайне непопулярного в Соединенных Штатах Америки. Мы всегда давали понять, и японцы также осознавали, что условия союза исключают войну между нами и Соединенными Штатами Америки. Однако если несчастливые обстоятельства привели бы к войне между Америкой и Японией, нам было бы крайне сложно соблюдать нейтралитет, особенно в том, что касается поставок вооружений, сырья и т.п. Другие причины для возможной напряженности и политических противоречий вытекали из нынешней, крайне сложной ситуации в Китае, особенно в том, что касается провинции Шаньдун. В этой провинции японцы, реализуя условия англо-японского союза, захватили немецкое поселение в Циндао (на территории провинции Шаньдун), унаследовали права, принадлежавшие немцам, и присвоили бывшую германскую железную дорогу, которая проходит через провинцию. Это очень досадило китайцам.
Таким образом, Вашингтонская конференция должна была решить крайне сложные вопросы, в которых жизненно важные интересы [различных государств] вступали в достаточно острый конфликт друг с другом. В итоге все эти трудности были преодолены.
[…] (В опущенном фрагменте автор записки перечисляет основные результаты Вашингтонской конференции, которые хорошо известны. Далее следует текст за авторством Хэнки. – И. М. )
Ремарки
В результате заключения военно-морского соглашения [т.е. Договора пяти. – И. М. ] объем наших ежегодных ожидаемых затрат на флот сократился на 10–12 миллионов [фунтов стерлингов].
Этот договор также спас нас от начала новой, разрушительной гонки военно-морских вооружений между Америкой и Японией, которая потребовала бы бесчисленных расходов.
В результате серии соглашений вместо международного соперничества в Тихом океане и на Дальнем Востоке был установлен принцип международного сотрудничества. Эти соглашения должны открыть эру долгого мира на огромных территориях.
Наконец, – и вполне возможно, что это наиболее важный итог, – соглашения серьезным образом укрепили и так сердечные отношения между Соединенными Штатами Америки и Британской империей.
[Подпись] М.П.А. Хэнки
TNA. CAB 63/32. F. 62–67. Копия.
Примечание : хотя может показаться, что мнение министра здравоохранения Монда по внешнеполитическим вопросам не представляет существенного интереса, этот аргумент несправедлив. Монд, представитель родной для Ллойд Джорджа Либеральной партии, был его важным союзником в коалиционном правительстве, где доминировали консерваторы. Монд, хотя в 1926 г. он перешел в Консервативную партию, был близок Ллойд Джорджу и даже называл его в недатированном письме 1922 г. «величайшим демократом века» [ Morgan , 1970, p. 131]. Более того, у Монда были широкие связи вне правительства. Он являлся значимым представителем сионистского движения, а также первым председателем одной из крупнейших на тот момент мировых корпораций под названием «Британская химическая промышленность» (занимал пост в 1926–1930 гг.). С его именем связано такое явление как «мондизм» – политика сотрудничества между предпринимателями и профсоюзами, имевшая определенные параллели с итальянским корпоративизмом [ Иванова , 2009].
Все же Хэнки был намного более плотно, чем Монд, погружен в дела Вашингтонской конференции [ Roskill , 1970, p. 250–257]. В ноябре 1921 – январе 1922 г. он возглавлял секретариат британской делегации. «Его заслуги бесценны», – так Бальфур охарактеризовал работу Хэнки в телеграмме от 6 февраля 1922 г., особо отметив «организационный талант», «уникальный опыт участия в международных конференциях и глубокое знание необходимых фактов» (TNA. CAB 30/7. F. 411).
«Шаньдунский вопрос», как справедливо отмечал Монд, был одним из наиболее дискуссионных в ходе Вашингтонской конференции. Ряд территорий провинции, ранее подконтрольных немцам, был занят Японией в начале Первой мировой войны и оставлен за ней по итогам Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. Китайские власти были крайне недовольны подобной ситуацией. В итоге «под давлением США и Англии глава японской делегации Т. Като 4 февраля 1922 г. подписал с представителями пекинского правительства специальное соглашение, по которому Япония обязалась в 6-месячный срок вывести свои войска из провинции Шаньдун и вернуть Китаю железную дорогу Циндао–Цзинань и территорию Цзяочжоу» [ Горохов , 2004, с. 101].
Заключение
Таким образом, оценки результатов Вашингтонской конференции британскими политиками и дипломатами коррелируют с доминирующим в историографии настроем. Итоги переговоров преимущественно оценивались как дипломатический успех, позволивший Лондону достичь взаимосвязанных целей: снизить уровень напряженности в отношениях с США, избежать гонки военно-морских вооружений, встать на путь сокращения военных расходов и перераспределения средств на нужды финансово-экономической реконструкции.
При этом Вашингтонскую конференцию не стоит воспринимать как рождение Pax Anglo-Americana , о котором американский историк П. О. Корс писал применительно к 1920-м гг. [ Cohrs , 2006]. Вашингтонская конференция не означала отказа от англо-американского соперничества, а британское руководство отнюдь не было готово рассматривать себя как младшего партнера США, что произойдет десятилетия спустя. Если переговоры 1921–1922 гг. стали вехой в определенном ослаблении Великобритании, то они также зафиксировали способность Лондона минимизировать издержки этого процесса и замедлить его ход.
Список литературы Британские оценки итогов Вашингтонской конференции 1921-1922 годов: публикация архивных документов
- Безруков Д.А. Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений как фактор зарождения потенциальных узлов противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Вестник Вят. гос. гуманит. ун-та. 2015. № 5. С. 30-34.
- Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939. М.: Изд-во МГУ, 2004. 288 с. EDN: QOUAEP
- Иванова О.А. Позиция британских предпринимателей на переговорах Монда-Тёрнера (1927-1930) // Вестник Моск. ун-та. История. 2009. № 3. С. 46-56.
- Лихарев Д.В. Адмирал Дэвид Битти и британский флот в первой половине ХХ века. СПб.: Корабли и сражения, 1997. 240 с.
- Туз А. Всемирный потоп: Великая война и переустройство мирового порядка, 1916-1931 годы. М.: Институт Гайдара, 2017. 640 с.