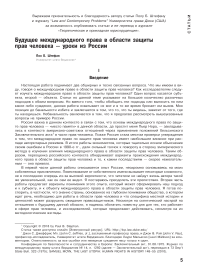Будущее международного права в области защиты прав человека - уроки из России
Автор: Штефан П.Б.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14121155
IDR: 14121155
Текст статьи Будущее международного права в области защиты прав человека - уроки из России
Настоящая работа поднимает два обширных и тесно связанных вопроса. Что мы имеем в виду, говоря о международном праве в области защиты прав человека? Как исследователям следует изучать международное право в области защиты прав человека? Один вопрос касается субъекта, второй — объекта. Статьи по данной теме указывают на большое количество различных подходов к обоим вопросам. Но вместо того, чтобы обобщать эти подходы или выносить по ним какое-либо суждение, данная работа охватывает их все и в то же время бросает им вызов. Моя позиция до банальности избита и заключается в том, что то, что ты видишь, зависит от того, где ты находишься. Небанальность заключается в том, что я предлагаю рассмотреть вышеуказанные вопросы на примере России.
Россия важна в данном контексте в связи с тем, что основы международного права по защите прав человека — «место памяти» в данной области, да простит меня Пьер Нора, — закладывались в контексте американо-советских отношений через применение положений Хельсинского Заключительного акта1 в части прав человека. Позже Россия стала местом проверки утверждения о том, что международное право по защите прав человека имеет наибольшее влияние при распаде авторитарных режимов. В итоге работы экономистов, которые тщательно искали объяснение своим ошибкам в России в 1990-е гг., дали сильный толчок к повороту в сторону эмпирического метода в изучении влияния международного права в области защиты прав человека. Таким образом, переоценка российского контекста обнаруживает варианты происхождения международного права в области защиты прав человека и то, к каким последствиям — скорее нежелательным — оно привело.
В первой части данной работы описывается опыт России, нескромно основываясь на моих собственных приключениях. Повествование от собственного имени вызывает некоторые сложности, не в последнюю очередь из-за высокой вероятности, что читатели не найдут жизнь автора такой же увлекательной, как он сам ее видит. Я постараюсь преодолеть эти препятствия. Вторая часть работы предлагает варианты понимания этого опыта, который может сформировать наш подход и к субъекту, и к объекту международного права в области защиты прав человека. Я готов поспорить, в частности, что знание страны, основанное на глубоком понимании общества, о котором идет речь, необходимо для работы в области прав человека и что специфика местной истории и ценностей может разрушить ожидания правозащитников. Несмотря на скептический настрой по отношению к будущему данной области, я надеюсь обогатить повестку дня для тех, кто работает в сфере прав человека, и исследователей, которые продолжают действовать, несмотря на их методологические взгляды.
1 Copyright © 2018 by Paul B. Stephan.
Статья также доступна онлайн [Электронный ресурс]. URL:
СТАТЬИ
II
Россия: теория и практика применения международного права в области защиты прав человека
Специалисты по международному праву в области защиты прав человека найдут идею остановиться на России странной, если не отталкивающей. Западные правозащитники склонялись к тому, чтобы рассматривать Советский Союз как негативное поле, воплощающее в себе антипод прав человека. В период расцвета данной теории в 1970-е и 1980-е гг. основная часть активистов и ученых постоянно стремилась к тому, чтобы преподнести свои антикоммунистические достижения в качестве условия к развертыванию критики того, что они считали нарушением прав человека на Западе2. С момента распада Советского Союза в 1991 г. они уделяли мало внимания России, считая ее отсталой страной и соперником Турции в борьбе за звание главного источника жалоб в Европейский суд по правам человека. Они считают Россию периферией, а не центром3.
Но Россия всегда была и остается гораздо более интересной, чем она есть по мнению большинства. Идея международного права в области защиты прав человека — как набора обязательств, основанных на международном праве, а не просто выражение ценностей — была забыта в послевоенной борьбе за господство между советским блоком с Россией в центре и так называемым капиталистическим миром. Предполагаемый триумф Запада, в свою очередь, поставил идеологические постулаты под вопрос, в то время как проигравшие борьбу, в первую очередь Россия, стремились внедрить практику защиты прав человека через применение международного права. Большое разочарование западных либералов результатами, особенно в России времен Ельцина, привело к появлению нового метода эмпирической науки, изучающей связь между правовыми институтами и экономическим развитием. Эмпирический метод в науке о защите прав человека не является прямым ответвлением правовой литературы, но у них есть много общего.
-
A. Хельсинки и советско-американское соперничество
Поворотным моментом — а Сэмюэл Мойн убедительно заявляет, что именно это стало поворотным моментом, — в истории международного права по защите прав человека стал Хельсинский Заключительный акт, подписанный летом 1975-го4. Правовой формалист может посчитать это наблюдение странным: по своей сути Заключительный акт был политической декларацией, а не правовым инструментом. Его подписанты просто констатировали «свое намерение действовать в соответствии с положениями, указанными в тексте выше»5. Главная задача Заключительного акта состояла в том, чтобы ратифицировать границы послевоенных европейских государств, в частности расширение Советского Союза на Запад, одобренное на Тегеранской и Ялтинской конференциях, но в последствии порицаемое Западом6. Положения о правах человека, содержащиеся в разделе III, стали условием подписания акта со стороны Запада. Подразумевая, что Заключительный акт был политическим, а не правовым документом, обязательство позволяло западным странам предоставить политический комфорт Советскому Союзу с сохранением его границ, не требуя от этого государства правового признания присоединения балтийских стран или пересмотра границ с Финляндией, Германией, Польшей и Румынией7. Соответственно, политический статус Заключительного акта означал, что он не накладывал никаких правовых обязательств в отношении прав человека на Советский Союз и его сателлиты8.
И все же, как показывает Мойн, этот правовой формализм не стал препятствием для трансформации авторитета и практики в сфере международного права по защите прав человека9. Особенно, но не только, в Центральной и Восточной Европе активисты игнорировали различие между политическими и правовыми обязательствами по развитию новой повестки дня международного права в области прав человека. Администрация Картера, начавшая работать в 1977 г., применила это движение в американской политике и в дальнейшем размыла грань между политическим и правовым. То, что раньше было философским течением, в послевоенном западном либерализме стало международным правовым направлением10.
СТАТЬИ
Мое участие в этих событиях было каплей в море. В 1975 г. я работал специалистом по Советскому Союзу в подразделении по внутренней политике СССР Службы текущей разведки ЦРУ. Эта Служба существовала с момента основания ЦРУ как оплот американского руководства в тщательном изучении внутренних событий в Советском Союзе11. В то время его руководитель и многочисленные аналитики работали в нем с момента создания. В конце весны и начале лета 1975 г. Службу попросили оценить вероятное влияние положений Заключительного акта в части защиты прав человека на внутреннюю политику Советского Союза.
Я не помню детали результатов оценки Заключительного акта со стороны ЦРУ. Как и большинство официальных заявлений, оно формировалось в ходе переговоров между экспертами в различных областях (внутреннее межведомственное взаимодействие, так сказать), которым приходилось сглаживать острые углы и сдерживать серьезные противоречия. Учитывая исключительное положение и, мягко говоря, самоуверенность тогдашнего госсекретаря Генри Киссинджера, можно было засомневаться, сможет ли хоть что-то, исходящее от ЦРУ, иметь влияние на позицию США по отношению к Заключительному акту. Что я помню, так это мнение Службы, выраженное в устной форме в ходе межведомственных переговоров.
Служба, включающая лучших государственных специалистов по советской политике, была настроена крайне скептически по данному вопросу12. Она предсказывала, что навязывание советскому режиму идей, для которых у них нет даже терминов в словаре, приведет к возмущению и отрицательной реакции. Внутренние критики режима — диссиденты — скорее всего, пострадали бы, а не получили власть, поскольку руководство стремилось показать, что появление новой терминологии не означает перемен в соотношении сил. В обязанности Службы не входило рассуждать о том, сработает ли идея с правами человека как клин между Советским Союзом и Центральной и Восточной Европой. Я не помню, предсказывала ли Служба, что режим создал бы свой собственный словарь терминов по теме защиты прав человека, основав институты для взращивания противников международного права по защите прав человека13. Однако Служба ясно выразилась по наиболее важному аспекту: навязывание обязательств по правам человека Советскому Союзу ухудшило бы уровень жизни диссидентов в короткие сроки и в долгосрочной перспективе ни к чему бы не привело.
Не уверен, знал ли я, и сейчас, конечно, не помню, были ли взгляды Службы включены в доклады, подготовленные на высшем уровне бюрократии, и в итоге донесены до «клиентов» Управления, а именно руководства страны. Можно опустить этот эпизод как пример присущего экспертам консерватизма. Люди, которые много вложили в освоение сложной системы, не любят наблюдать обесценивание их капитала. И все же главная сущность позиции Службы заслуживает рассмотрения. Специалисты считали, что советскому обществу в целом не хватало понимания прав человека в тех формах, которые были предложены Западом. Те несколько человек в обществе, которые воспринимали эти идеи, были радикальными исключениями, аутсайдерами, которые
СТАТЬИ
работали за пределами границ приемлемых публичных обсуждений14. Насколько это понимали эксперты, советское государственное устройство не подавило стремление к западным свободам, свойственное советскому народу. Скорее, оно преуспело в том, что эти свободы перестали быть понятны большинству населения.
Благодаря Хельсинки, идея международного права по защите прав человека, как только она появилась в Советском Союзе, разделилась на два течения. В первом участвовал официальный государственный сектор. В нем идея работала как пустой сосуд, в который «одобренные умы» вливали то содержание, которое сохраняло статус-кво. Личная свобода, согласно «одобренным умам», означала принадлежность к обществу, которое реализует экономическую справедливость в виде полной занятости, гарантированного жилья, здравоохранения и образования, подавления экономического неравенства и подавления социальных отношений, ведущих к эксплуатации. Соответственно, выступления или политические действия, которые мешали выполнению этих задач одобренной технической элиты (отобранной правящей партией), представляли посягательство на права человека.
Второе течение включало всех остальных в Советском Союзе. Для этой небольшой и опальной группы, которую можно было назвать гражданским обществом, права человека представляли из себя то, чем существующая советская реальность не являлась. Для большинства людей без иллюзий официальный и неофициальный секторы были за пределами понимания. Молчаливое большинство российских граждан не обладало возможностями отличить международные права человека от западных идей, таких как марксизм-ленинизм, обещающих так много и дающих так мало. Истощенное и отчужденное российское общество в целом не предлагало твердой почвы для новых идеалов, берущих начало в западных рационалистских традициях.
-
B. Международное право в области прав человека и развал советской системы
Перемотаем время на пятнадцать лет вперед. Международное право в области прав человека приобрело актуальность. В юридическом научном сообществе возникло популярное направление деятельности, обеспечиваемое клиниками, кафедрами и некоммерческими организациями, занимающимися пропагандой, лоббированием и судебными тяжбами. Особенно в Центральной и Восточной Европе, да и не только там, идея прав человека стала узлом противостояния советскому господству. В Западном полушарии устоявшаяся традиция в области прав человека выступила в роли канала для подготовки капитуляции авторитарных, преимущественно милитаристских режимов и восстановления демократических, но не обязательно либеральных, государств. Права человека стали частью лексики оппозиции в борьбе с режимом апартеида в Южной Африке, который начал распадаться параллельно с событиями в Советском Союзе.
Разговоры о правах человека неожиданно возникли в советский переходный период, который можно произвольно отнести ко времени начиная с 1986 г., когда перестройка была принята в качестве официальной политики, и до конца 1991 г., когда Советский Союз распался15. Основная тема дискуссий, однако, существенно отличалась от той, которую обсуждали на Западе. Господствующий класс реформаторов (Горбачев и его сторонники) выносил на обсуждение не особенности понятий о правах человека, закрепленные в Заключительном Хельсинском акте, а идеи о правовом государстве и общечеловеческих ценностях. Хотя некоторые западные обыватели ошибочно приняли вышеупомянутую концепцию правового государства за англо-американскую концепцию «верховенства права», правящий класс реформаторов имел в виду немецкое «правовое государство» (Rechtsstaat), что подразумевает приверженность прозрачности и стабильности, а вовсе не свободе личности16. Что касается «универсальных ценностей», то апеллирование к этим ценностям, а не к правам, ведет к отделению реформы от международно-правового обязательства. Для радикальных реформаторов, многие из которых были связаны с Борисом Ельциным и его командой, находящих у власти Российской Федерации с середины 1990-х гг., права человека вновь стали средством отличия их чаяний от существующего положения дел, но в большинстве случаев не имели конкретного программного содержания. Что объединяло радикалов с Ельциным, так это общее желание покончить с Советским Союзом, и эта цель была достигнута гораздо раньше, чем ожидалось.
СТАТЬИ
Две доверительные беседы с ведущими в то время российскими юристами проливают свет на исключительную роль международного права в области прав человека в этих событиях. Первая беседа касалась высказываний Комитета по конституционному надзору СССР — первого шага в сторону создания Конституционного суда17. Некоторые из первоначальных дел Комитета касались вопросов, относящихся к сфере международного права в области прав человека. Одно из них затрагивало право на возможность обратиться в суд для пересмотра дел, связанных с увольнением с работы, другое — о распределении бремени доказывания в уголовных делах, а третье — об опубликовании секретных декретов, регулирующих права и обязанности личности18. В каждом случае Комитет главным образом опирался на международные договоры в качестве основы для признания недействительными положений внутреннего законодательства по вопросам, о которых шла речь, хотя он также ссылался на внутренние конституционные положения в дополнение к международным нормам.
В начале 1991 г. я встретился в Москве с председателем Комитета Сергеем Сергеевичем Алексеевым. Я спросил его, основывается ли Комитет при принятии решения на международные договоры по правам человека как на средство признания недействительным внутреннего законодательства, когда формальные положения Конституции СССР могли бы послужить достаточной основой для принятия таких решений. Один на один он был обезоруживающе откровенен. «Мы не можем полагаться на наше внутреннее законодательство, — объяснил он, — потому что оно не имеет легитимности в нашем обществе. Только международное право дает нам надежду, что люди будут уважать наши решения»19. Он, по-видимому, считал, что функция судебного надзора, в соответствии с которой эксперты аннулируют акты законодательной власти, требует наличия источников легитимности, находящихся за рубежом. По крайней мере, на этом критическом этапе нормы не были имплементированы из международного права, а скорее идеи интернационализма наделили специалистов полномочиями принимать решения, которые в ином случае были бы им недоступны.
Встреча со вторым собеседником произошла год спустя, после того как Российская Федерация вышла из состава Советского Союза. На коктейльной вечеринке я побеседовал с Вадимом Константиновичем Собакиным, с которым познакомился, когда он занимал руководящие должности в аппарате ЦК и был членом Комитета по конституционному надзору. В 1992 г. он перешел в штат нового Конституционного суда Российской Федерации. Это было на пороге годовщины немецкого вторжения 1941 г., возможно, самой большой раны Советского Союза. Поскольку он был ветераном того конфликта, я спросил его, когда было хуже, тогда или сейчас. Он сразу же ответил, что сейчас стало еще хуже. «Тогда у нас был враг»20.
СТАТЬИ
Как я понял, Собакин имел в виду, что кризис, который настиг, а потом и разрушил Советский Союз, вызвал глубокую обеспокоенность именно потому, что не было внешнего актора, который мог бы помочь освободить россиян от ответственности за их нынешнюю неразбериху и беспорядок. Собакин считал, что другим странам бывшего блока было легче, потому что они могли обвинить русских в своих бедах. Но русские должны были смотреть на себя, чтобы понять, как они упали, а это гораздо более сложная задача.
Я считаю эти истории подлинными, хотя, конечно, и не совсем полными. Оба этих человека как ведущие юристы сумели найти себе значимые роли в режиме Ельцина, но сделали свою карьеру они при советской власти. То, что раскрывают эти встречи, является частью истории международного права в области прав человека и восстановления сверхдержавы. Эти люди выражали понимание международного права в области прав человека через призму собственного восприятия. Для Алексеева содержание международного права имеет значение не столько потому, что оно не является внутренним правом, а потому, что не связано с дискредитирующим и разочаровывающим статус-кво. Для Собакина (и, возможно, это притянуто за уши) это служило якорем для противостояния противнику. Поскольку российская трагедия носила внутренний характер, международное право в области прав человека не только не помогло выстроить понимание ситуации, но и наметить пути выхода.
В юридическом сообществе были и другие голоса, в том числе те, которые старались говорить в унисон с Западом. Таким людям тут же поступали приглашения приехать и опубликовать свои работы на Западе. В частности, советским специалистам, которым посчастливилось быть обладателями прибалтийского удостоверения личности, удалось эмигрировать, а затем и преуспеть в сообществах, которые были более тесно связаны с Западом, в том числе в области представлений о правах человека. В России, однако, направления обсуждения прав человека, которые казались столь разумными в самой Европе, оставались в значительной степени периферийными как в политическом, так и интеллектуальном плане21.
«Могильщики» советского государства не полностью игнорировали концепцию прав человека. В период между неудавшимся августовским переворотом 1991 г., уничтожившим Горбачева как политическую силу, и формальным захватом Российской Федерацией основных ветвей советской власти в декабре российское законодательство приняло «Декларацию прав и свобод личности и гражданина»22. Эта декларация в значительной степени опиралась на международное право и, в частности, гласила, что «общепризнанные международные нормы в области прав человека» имеют приоритет перед содержанием внутреннего законодательства23. Конституция 1993 г. наделила полномочиями Уполномоченного по правам человека выполнять функции омбудсмена по обеспечению соблюдения Декларации24. В 1998 г. произошло присоединение к Европейской конвенции по правам человека. Но ни одна из этих мер не могла быть связана с конкретными шагами, предпринимаемыми российским государством или против него для изменения конкретных аспектов общественной жизни. Они скорее служили прикрытием для России, декларировали и подтверждали разрыв с прошлым, а не устанавливали программу социальных или политических перемен25.
Для человека, занимавшегося историей России, заигрывание с международным правом в области прав человека в 1990-х гг. кажется еще одним примером сохраняющейся напряженности в русской культуре, которая пытается найти баланс между восхищением Западом и стремлением принадлежать ему, попыткой сохранить собственную уникальную национальную идентичность, уходящую корнями в Византию, и периодическими победами над иностранными захватчиками, будь то монголы, литовцы, поляки, французы или немцы. Демонстрация признания международного права в области прав человека была шагом навстречу европеизированию. Однако ко второй половине 1990-х гг. влиятельные российские специалисты в области международных отношений по-новому изложили международные права человека, как пример враждебного отношения Запада к идеалам России. Для этих критиков международное право в области прав человека было просто еще одним средством, которым властвовал Запад, чтобы мешать России строить свою уникальную историческую судьбу26.
СТАТЬИ
-
C. Ошибки шоковой терапии и эмпирических исследований в области правовых институтов
Современные славянофилы вновь заняли видное место в 1990-е гг., во многом благодаря тому, что поддерживаемая Западом реструктуризация российской экономической системы стала в общественном сознании, по меньшей мере, катастрофой. Так называемый «Вашингтонский консенсус», в то время просто свод общепризнанных представлений, но сегодня считающийся неолиберальным заблуждением, предписывал быструю приватизацию в качестве предварительного условия для создания рынков27. Будучи контрактным консультантом Министерства финансов США, ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, я провел эти годы, сталкиваясь с западными специалистами (экономистами, бухгалтерами и юристами), которые реализовывали программу шоковой терапии, ликвидацию экономических институтов советской эпохи в преддверии создания государственных и частных институтов, необходимых для функционирования либеральной экономической системы. Многие из этих деятелей, по-видимому, полагали, что эти учреждения возникнут сами по себе, как если бы частная собственность и свободные рынки представляли собой состояние природы, а не конкретный культурно-исторический артефакт.
C тех пор большинство россиян начали воспринимать 1990-е гг. как «смутное время», термин c глубоким историческим резонансом28. Это понятие относится, в частности, к развалу Московского государства в начале семнадцатого столетия и оккупации его территории Литовско-Польским королевством. Тот факт, что россияне сравнивали социальный и экономический крах и вездесущее присутствие Запада в 1990-х с историческим периодом крайнего упадка и национального унижения, указывает на то, как плохо шли реформы. Продолжительность жизни упала до угрожающих уровней, и социальное неравенство быстро увеличивалось. Многие россияне воспринимали маловероятное переизбрание Ельцина в качестве президента в 1996 г. скорее как свидетельство коррупции электорального процесса, в какой-то степени финансируемого Западом, чем как легитимное изъявление народной воли. Гражданская война в Чечне с последовавшими террористическими актами в Москве и других крупных городах повысила градус страдания и тревоги.
Одним из главных архитекторов программы шоковой терапии был Андрей Шлейфер, восходящая звезда Гарвардского экономического факультета. Шлейфер работал в России при посредничестве Гарвардского института международного развития (HIID) и получал финансирование от Агентства США по международному развитию (US AID), впоследствии независимое агентство при правительстве США. К 1997 г. Шлейферу должно было быть ясно, что с проектом шоковой терапии что-то не так, когда Агентство США по международному развитию прекратило финансирование программы Гарвардского института международного развития в России, якобы из-за
СТАТЬИ
неправомерных действий самого Шлейфера и его основного помощника Джонатана Хэйя29. В 1998 г. Шлейфер опубликовал первую из своих новаторских статей по теории происхождения права, эконометрическому анализу влияния правовых институтов на экономическое развитие30. Эти статьи трансформировали изучение бихевиористских последствий права. Как Самюэл Мойн указывает в своей статье, литература по теории происхождения права очерчивает, хоть и не указывает прямо, количественный анализ международных прав человека, который появился в начале этого столетия и который рассматривают несколько статей из этого сборника31.
Я могу только строить предположения о том, что привело к этому сдвигу в исследовании Шлейфера. Однако, вполне вероятно, что главная предпосылка шоковой терапии — то, что правовые структуры, необходимые для функционирования либерального общества, появляются спонтанно, как ответ на приватизацию государственных активов, — была далеко не полной и этот недостаток стал ему очевиден. Я представляю себе, что он вынес из российского опыта: признание, что наличие институтов не может «предполагаться», а наоборот, их наличие, а уж тем более создание, должно основываться на определенных условиях, для понимания которых требуется тщательное эмпирическое исследование. Иными словами, я верю, хотя и не могу доказать, что Россия дала импульс интеллектуальному исследованию, которое проложило путь к количественному анализу международного права в области прав человека, а также к появлению «места памяти» (lieu de memoire) для самой области.
После 1990-х гг. Россия получила если не Термидор, то, по крайней мере, реставрацию. Владимир Путин как президент и, в промежутках, премьер-министр возник как сильный лидер на месте изнуренного, отжившего свой век Ельцина. Резкий рост цен на нефть вместе с брутальным, но окончательным решением чеченского конфликта и политической стабильностью, которая основывалась на рецентрализации власти в Кремле, привели Путина к новым высотам национальной популярности32. Не отрекаясь в явно выраженной форме от международных прав человека, российское государство по нарастающей дистанцировалось от этого понятия. Решающий момент наступил, когда Международный Европейский суд по правам человека определил, что национализация Россией «Юкоса», самой масштабной энергетической компании страны, нарушила Европейскую Конвенцию33. В ответ на самое масштабное постановление Европейского суда в истории в защиту жертв нарушения прав человека Российская Федерация наделила полномочиями Конституционный суд пересмотреть это решение на предмет соответствия Конституции. Конституционный суд покорно постановил, что Россия конституционно ограждена от признания решения Европейского суда в данном случае34. Без денонсирования Конвенции Россия фактически отказалась от своих обязательств по ней35.
III
СТАТЬИ
Международное право в области защиты прав человека в свете российского опыта
Этот рассказ о столкновении России с международными правами человека служит четырем целям. Во-первых, он иллюстрирует важность анализа конкретных примеров, которые базируются на глубоком знании местной специфики. Во-вторых, он подтверждает, что характеристики международного права в области защиты прав человека являются одновременно зависимыми географически и темпорально. В-третьих, и в связке со второй целью, он указывает на пути, как можно использовать международное право в области защиты прав человека опосредованно для достижения отличных от защиты человеческого достоинства целей. В-четвертых, он предполагает наличие некоторых трудностей, связанных с количественным анализом национальной практики, касаемо законодательства по международным правам человека.
-
А. Важность знания местной специфики
Одним из побочных эффектов окончания холодной войны была неожиданная непопулярность регионоведения как академического подхода к международным отношениям. Это была неполная потеря: региональные эксперты страдали от обособленности и слишком часто противились прокладывать связи между своим знанием и более широкими социальными проблемами. Но лучшие знатоки в области регионоведения могли бы произвести связку исторического, культурного и политического знания с внутренними наблюдениями — то, что другие методологии предложить не могут. Возможна ситуация, когда контекстуального знания слишком много. Но использование метода ответного действия как средства осмысления отдельных наблюдений дает нам нечто, что высокая теория и количественный анализ предложить не могут.
Я не имею в виду, что следует относиться с пренебрежением к теории или к эмпирической работе. Научное знание без теории — это журналистика, бездумный и некритический взгляд которой не привлекает ни других ученых, ни мир в целом. Эмпирическая работа делает возможным бросить вызов теории и пересмотреть ее. Меня беспокоит то, что поворот против регионоведче-ских исследований в начале 1990-х гг. в Соединенных Штатах, если не во всем научном сообществе, заставил отказаться от основного элемента эмпирической работы и исключил очень важный теоретический аспект — местные особенности.
В своем лучшем проявлении глубокое знание местной специфики дополняет и расширяет то, что мы можем получить из теории и количественного анализа. Это привносит аутентичность и предоставляет дополнительные возможности для фальсификации теоретических утверждений. Такое знание также может служить направляющим принципом количественных исследований, как я это сформулирую ниже. Глубокое знание местной специфики в итоге является важным и, наверное, незаменимым способом изучения значимых социальных феноменов, включая социальные эффекты законодательства по международному праву в области защиты прав человека.
-
B. Особые аспекты международного права в области защиты прав человека
Российская история служит другой цели. Она представляет собой доказательство, разрушающее самые напыщенные постулаты международного законодательства по правам человека. Она указывает на то, что международное право в области защиты прав человека это не общепринятый консенсус о фундаментальных принципах благополучных обществ. Скорее, по крайней мере в случае России, то, что складывается в корзину международных прав человека, зависит в большей степени от места и времени.
Это открытие дает возможности для дальнейшего обращения к местному знанию. Как насчет Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Японии, Индонезии и Малайзии (если рассматривать только большие страны вне традиционного Запада)? Как тонок этот клубок слов, охватывающий регулирование прав человека, и насколько полны местные интерпретации и негласное понимание этих слов? Что меняется со временем и в какую сторону? Является ли понятие международного права в области защиты прав человека универсальной нормой — широко понимаемой, хотя и не обязательно широко соблюдаемой, — вводящей в заблуждение, а возможно, даже мистификацией?
Как человек, который провел слишком много времени в России, как физически, так и интеллектуально я без труда понял идею международного права, возможно, часто и в значительной степени представляющую собой скорее локальные убеждения, чем универсальные нормы. Задолго до появления правозащитного движения 1970-х гг. специалисты из СССР и США продвигали
СТАТЬИ
фундаментально отличное видение того, что представляет собой международное право и какие результаты ожидаются от существования международных правовых обязательств36. Развал Советского Союза привел к ситуации, когда некоторые триумфаторы начали заявлять о возникновении новой эры универсальных либеральных ценностей, главным образом зафиксированных в международном праве. Четверть века спустя, похоже, что либеральный интернационализм был проходящим импульсом, более не являющимся доминантным даже в западных столицах (прежде всего в Вашингтоне), где он зародился.
Являясь отражением этих изменений, появилось новое поле исследований: сравнительное международное право, изучающее основания варьирования в утверждениях о международном праве среди государств и регионов. Исследование обнаружило как наличие системных различий в заявлениях, так и разительный контраст в культуре и подготовке юристов-международников37. Остается еще много работы, но становится ясно, что и структура стимулов, подобная тем, которые изучаются исследователями международного права с позиции рационализма, и культурные структуры, исследуемые конструктивистами, имеют прямое отношение к тому, что принимается за постулаты международного права в разных частях мира.
Этот всеобщий феномен имеет особое значение для международного права в области защиты прав человека. Многое из нормативной базы этого свода норм основывается на ее стремлении к универсальности. Похоже, что утверждение о том, что данные права происходят прежде всего из естественного права или глубоких моральных обязательств, лишено содержания, если то, что мы наблюдаем в мире, это не просто рассеивание юридических прав, а наличие системных различий в их применении государствами, а также различие в представлениях об этих институтах. Российская история вписывается в более широкий нарратив, который развенчивает универсальность как претенциозную и, возможно, доминирующую концепцию.
Я утверждаю, что поборники международного права в области защиты прав человека не должны быть обескуражены этой новостью38. Расхождения в содержании и концептуализации этой нормативно-правовой базы указывают на ее важность, а не на бесполезность. Если бы международное право в области защиты прав человека не имело влияния, то государствам не составило бы труда его объединить. Также не было бы необходимости адаптировать его к местным условиям. То, что адаптация происходит, наводит на мысль, что государства серьезно подходят к закону39.
Однако данный аргумент является скорее логически, чем эмпирически обоснованным. Возможно, что государства даже при адаптации этих обязательств также их обходят или игнорируют. Результаты сравнительного международного права, к которым российская история добавляет восклицательный знак, подчеркивают важность изучения вопроса, как международное право в области защиты прав человека проявляется в разных обществах.
-
С. Инструментальное использование международного права в области защиты прав человека
Российская история предполагает наличие иного взгляда на защиту международных прав человека. В период между 1990 и 1993 гг. развернулась ожесточенная политическая борьба за контроль над государством и его ресурсами. Первый этап включал борьбу между теми, кто обладал властью под эгидой СССР (под руководством Горбачева), и теми, кто ассоциировал себя с реконструкцией РСФСР (под руководством Ельцина). Это соперничество закончилось в декабре 1991 г. договоренностью, согласно которой Ельцин отказался от претензий на нероссийские части СССР в обмен на договор с десятью другими республиками советского государства покинуть Союз и таким образом отказаться от своих притязаний к России (четыре другие республики уже объявили свою независимость). Второй этап вписывается в долгую традицию истории России, так как преобладающая в России группа вела внутреннюю борьбу за сюзеренитет над тем, что осталось от СССР. Конфликт достиг апогея в октябре 1993 г., когда президентская администрация совер-
- шила вооруженное нападение на парламент, окончившееся сотнями жертв и политической (но не физической) ликвидацией оппонентов Ельцина40.
СТАТЬИ
Международное право в области защиты прав человека не играло большой роли в этих баталиях, но оно проявило себя на периферии складывающихся отношений. Как уже было замечено ранее, на первом этапе Комитет Конституционального надзора СССР — с одной стороны, а Российское законодательство — с другой продемонстрировали свою лояльность идее международного права в области защиты прав человека. Эти сигналы были скорее концептуальными, чем прагматическими. Они отражали интуитивное понимание того, что охват «иного», хоть и не понятого в полной мере и трудного в применении, сработает лучше в целях увеличения привлекательности определенных программных реформ, чем использование нелегитимной национальной практики. Встал вопрос, какая сторона могла более правдоподобно заявить о своем разрыве с прошлым и готовности повиноваться верховенству международного права в области защиты прав человека, что послужило бы индикатором разрыва.
Второй этап борьбы поставил эти утверждения в новый более мрачный контекст. Одной сферой конфликта между Ельциным и его оппонентами был принцип верховенства права — идея, пересекающаяся с применением прав человека. Советское наследие относилось к самоуправным командным системам, в которых правовое обоснование служило украшением для самоутверждения власти. Новый режим обещал, что будет придерживаться западного понятия о законе, основанного на законности деятельности государственных органов. Проблема, однако, состояла в том, что сохранившаяся Российская Конституция, хотя и с многочисленными поправками начиная с 1990 г., все еще подчиняла президентскую власть парламентскому контролю. Конституционный суд, который предполагал воплощение этого нового подхода к законности, неоднократно занимал сторону парламента в оппозицию президентскому захвату власти. В ответ на это Ельцин распустил Суд, а также отправил танки к зданию парламента. Он позволил Суду открыться только в 1995 г., с новым составом и теперь управляемым в ручном режиме. Прошло двадцать два года, а Суд так серьезно и не ограничивает инициативы, которые исполнительная власть обозначила как важные41.
Возможно, нечего добавить об этом эпизоде, кроме того, что внедрение международного права в области защиты прав человека в России в начале 1990-х было искренним, но не полным. Тем не менее форма внедрения имеет вид приманки, конъюнктурного применения абстрактных зарубежных идеалов в целях сглаживания процесса изменения режима. Хотя это всего лишь исходные данные, они согласуются с ложной гипотезой о международном праве в области защиты прав человека, а именно, что государства могут взять на себя обязательства по международным правам человека, чтобы уклониться от пристального внешнего наблюдения за их авторитарным строем42.
Это увеличивает вероятность того, что международное право в области защиты прав человека в определенных случаях может иметь обратный эффект и что государственные деятели могут использовать его для достижения собственных целей. Целью исследователя становится соединение неверного направления с планируемым эффектом. Установление интенциональности может быть сложной задачей, даже если она сопровождается основательным описанием. Количественный анализ тоже представляет трудность, принимая во внимание значительный разрыв между корреляцией и причинной зависимостью. Работы, которые фокусируются на обсуждении исключения поведенческого фактора, сталкиваются с наиболее серьезными вызовами43.
СТАТЬИ
Возможно, стоило было бы пренебречь данной российской историей как отклонением. Государства, действующие недобросовестно, встречаются редко и могут не представлять интереса для исследования. Возможно, внимание на таких событиях фокусируется слишком часто, делая отдачу от исследования слишком незначительной в свете вреда, который изложение фактов о недобросовестности причиняет исследованию в целом. Тем не менее эта нерешенная проблема продолжает вызывать беспокойство, особенно если принимать во внимание, что провозглашение традиционных прав человека служит в основном для отвлечения от более фундаментальных вопросов социальной и экономической справедливости.
-
D. Вызовы для специалистов по количественному анализу
Как и любая другая методология, эмпирическая работа может иметь свои недостатки. Практикующие ее специалисты могут влюбиться в большие объемы данных и потерять цель их детального исследования. Они могут позволить упрощающему жизнь кодированию предопределять повестку исследований, таким образом оставляя в стороне важные, но трудные для измерения явления. Они могут сосредоточиться на нерелевантных результатах только потому, что их можно получить. При этом количественные инструменты, используемые осмысленно, могут открыть секреты и перевернуть наше представление об общественной жизни.
Аргументы в защиту количественного анализа делятся на две категории. Во-первых, это вопрос, что с чем сравнивается. Неколичественный анализ имеет свои трудности. Наука по своей сути это способ общения, беседы, а беседа о беседе кажется мне неудовлетворительно замкнутой. Это то, что делают ученые, когда пишут друг о друге. Война, страдания и бесправие заслуживают большего44. Ведение военных действий и деградация, а не то, как мы говорим о них, заслуживают нашего внимания45.
Во-вторых, количественная эмпирическая работа в ее лучшем проявлении — это демократический и эгалитарный способ, каким разговор науки не является. Несомненно, возможна некоторая пристрастность ученого к тому, что исследуется и как он определяет свое наблюдение. Но как только ученым разработана структура подхода, другие ученые могут протестировать возможность его тиражирования46. Есть нечто удовлетворяющее в навязывании этой дисциплины даже самым известным и уважаемым ученым.
Как и участие граждан в политических процессах, эмпирическая работа тоже может быть общедоступной. Научные дискуссии неизбежно способствуют грамотному изложению и фиксации; наблюдения, наоборот, могут фокусироваться на будничном, но значительном. Нет сомнения в том, что количественная эмпирическая работа может скрываться за уравнениями и цифрами, как за способом, отпугивающим критические ответы. Какие вводные — таков и результат: это обычный риск. Но если работать внимательно и с воображением, возможно выявить проблемы, требующие решения, которые выпадают из научной дискуссии именно потому, что они не озвучены.
Таким образом, российская история остается предостережением для тех, кто стремится применить количественный анализ к закону, а особенно к международному праву в области защиты прав человека. Как кодируются глубокие расхождения между официальными обязательствами (конституционные обязательства относительно международного права в области защиты прав человека, как источника юридически осуществимых норм высшего порядка) и структурой инсти- туционального внедрения (карманные судебные органы, включая Конституциональный суд)? Считается ли сопротивление западному пониманию норм прав человека нарушением или, наоборот, раскрывает сложность и неопределенность международного режима?47 Является ли Россия страной, пренебрежительно относящейся к законам, или же основоположником норм в сфере прав человека?
СТАТЬИ
Эти вопросы предполагают, по крайней мере, два типа вызовов для количественного эмпирического анализа. Прежде всего, кодирование проблем, которые возникают, когда официальные лица принимают позицию потемкинской деревни по отношению к юридическим обязательствам. Проницательные наблюдатели способны подменить действия (то, что скрывается за фасадом) пустой болтовней (фасад), но понимание, когда и как это делать, требует значительного знания местной специфики. Во-вторых, и это еще большая проблема, есть вероятность того, что местные условия полностью доминируют над конечными результатами исследования страны, что делает сравнительный анализ нерелевантным. Местная специфика может привести нас к выводу, что наблюдения, произведенные в определенное время и в определенном месте, дают резко отклоняющиеся значения, не являющиеся заслуживающими доверия.
Ни один из этих аргументов не должен рассматриваться как отрицающий количественное эмпирическое исследование как таковое. Утверждение, что выполнить подобного рода исследование может быть сложно, не означает, что оно не должно быть проведено. В конце концов, много хорошего может получиться из хорошо продуманного сбора массивов данных, если потом обратиться к ним с толковыми вопросами. Все зависит от того, что мы имеем в виду под хорошо продуманным и толковым.
Напрашивается следующий вывод. В указанном сборнике статей есть мысль, наиболее четко высказанная Самюэлем Мойном: что количественная эмпирическая работа может отвлечь исследователя от того, что действительно является важным вопросом48. Удовлетворение, полученное от наглядного исследования мира, как мы его видим, может подменить мысли о том, как должно выглядеть хорошее общество. Мы должны предельно четко понимать предпосылки и основы справедливости, прежде чем посчитаем, что применение юридических инструментов делает этот мир лучше. Изучение этих эффектов при отсутствии вдохновляющего видения добра превращается в трату ценной интеллектуальной энергии.
Я рассматриваю точку зрения Мойна, скорее, как касающуюся больше политической экономии в научном сообществе богатых стран, чем как категориальное утверждение о поиске знания как такового. Те, кто рассуждают о справедливости, и те, кто скрупулезно подсчитывают результаты, соревнуются за скудные академические ресурсы. Академические бюрократы могут быть обмануты ложным сравнением количественных эмпирических работ по социологии с более престижными достижениями точных дисциплин. Эти бюрократы также могут оказать сопротивление поддержке действительно трудновыполнимых исследований по фундаментальным основам справедливости, так как такая работа поднимает неудобные вопросы о статус-кво, которые авторитетные академики предпочитают игнорировать.
У меня нет сомнений, что это так. Но мне интересно, до какой степени научные сообщества богатых стран мира являются местом для поиска революционных мировоззрений и убедительных политических взглядов. Для тех из нас, кто работает в российской традиции и изучает изменения общественных отношений и создание нового типа политики, которые там произошли, вклад университетских преподавателей действительно кажется скудным49. Герцен, Энгельс, Бакунин и Кропоткин, а также Плеханов, Засулич, Мартов, Троцкий и Ленин, которые занимались журналистикой и публиковали статьи и книги, насколько мне известно, никогда не занимали академических должностей. Они были представителями интеллигенции, но не учеными.
Конечно, очень может быть, что это замечание демонстрирует бедность представлений о научной среде. Какой бы ни была роль научного сообщества в конце девятнадцатого века на Западе, современные университеты служат стержнем информационной экономики. Именно из-за важности роли академических кругов в служении статус-кво научное сообщество обладает потенциалом бросить вызов и даже трансформировать основанное на знании глобальное общество. Впрочем, вопросы остаются.
СТАТЬИ
IV
Заключение
Что касается вопроса, каким образом научное сообщество должно продолжить изучать международное право в области защиты прав человека, я агностик. Возможно, будущее международного права в области защиты прав человека лежит в открытии нового видения справедливости и глобального человеческого порядка, в преодолении дискуссии о дискуссиях и скрупулезных подсчетов, а также в побуждении к конкретным действиям во многих областях. Возможно, научные работники возьмут на себя лидирующую или, по крайней мере, вспомогательную роль в этом. Я придерживаюсь мнения, что знание местной специфики будет незаменимо для подобных исследований. Под этим я не имею в виду, что без этой информации нельзя обойтись, а скорее, что без сравнительного, всеобъемлющего и расширяющегося знания местной специфики эти начинания вряд ли ждет успех.
Список литературы Будущее международного права в области защиты прав человека - уроки из России
- Allen C. Lynch. Vladimir Putin and Russian Statecraft (2011).
- Allen C. Lynch. How Russia Is not Ruled. Reflections on Russian Political Development (2005).
- Anthea Roberts, Paul B. Stephan, Pierre-Hugues Verdier & Mila Versteeg. Exploring Comparative International Law, 109 Am. J. Int'l L. 467 (2015).
- Anthea Roberts. Is International Law International? (2017).
- Barbara A. Spellman. Science in Spite of Itself, 544 Nature 414 (2017).