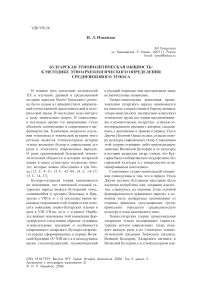Булгарская этнополитическая общность: к методике этноархеологического определения средневекового этноса
Автор: Измайлов И.Л.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и история науки
Статья в выпуске: 3-2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736794
IDR: 14736794 | УДК: 930.26
Текст статьи Булгарская этнополитическая общность: к методике этноархеологического определения средневекового этноса
В течение трех последних десятилетий XX в. изучение древней и средневековой истории народов Волго-Уральского региона было одним из приоритетных направлений отечественной археологической и исторической науки. В последние годы интерес к нему значительно возрос. К сожалению, в последнее время это направление стало объектом политизации и современного мифотворчества. Ключевым вопросом изучения этногенеза и этнической истории этого региона является этнокультурная история этноса волжских булгар и определение его роли в этногенезе современных народов. О роли средневековой булгарской этнополитической общности в истории татарской нации в науке существует несколько гипотез, которые можно объединить в три блока [12. С. 8–11; 13. С. 42–44; 14. С. 14–17; 15. С. 14–17].
Булгаро-татарская теория основывается на положении, что этнической основой татарского народа являлся булгарский этнос, сложившийся в среднем Поволжье и Приуралье с VIII в. н. э. (в последнее время некоторые сторонники этой теории стали относить появление тюрко-булгарских племен в крае к VIII–VII вв. до н. э. и ранее). Наиболее важные положения этой концепции формулируются следующим образом: основные этнокультурные традиции и особенности современного татарского (булгаро-татарского) народа сформировались в период Волжской Булгарии (X–XIII вв.), а в последующее время (золотоордынский, казанскоханский и русский периоды) они претерпевали лишь незначительные изменения.
Татаро-монгольская концепция происхождения татарского народа основывается на гипотезе о переселении в Европу кочевых татаро-монгольских (центрально-азиатских) этнических групп (по одним предположениям, в домонгольское, по другим – в начале золотоордынского времени), которые, смешавшись с кыпчаками и приняв в период Улуса Джучи (Золотой Орды) ислам, создали основу культуры современных татар. Сторонники этой теории отрицают либо приуменьшают значение Волжской Булгарии и ее культуры в истории казанских татар, считая, что Булгария была слаборазвитым государством, без городской культуры и с поверхностно исламизированным населением.
Сторонники татаро-монгольской концепции единодушны в том, что в период Улуса Джучи местное булгарское население было частично истреблено или, сохранив язычество, сдвинулось на окраины (став основой формирующегося чувашского народа), а основная часть подверглась ассимиляции со стороны пришлых мусульманских групп, принесших городскую среднеазиатскую культуру и язык кыпчакского типа.
Тюрко-татарская теория происхождения татарского этноса подчеркивает тюрко-татарские истоки современных татар, отмечает важную роль в их этногенезе этнополитической традиции Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата и Волжской Булгарии, а в этнокультурном пла-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3:
Археология и этнография (приложение 2) © И. Л. Измайлов, 2006
не – тюрко-огурских, кыпчакско-кимакских и татаро-монгольских этнических групп степей Евразии. Основным элементом в процессах этногенеза и этнической истории ее сторонники считают факторы становления и развития самосознания (выражающегося в этнониме, исторических представлениях и традициях), религии, государственности, письменной культуры и системы образования, указывая на более широкие этнокультурные корни общности татарской нации, чем Урало-Поволжье.
В качестве ключевого момента этнической истории татарского этноса данная теория рассматривает период Улуса Джучи (Золотой Орды), когда на основе пришлых монголо-татарских и предшествующих булгарской и кыпчакской традиций возникли новая государственность, культура, литературный язык. В Улусе Джучи, в первую очередь в среде мусульманизировавшейся военно-чиновной знати, возникли новые исторические традиции и татарское этнополитическое самосознание. После распада Улуса Джучи (Золотой Орды) на несколько независимых государств произошло разделение татарского этноса, группы которого начали развиваться самостоятельно. Большое значение в этот период, и особенно после русского завоевания татарских ханств, стало играть религиозное (мусульманское) самосознание.
Все эти теории, рассматривающие этногенез татарского народа, роль и место в этом процессе булгар, дают только наиболее общую картину деления историографии. Внутри каждого направления существуют расхождения и дискуссии по различным проблемам и отдельным вопросам. Но среди сторонников различных концепций есть такие, чьи точки зрения, при всей несхожести деталей, довольно близки. Действительно, именно метод изучения этнологической информации, способы и методы ее извлечения из исторических, археологических и палеоэт-нологических источников, ее интерпретация являются ключевым в реконструкции этнической истории и создании модели этнических связей реально существовавшего в средневековье этноса, определяя и направление научного поиска, и характер полученных результатов. Детерминируются же все эти важнейшие методико-методологические подходы той системой взглядов (или парадигмой), которой вольно или невольно, осознанно или неосознанно руководствовался в своей работе исследователь. Между тем и «булга-ристы» («булгаро-татаристы»), которые считают, что материальная и духовная культура булгар домонгольского, золотоордынского и казанскоханского периодов обнаруживает преемственность между собой, тогда как никакой культуры «тюркоязычных татар» выявить не удалось, и «татаристы» («тата-ро-монголисты»), предпочитающие указывать на преемственность татарского языка от кыпчакского и на этноним «татар», свидетельствующий, по их мнению, об исчезновении булгар и переселении в Среднее Поволжье тюрко-кыпчакских (татарских) групп из Центральной Азии, гораздо ближе друг другу, чем принято думать.
Представления, которые их объединяют, состоят в механистическом подходе к сущности этнических процессов. Постулируя единство археологической культуры булгар от X до XVI в. (конструируемой на основе гончарной керамики, украшений и других элементах материальной культуры, причем различия не принимаются во внимание) и далее, до этнографической современности (подчеркивая сходство в образе жизни, занятиях и бытовой культуре), они вынуждены объяснять функционирование в качестве самоопределения в XIX–XX вв. этнонима «татар», но не «булгар». Одних исследователей это приводит к мысли о преемственности средневековых и современных булгар, которые только «по ошибке» или по злой воле «буржуазных националистов» приняли другой этноним, других та же проблемная ситуация – к признанию переселения татар в Булгарию еще в домонгольское или в золотоордынское время, т. е. к смене населения без изменения культуры [1. С. 99–119; 29; 30. С. 89–105]. Сторонники обеих точек зрения с разной степенью научности оперируют данными археологии, языка, этнонимии и антропологии, но, как можно заметить, различия между ними носят не принципиальный, а тактический характер, что позволяет некоторым ученым, не меняя метода исследования, трансформировать свои взгляды на прямо противоположные [28; 30].
Это заставляет рассматривать обе эти группы взглядов как относящиеся, в принципе, к одной парадигме, которая характеризуется материалистическим подходом к анализу материала и соответственно меха- нистическим пониманием сущности этноса и этнических процессов.
Требуется создание принципиально нового подхода для преодоления этой проблемной ситуации. Основой для подобной системной этноархеологической методики является изучение средневековой булгарской ментальности как источника сведений о ключевых аспектах этнополитических представлений. Распознав этнический контекст, можно выделить в нем элементы, имеющие этнокультурную и этносоциальную значимость, а среди них те признаки и артефакты, которые могли бы быть зафиксированы археологически. Только после этого становится целесообразным обратный путь рассмотрения типологизации этнокультурных явлений археологической культуры, но только под углом зрения выявленного этнического контекста и как способ его уточнения. Теоретически это означает определение архетипов прошлой булгарской культуры (план содержания), которые могли и должны были найти отражение в булгарской археологической культуре (план выражения), и восхождение от них, используя правила и методы соотнесения, к реконструкции прошлой этнокультурной ситуации (план познания, или «интерпретация»). Подобная стратегия применительно к археологии и палеоэтнологии является адаптацией методики, разработанной Л. С. Клейном [17. С. 13–23; 18] для выявления архетипов культуры и уточнения группировки археологического материала.
Основой для подобного анализа является изучение средневековой булгарской ментальности как источника сведений о ключевых аспектах этнополитических представлений. Рассмотрение аутентичных исторических источников, элементов историографической традиции и фольклорных материалов, позволили реконструировать основные значимые для этноса представления. Можно считать, что анализ различных аспектов этнополитического самосознания волжских булгар Х–ХШ вв., сохранившихся в исторической традиции (историографической и фольклорной), показывает их связь с реалиями существования народа, а также уровень его политических притязаний [4. С. 97–113; 6. С. 99–105; 7. С. 93–119].
Рассмотрение их позволило сделать вывод о явных интеграционных тенденциях, причем на новой основе – исламского госу- дарства. Подтверждение этому можно найти в практически полном игнорировании в сохранившейся традиции языческих и племенных элементов, а фигурирующие в них реминисценции (эпонимы, элементы архетипичных представлений и т. д.) – не более чем вкрапления в структуру исламских представлений. Одновременно на первый план в них вышли такие компоненты новой политической системы, как осознание своей связи с правящей династией, распространявшейся на все население, связи с территорией страны, понимаемой как отечество для всего населения, единство которого осознавалось не просто как кровное (от единого предка, причем на первый план в этих традиционных архаичных образах выходит коранический, а не общетюркский пантеон), а как духовное. Оно явно понималось как общность, возникшая в прошлом благодаря «перерождению» народа после принятия ислама и становления государства (обретение независимости в борьбе, появление новой династии и т. д.) и осознания своего места в исламском мире [5. С. 69–75; 8. С. 116–127; 10. С. 22–37]. Это означает, что этнополитическое единство не осознавалось в родо-племенных категориях, а, наоборот, резко противостояло им, делая упор на новую социальную общность [4; 8].
Отсюда можно сделать вывод, что рассмотренные выше аспекты сознания, несомненно, достаточно точно характеризуют данную общность через призму ее собственных взглядов. Можно считать доказанным, что часть населения Среднего Поволжья X–ХIII вв., осознавшая себя связанной определенными обязательствами с правящей династией и подвластная ей, исповедующая ислам и следующая своей особой миссии в мусульманском мире, жившая в пределах одного государства и считавшая его землю для себя отчизной – именно это средневековое население Волго-Уральского региона, определенно, называло себя булгарами. Эти черты, характеризующие общебулгарское сознание, и были зафиксированы в официальной историографической традиции. Особо следует подчеркнуть, что и другие объективные элементы общности, выявленные археологически и исторически, такие как общность языка, бытовой культуры, хозяйственной деятельности (разумеется, при определенном местном культурном и этническом разнообразии, которое в частности отмечено на материалах бы- товой лепной посуды и женских украшений), скорее всего не сознавались или же не считались дифференцирующими. По имеющимся данным, ведущим показателем в этом вопросе само население Булгарии в домонгольский период считало единство династии, населения и родной земли, а также религии и рассматриваемого через ее призму прошлого. Таким образом, данная модель определения этнополитического самосознания населения Булгарии позволила выявить не только характерные аспекты, но и параметры, по которым человек самоопределялся как булгарин.
Рассмотрение аутентичных сведений соседей о волжских булгарах в восточных (арабо-персидских), русских и западноевропейских (латинских) источниках, показывает, что и для них булгары были, прежде всего, отдельным народом, имевшим свое государство, население которого исповедовало ислам. Точная дата принятия ислама булгарами не известна, но достаточно уверенно можно отнести это событие к первому десятилетию X в. Так, Ибн Русте, который, по мнению большинства ученых, писал между 903 и 913 гг., сообщает, что «Царь Болгар, Ал-мыш по имени, исповедует ислам», а «большая часть их (т. е. булгар. – И. И. ) исповедует ислам и есть в селениях их мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами» [33. С. 22, 23]. Уже в 988 г., судя по тексту «Повести временных лет», булгарские проповедники приходили в Киев склонять князя Владимира к переходу в ислам [21. С. 59]. В XI – начале XIII в. различные источники неоднократно отмечали религиозность булгар и их войны с соседними народами, проводившиеся под знаменем «священной войны», а ближайшие христианские соседи – русские, отмечали ислам в качестве основной характеристики булгар [5]. Недаром выдающийся английский мыслитель и энциклопедист XIII в. Роджер Бэкон в географическом обзоре, входящем в его труд «Великое сочинение», описывая народы Восточной Европы и, видимо, основываясь на сведения европейских послов, упоминает страну «Великая Булгария», которая была населена «злейшими сарацинами». Автор с удивлением отмечает: «в высшей степени странно, что до них (булгар) дошло учение Магомета». Весь этот комплекс сведений не оставляет сомнений, что булгары в глазах современников были мусульманами, причем достаточно ортодоксальными.
Есть еще один нарративный источник, который нечасто используется в качестве источника по этнокультурной и конфессиональной характеристике булгарского общества. Речь идет об эпитафических памятниках XIII–XIV вв., ряд которых содержит генеалогические цепочки, восходящие еще к XII – началу XIII в. Анализ их показывает, что уже в конце XII – начале XIII в. мусульманское население Волжской Булгарии было этнически однородно, поскольку отсутствуют любые указания на племенную принадлежность умерших. В качестве прозвищ (тахал-лусов) присутствуют только названия булгарских городов (Болгар, Биляр, Сувар) [9. С. 83–90]. Кроме того, очевидно, что аристократия имела явную этнополитическую самоидентификацию и клановые (родовые) подразделения, сведения о которых не сохранились.
Кроме письменных источников в нашем распоряжении есть чрезвычайно важные археологические материалы, которые позволяют судить о распространенности ислама и его ритуалов у булгар. Достаточно отметить два факта. Для булгарских памятников X–XIII вв. характерно практически полное отсутствие костей свиньи. Например, среди остеологических материалов из Билярско-го городища за время раскопок 1967–1971 гг. (всего обнаружено 9 606 костей) их вообще не выявлено, нет костей свиньи и на других памятниках [22. С. 228–239; 23. С. 124–138]. Редкие исключения только подтверждают общее правило. Так, при раскопках Билярского городища (1974–1977 гг.) обнаружены отдельные кости свиньи, которые концентрируются близ усадьбы русского ремесленника. Статистически представительная выборка материалов и ее поразительная стерильность в отношении костей свиньи, как среди материалов городских, так и сельских поселений, учитывая факт широкого распространения свиноводства в более ранний исторический период и в соседних с Булгарией регионах, позволяют сделать вывод о повсеместном и строгом следовании булгарами предписаний и запретов ислама.
Еще более выразительно о распространении и характере ислама позволяют судить могильники волжских булгар, погребения которых совершены по мусульманскому погребальному обряду. Булгарские могильники, как археологический источник, были скрупулезно и всесторонне проанализированы Е. А. Халиковой [32], что позволяет опираться на ее выводы по этой проблеме. Мусульманский погребальный обряд населения Булгарии X–XIII вв., по ее данным, можно реконструировать так: глубина могильной ямы до 1 м, могильная камера без лях-да, стенки ямы отвесные или с небольшим наклоном, иногда на дне ямы фиксировался подбой, погребенный был ориентирован головой на запад, запад-северо-запад или запад-юго-запад, иногда умерший хоронился в гробу или деревянном ящике с перекрытием, умерший, как правило, клался в могилу с некоторым поворотом туловища на правый бок, обращенным в сторону Мекки лицом (редко на спине и лицом вверх); правая рука лежала вдоль тела, левая сдвинута на таз (реже обе вытянуты вдоль тела или полусогнуты), ноги чаще вытянуты (реже согнуты, полусогнуты или одна из них полусогнута); вещи в погребениях, как правило, отсутствуют, хотя иногда встречаются, но не как элемент одежды, а, очевидно, как поминальный дар.
По нашим данным, подобный «классический» [11. С. 60–69] обряд выработался не сразу, а в течение определенного времени, но и после его становления встречаются определенные вариации этого канона. Е. А. Халикова сделала вывод о начале распространения ислама в Булгарии в конце IX – начале X в., о полной и окончательной победе мусульманской погребальной обрядности в среде горожан в первой половине X в., а в отдельных регионах – во второй половине XI в. При этом она особо подчеркивала, что с рубежа X–XI вв. языческие могильники на территории Булгарии уже не известны. Выводы эти, в основном, выдержали испытание временем и сейчас можно сказать, что расширение источниковедческой базы по материалам булгарских мусульманских могильников лишь подтверждает основные положения работ автора данной статьи.
В настоящее время известно примерно 59 могильников по всей территории Булгарии (Предволжье, Предкамье, Западное и Центральное Закамье и бассейн р. Малый Черемшан), на которых вскрыто более 970 погребений, совершенных по мусульманскому обряду, и при этом не обнаружено ни одного не только могильника, но даже и единственного языческого погребения. Все эти факты весьма ярко и недвусмыслен- но свидетельствуют о повсеместном распространении ислама и глубоком его проникновении в народную культуру. Важность этих материалов заключается в том, что они позволяют оценить реальность выраженных в исторической традиции представлений. По сути дела, полное господство ислама и исчезновение разнообразных языческих культов, распространенных в предшествующий период, а также строгое следование мусульманским запретам (отсутствие костей свиньи и т. д.) свидетельствуют о растворении различных этнокультурных и племенных групп в мусульманской среде, формировании единого булгарского этноса. При этом некоторые небольшие иноконфессиональные группы (православные русские и армяне-монофизиты), имевшие свои торговые колонии в Булгарии, оставались вне булгарского этноса. Как «люди книги» они за редким исключением не подвергались насильственной исламизации. Иное дело – языческие племена чуваш, восточных финнов и угров, которые жили на периферии Волжской Булгарии и, взаимодействуя и испытывая постоянное экономическое и военно-политическое давление мусульман, частично исламизировались (например, этнографическая группа удмуртов – бесермяне).
Рассмотрев все эти факты, можно сделать вывод, что в нашем распоряжении находится значительный материал (начиная с предметов с арабскими надписями и предметов культа до остатков мечети и отсутствия костей свиньи в костных остатках), позволяющий сделать вывод о широком распространении ислама в X–XIII вв. на территории Волго-Уральского региона. Важнейшим же доказательством распространения мусульманства являются могильники с территории Волжской Булгарии, о которых можно определенно сказать, что те из них, где выполнены основные требования джаназы (ориентация умершего по кыбле), являются мусульманскими. Ареалы всех этих археологических явлений совпадают с другими вполне определенными культурно-археологическими параметрами (красно-коричневая круговая посуда, крупные городища, развитые земледельческие орудия и ремесленное производство и т. д.), которые очерчивают территорию булгарской археологической культуры [27]. Отсутствие костей свиньи в памя`тниках этой куль- туры и мусульманские могильники, которые пока выявлены и изучены не повсеместно, но тем не менее равномерно представлены во всех основных регионах Волго-Камья, позволяют констатировать сопряженность элементов мусульманской культуры с ареалом распространения булгарской культуры, тем самым подтверждая данные письменных источников. Сопряженность культуры булгар с исламскими элементами культуры делает именно ислам важнейшим этнокультурным показателем, поскольку, как удалось выяснить, именно с исламом и мусульманской государственностью связывали свою этническую (этнополитическую) идентичность булгары. Иными словами, все мусульмане, которые, судя по данным археологических источников (булгарская археологическая культура), составляли абсолютное большинство населения Булгарии в X–XIII вв., и могут считаться булгарами. Поскольку же нет оснований считать доказанным наличие языческих или немусульманских погребений в мусульманских могильниках или массива языческого населения, носителя булгарской культуры, то и в такой четкой и однозначной трактовке материала нет особых сомнений. Другие элементы быта и хозяйственной деятельности (лепная керамика, украшения и т. д.), видимо, не осознавались самим населением как этнодифференцирующие и не несли в тот период этнической нагрузки.
Данное положение не означает, что эти элементы не могут использоваться для характеристики особенностей археологической культуры населения Булгарии. Речь в данном случае идет только о том, чтобы очистить эти аспекты культуры от несвойственной ей этничности. Характерные материальные древности булгар действительно определяли облик ее культуры, но при этом надо иметь в виду, что эти же предметы (круговая гончарная посуда, украшения, бронзовая и серебряная посуда, бытовые и хозяйственные изделия и т. д.) могли использоваться и использовались соседними племенами. Например, булгарская керамика в массе встречается на средневековых памятниках Сурско-Свияжского междуречья [15. С. 115–166; 16. С. 32–46] и Верхнего Прикамья [2; 26. С. 33–96], а украшения и ювелирные изделия были широко известны вплоть до Северо-Восточной Европы и Зауралья [24; 25; 31. С. 131–141].
Вместе с тем поскольку становление государственных институтов и внедрение ислама происходило в течение определенного периода, то и археологические параметры булгарского этноса не оставались неизменными, а претерпевали значительные изменения, как и качественные параметры этничности. На раннем этапе (конец VII – VIII вв.) проникновения тюркоязычных племен в среднее Поволжье собственно булгары составляли только определенную группу среди других тюркских и угорских племен. Все эти эт-ноплеменные объединения имели достаточно сходную в археологическом отношении культуру, на что оказывали нивелирующее влияние образ жизни, способ хозяйствования, а также салтово-маяцкие культурные импульсы и традиции. Значительная часть носителей данной археологической культуры (условно ее можно назвать булгарской, хотя есть и другие термины – «раннебулгарская» или «протоболгарская») не считала себя булгарами (племена сувар, эсгиль / чи-гиль и др.), но в ее составе клан с самоназванием булгар, т. е. наследники государственных и династийных традиций Великой Булгарии из Нижнего Подонья и Западного Предкавказья, несомненно, существовал и играл ведущую роль.
Ислам, как свидетельствует имеющийся в нашем распоряжении материал, начинает проникать в булгарское общество на рубеже IX–X вв. На городских некрополях исламская обрядность превалирует уже с первой половины X в., а в сельской округе ислам распространяется во второй половине X в. Отдельные группы населения, оставаясь на периферии исторического развития, сохраняют языческий обряд погребения. Одновременно в городах начинает формироваться новая археологическая культура (распространяется гончарная круговая посуда, появляются новые социально-престижные оружие, украшения, предметы быта и т. д.). Взаимное наложение ареала археологической культуры и мусульман, следовательно, позволяет выделить население, определявшее себя как булгары, но на новых этнополитических и этноконфессиональ-ных основаниях. Скорее всего, в реальности общности мусульман и булгар совпадали, но теоретически существования некоторых групп булгар, сохранявших верность прежним традициям по крайней мере до середины X в., исключить полностью нельзя. За пределами булгаро-мусульманской общины находились группы других тюркоболгарских племен, использовавшие в быту прежние формы культуры и погребальной обрядности.
Распространение ислама и нового этнополитического сознания наталкивалось на сопротивление отдельных племенных объединений, придерживавшихся традиционного мировоззрения и погребальной обрядности, которое, однако, уже к середине X в. было сокрушено. Во второй половине X в. все группы тюрко-болгарских племен были включены в состав Булгарского эмирата, вошли в булгарскую этнополитическую систему и обратились к исламу. Анализ археологических материалов позволяет сделать вывод, что с рубежа X–XI вв. на территории Булгарии не зафиксировано ни одного языческого погребения или элемента обряда, а на основных археологических памятниках категорически не встречаются кости свиньи. Сопоставляя данные выводы с выявленными и систематизированными элементами этнополитической ментальности булгар, можно сделать выводы, что утверждение и распространение ислама происходили одновременно, что ведущими узлами социальной, этнополитической и религиозной активности являлись города и их ближайшая округа, где формировались новые общественные отношения и новый этнос. Более того, на всей территории страны устанавливается довольно единообразный погребальный обряд, который безраздельно господствует вплоть до второй половины XIII в. Разумеется, на периферии Булгарии существовали племена, использовавшие в быту элементы булгарской археологической культуры (Верхнее Прикамье, Зауралье, Северо-Восток Европы, Сурско-Свияжское междуречье и т. д.). Однако все иноплеменники – как отдельные люди, так и целые группы, входя в булгарскую среду и принимая ислам, становились булгарами. Возможно, в жизни все было несколько сложнее и не так однозначно, но пока отдельные нюансы, как и микроэтнонимы и местные элементы самосознания, не поддаются определению, тем более они никак не фиксируются археологически.
Данный вывод противоречит тем гипотезам о структуре булгарского самосознания, которые построены по квазиматериалисти- ческим критериям общности. Но он заставляет обратить пристальное внимание на такой интегрирующий фактор, как государство, институты и религиозная система которого создают как бы новую реальность, новую общность людей, делая ведущими факторами единства не этноязыковые и хозяйственные, а социально-политические и религиозные категории родства, переработанные общественным сознанием в виде исторических и актуальных этнополитических стереотипов. И если группа племен становится определенным социумом, пройдя через горнило объективных изменений, то и этноним не может быть «навязан» этносу, так как он становится самоназванием, лишь пройдя переосмысление в коллективном сознании народа и приобретя набор определенных этнополитических стереотипов, закрепляемых за ним. В свою очередь, изменение самоназвания свидетельствует не о «чуждом влиянии», а, определенно, о переменах в обществе, вызвавших смену этнополитических стереотипов. Механизм этих изменений, в частности в эпоху Улуса Джучи (Золотой Орды), в основных чертах известен, однако для продолжения его изучения требуются новые источниковедческие и методические подходы [3. С. 17–32; 11. С. 244–262; 19. С. 55–72; 20. С. 38–46; 34. Р. 255–290].
Подводя итог, следует отметить, что как теоретические построения, так и практические исследования на примере этногенеза средневековых булгар, одновременно с дискредитацией старой археологогенетической модели, показывают продуктивность методики этнологического синтеза. Этот подход отвергает руководящую роль одной единственной науки и заменяет ее всесторонней и сбалансированной междисциплинарной интеграцией. Это, наконец, позволит приблизиться к сложной и многоступенчатой процедуре этнологических исследований с использованием данных различных наук. Как справедливо писал по этому поводу Л. С. Клейн, «такая смена подхода сделает исследования по этногенезу более трудными для эмпириков, вовсе недоступными для дилетантов и совершенно непривлекательными для энтузиастов априорных идей о том, откуда “должны” происходить те или иные народы. Что ж, это обычная и не слишком высокая плата за приближение к истине и становление науки» [17. С. 23].
Материал поступил в редколлегию 10.11.2006