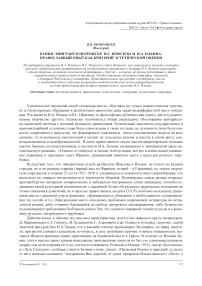Бунин-эмигрант в переписке И.С. Шмелева и И.А. Ильина: православный опыт как критерий эстетической оценки
Автор: Компанеец Валерий Васильевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (25), 2013 года.
Бесплатный доступ
На материале переписки И.А. Ильина и И.С. Шмелева («двух Иванов») как уникального явления в истории русского зарубежья рассматривается их неоднозначное отношение к позиции И.А. Бунина-эмигранта, с одной стороны, носителя классической традиции, с другой – человека, не вполне разделявшего идеал воцерковленного православного писателя. Особое внимание уделяется ситуации, связанной с позицией Нобелевского комитета. Приводятся новые аргументы в поддержку мысли о необходимости углубления теоретико-методологических основ литературоведения за счет привлечения философско-критического наследия И.А. Ильина.
Духовный реализм, православие, психологизм, эмиграция, "пороговая" ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/14821948
IDR: 14821948
Текст научной статьи Бунин-эмигрант в переписке И.С. Шмелева и И.А. Ильина: православный опыт как критерий эстетической оценки
Унизительное ощущение своей «второсортности» обостряло не только патриотические чувства, но и стимулировало обращение к религиозным ценностям даже среди индифферентной части эмиграции. Что касается И.А. Ильина и И.С. Шмелева, то философская публицистика одного, как и художественное творчество другого, полностью подчинялось общей сверхзадаче: обоснованию критериально-оценочной системы с позиций истинного православия. Религиозный мыслитель-государствовед и оригинальнейший художник слова были единодушны в своих взглядах на духовность (или бездуховность) современного искусства, что формировало однотипные психо-поведенческие модели на всех уровнях: от полновесных выступлений в печати до отдельных реплик и жестов в узком кругу единомышленников и недоброжелателей. В свете православного опыта они интерпретировали позицию многих бывших соотечественников, в частности И.А. Бунина, вызывавшую в эмигрантской среде неоднозначную реакцию. «Плюсы» и «минусы» в оценке этой позиции, все pro и contra нашли адекватное отражение в переписке «двух Иванов», занимающей заметное место в наследии русского зарубежья.
Вследствие того, что эмигрантская судьба разбросала Шмелева и Ильина не только по разным городам, но и по разным странам (первый жил во Франции, второй – в Германии), их тесное творческое содружество в течение 23 лет (в 1927–1950 гг.) выражалось в основном в эпистолярной форме, что нисколько не снижало интенсивности и значимости общения. Поднимались самые разные вопросы: противоборство интересов монархических и либерально настроенных слоев эмиграции; способы сохранения своей культурной идентичности; с сердечной болью обсуждалось трагическое положение не только священнослужителей, но и простых православных людей в СССР (особенно молодежи); тревожила мысль о реальной угрозе фашизма; сформировалось убеждение о необходимости «сопротивления злу силой» и т.п. Определенное место отводилось проблемам современной литературы на оставленной родине, либо отчаянно боровшейся за свободу авторского самовыражения, либо безропотно подчинившейся требованиям безбожной власти. Все это служило отправной точкой подхода и к феномену русского литературного зарубежья.
Действительно, в письмах мы находим характеристику достаточно широкого круга литераторов: Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Ходасевича, Г. Адамовича и др. Однако в этом ряду, конечно, самой заметной фигурой был И.А. Бунин, что в высшей степени закономерно. Во-первых, по праву писателя, при жизни ставшего классиком; во-вторых, в силу житейских причин: в начале эмигрантских мытарств Шмелев временно нашел пристанище на бунинской вилле в Грассе. В отличие от Ильина, Бунин, хотя и высоко ценил ранние шмелевские произведения, никогда не был его единомышленником, скорее, сам не подозревая об этом, считался соперником. В письме к Ильину 1935 г. автор «Богомолья» и «Лета Господня», сообщая о визите Бунина к нему, пишет: «Провожая Бунина в передней, услыхал от него интимно сказанное: “поздравляю Вас, дорогой, от души: прекрасно Ильин написал о «Лете», с нервом, с крепким словом, с подъемом, метко”» [7, с. 48]. В следующем письме Шмелев добавляет: «с ним это редко бывает, с Б<униным>… Проняло его. И чувствовалось в слов<ах> все же скрытое досадное» (Там же, с. 54).
Недвусмысленные суждения о соперничестве были высказаны участниками переписки по поводу Нобелевской премии 1933 г., на получение которой среди нескольких претендентов рассчитывал и автор «Солнца мертвых», желавший «силы испытать», «счастья попытать», «кровь пополировать» [6, с. 191]. Данное событие получило крайне острое обсуждение. Впервые вопрос о премии возник в письме Шмелева от 5 января 1931 г., когда он сообщил Ильину о победившем Мережковского и Бунина американце Л. Синклере (Там же, с. 189–190), а также информировал о предпринятых с его стороны действиях: послании четырех своих книг шведскому слависту Зигурду Агреллю, который предлагал Нобелевскому Комитету именно русских авторов. Если, по словам Шмелева, Агрелль повторит подобную акцию в очередной раз, то и он решится на «жест наглости»: «тогда я все же пройдусь тенью по Комитету и – освоюсь…». «Благословите, дорогой друг и учитель, – просит он адресата. – Великую духовную опору вижу в Вас… А по правде сказать – я страшусь сделанного шага. Я все еще чувствую себя – с Замоскворечья…» [6, с. 190 – 191].
Однако, даже предвидя провал, Шмелев решился рискнуть, вполне справедливо считая себя наследником российской гуманистической традиции: «Нобель оставил капитал для поощрения писателей, творчество к<оторы>х проникнуто человеч<еским> идеалом. Я думаю, что-то человеческое приношу к читателям, иначе бы не мог, по совести. Называть, считать себя русским писателем: слишком нас обязывает наша высокая литература» (Там же).
Анализируя позицию Ильина по данному вопросу, следует учитывать его уникальность как мыслителя синтетического склада, способного поистине объять необъятное. Напомним: его перу принадлежит выдающийся труд сугубо академического склада «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918), изданный в советской России еще до отбытия «философского» парохода. Склонность к академизму сочеталась в Ильине с адекватным пониманием проблем политической и культурной жизни: это был патриотически настроенный правовед-государственник, публицист-социолог и глубокий теоретик искусства, автор трудов по истории отечественной словесности от А.С. Пушкина до А.М. Ремизова. Не случайно с самого начала своей академической деятельности Ильин подчеркивал внутреннее родство философско-религиозной рефлексии и художественной интуиции: «Историку философии задано осуществить тайну художественного перевоплощения: принять чужое предметосозерцание и усвоить его с тем, чтобы раскрыть воочию его силу и его ограниченность» [4, с. 17]. Этой установке он был верен всегда, и поэтому его научные разыскания органически проецируются на методологические проблемы филологии, в том числе и современной [2].
Однако в условиях изгнания необходимость решать проблему «хлеба насущного» мало располагала к «чистому» академизму и порождала острейшую полемику, отражавшую «взвихренную» атмосферу эмигрантского литературного быта и бытия. «В эмиграции пребывают компактные массы людей, в душах которых еще густо клубятся кровавые испарения войны – внешней и внутренней. Они потеряли все: родину, свое социальное и общественное положение, свою иерархическую гордыню», – писал один из публицистов в статье с ироническим названием «Ташкентцы за границей», объясняя состояние неизбывной обиды, ущемленного самолюбия и отсюда – постоянную готовность к стычкам, оскорбительным выпадам в адрес человека, еще вчера бывшего твоим лучшим другом и т.п. [3, с. 478]. Даже «мягкий», «акварельный» Б. Зайцев, как вспоминает Н. Берберова, порвал с Н. Тэффи из-за «какого-то мелкого недоразумения». «К Ремизову под конец его жизни он относился холодно. С Шмелевым его развела политика во время немецкой оккупации». А после войны был положен конец и «драгоценных для него» пятидесятилетних отношений с И.А. Буниным [1, с. 338].
Что касается И.А. Ильина, то он в силу особенностей своей личности, большой внутренней культуры был сдержан и корректен в общении. Шмелев, напротив, отличался экзальтированным взрывоопасным характером. Не случайно Ильин называл его «Вулканом Сергеевичем» [9, с. 38]. Действи- тельно, создается впечатление, что Шмелев писал свои письма нередко второпях, взахлеб, отсюда их насыщенность эмфатическими оборотами речи: риторическими вопросами, оценочной экспрессией, инверсией, затрудняющими восприятие синтаксическими конструкциями, пропусками, многие слова же им попросту не дописывались. Конечно, это особый тип эмоционально-речевого поведения, основанный на психологическом стереотипе: о чем бы ни писал, всегда пишу о себе, поэтому не могу быть бесстрастным. Однако дело не только в этом.
Если читать его эмоционально-взрывные откровения как сплошной эпистолярный текст (для этого есть объективные основания), к тому же в единстве с эпопеей «Солнце мертвых» (1923), то можно говорить о феномене testimonio как не только о способе аргументации, опирающемся на пережитые скорби, но и о специфически эмигрантском автобиографическом дискурсе, транслирующем личный трагический опыт в пространство большой истории [10, с. 206–207]. И к этому типу доказательства своей значимости Шмелев прибегал даже в аспекте означенной проблемы. Так, уже в 1947 г., вспоминая давно канувшую в вечность Нобелевскую «эпопею» (об этом во всех подробностях речь пойдет ниже), он бросил в адрес Бунина жесточайший упрек, считая, что автор «Жизни Арсеньева» не только «косился» на него и «страшился» его конкуренции, но и «постепенно охладевал» именно «после того, как понял, что горе Шмелева – утрата сына, – «не смололо» его, что он «жив для творчества» [8, с. 143–144].
Тем не менее, Ильин считал себя обязанным на всех уровнях и во всех формах общения постигать мысль другого «духовным оком» [4, с. 51]. Именно поэтому его переписка со Шмелевым – не просто диалог в эпистолярной форме, но акт со-чувствия, со-размышления, со-творчества; тот случай, когда уважение к жизненной трагедии друга становится необходимейшим жестом милосердия в условиях психологического прессинга. Конечно, позиция в высшей степени благородная. И видимо, поэтому (наверное, не во всем внутренне соглашаясь) довольно часто Ильин «подыгрывал» своему адресату. Так, прекрасно понимая рискованность (возможно, и обреченность некоторых шагов), он в ответном письме от 19 января 1931 г. не только благословил Шмелева на участие в Нобелевском конкурсе, но и предложил начать широкую, «с отовсюдной мобилизацией» про-Шмелевскую кампанию : «Переберем славистов, подготовим дело и двинем». Далее шли (абсолютно в духе Шмелева) отзывы о соперниках: «Мережковский есть одно дутое недоразумение. Но я не понимаю, какой “человеческий идеал” или “идеализм” можно находить у Бунина. Мрачнейший из эпикурейцев; из всех прозрителей в человеческую бестиальность – нещаднейший; великий микроскопист элементарно-родового инстинкта» [6, с. 197]. Согласимся: Д.С. Мережковский действительно «не дотягивал» до нобелевских высот, но о Бунине сказано излишне резко и несправедливо. Другое дело, что подобную резкость можно понять с позиций православного воцерковленного мыслителя, не представлявшего вне церковных стен каких-либо иных проявлений подлинной духовности.
Сам же Шмелев, видимо, предчувствуя реальный негативный исход про-Шмелевской кампании , подчеркивал, что он – «новичок», что ему нелегко состязаться «с силами связей» известнейших литераторов (Там же, с. 235). Иногда говорила и прямая обида: «Об И. Б<уни>не Степун гремит-трубит на всех площадях (начиная с Совр<еменных> Зап<исок>) – и вся печать, а меня – ей-ей – загнали (о, Вы не знаете!), меня послновостенцы (сотрудники газеты “Последние новости”. – В.К. ) не выносят…» (из письма Ильину от 21 октября 1931 г.) (Там же, с. 233). Сетуя на то, что эмигрантская русская критика организовала против него «скрытый поход», Шмелев нарисовал довольно безотрадную картину, говоря о себе, как о жертве: «В “левой части” печати “работают” Мережки (Д. Мережковский и З. Гиппиус. – В.К. ), в правой нет такой, а Возр<ожде>нию я чужой. И еще умный Б<уни>н – чую – кое-где “бросает” нужное “меткое” словечко, а “присные” мотают на ус и разделываются со Ш<мелевы>м. Степун, в славословии, – Бунину акаф<исты> пел – меня рикошетом…» (Там же, с. 278). В другом письме, жалуясь, что за него «некому представительствовать», писатель констатировал: «Премии не присудили русскому и в эт<ом> (1931. – В.К. ) году. Б<уни>н был уверен , что прис<удят> ему… Были подняты все силы, из 7 госуд<арств>» (Там же, с. 234).
Однако русских литераторов обошли премией и в следующем году: ее получил Джон Голсуорси. Шмелева возмущал не столько данный факт (он прекрасно понимал значимость этого автора), сколько недостойное поведение бывших соотечественников. И вновь возродилось недовольство позицией Бунина (письмо Ильину от 21 ноября 1932 г.): «Ув ер енн ы й , что ему дадут, Бун<ин> остервенился<…>, узрел, что М<ережковский> – единств<енный> кандид<ат>, и освирепел. Написал Левинс<ону> протест<ующее> письмо…» [6, с. 348]. Неоднозначно осуждаются и «околонобелевские» жесты других литераторов: «Как зависть, честолюбие распаляет-то! Поглупеть так, дойти до доносов… – публиковать почти! И это – прости, Господи! – во-жди литературы. И это… когда безработица, люди стреляются, тоскуют о родине… – а “великие”, обеспеченные и работой, и избалованные вниманием критиков – Бунин пожалов<аться> не может, к<ак> и М<ережковски>й, в волоса др<уг> др<угу> вце-пи–лись!» (Там же).
Не приемля всяческую «“погоню за лаврами”, с подножками, с доносами, с выжалобливанием» (Там же), писатель вместе с тем прекрасно понимал, кто есть кто . «Бунин – да, за него я, как русский, не постыдился бы. Но получи Мер<ежковск>ий… – позор! Т ако й… – представитель родной литературы! Нет, пусть совсем не дают, но не тако му выражать, представлять Дух и Плоть русской литературы. Подлинная, она никогда не была ни “кликушей”, ни болтушкой, ни “мудрилкой”, ни “низалкой”, ни … подделкой, ни – ремеслом потливым, ни ерничеством-хитрюгой. И я… – доволен, что ни-кому не дали. Я бы не отказался, правда, но, по совести, но, правду сказать, не в “форме”, на такую скачку. Да таким, как я, никогда не дадут: таких, обычно, не признают “в европейской орбите”, – не утешители это, а “теребители” что-ли. За это по головке не гладят, шершавых. И все же… порой – хоть бы полегче пожить, напоследок нужды не терпеть» (Там же, с. 338). Да, Шмелев, материально крайне нуждавшийся, понимал, что Нобелевская премия избавила бы его от нищеты, которая неизбежно напоминала об униженной маргинальности.
Вполне возможно, что дезавуирование Шмелева как нобелевского кандидата осуществлялось, вероятно, при косвенном участии Бунина. Шмелев впоследствии писал Ильину: «…Знаю, как мне в Шв<еции> га-дили, как тормозили перевод “Истории Люб<овной>” – точно знаю, как его солили три года, а за это время в с е было пущено в ход, от Нобелей до архиеписк<опо>в, до членов жюри…<…> перевод<чи>ца мне написала: “суют палки из Парижа…” издат<ельство> – кот<орое> хотело “Ист<орию> Люб<овную>”, ныне задержало книгу и готовит полное собр<ание> будущего вероятного лауреата Б<унина>» [8, с. 143].
Однако, когда в 1933 г. премию Бунину все-таки дали, автор «Богомолья» сумел не только подавить в себе «маленькое» и «подспудное», но тем не менее, естественное чувство зависти, но и испытать прилив искренней гордости за счастливого «соперника»: «<…> я – рад <…> Все вышло хорошо: достойно решил Стокгольм – прекрасный писатель Бунин, и наша великая Словесность за него не постыдится; пробит черный лед-саван, обвивший-сковавший – в мире – все наше – государственность, былую славу и силу, жертвы, достоинство, подлинную Россию, представленную здесь нами – есть Россия! На весь мир крикнуло из Стокгольма, м.б. против воли многих-многих, – невольно крикнуло! <…> Слава родная крикнула – я жива! Выпало счастье представить эту славу, предстательствовать за нее – Бунину. Постыдиться не можем. Великое это счастье! В этом хотя бы – сумели настоять, заставить. Это подвиг… если знать, сколько же было враждебных сил, влияний, ям, стен, ушей, клеветы, зависти, – ведь это все равно, что Иван-Царевич к Кощею добирался» [6, с. 413].
Более того, присуждение русскому писателю Нобелевской премии для Шмелева – повод вспомнить великую отечественную литературу. «…Наша “русская тройка Словесности” давно облетела мир (мыслящий), с победной гремью колокольцев и бубенцов, с ямщиком – чудом Пушкиным, с крепкими седоками – Гоголем, Толстым, Достоевским, с поддужными Тургеневым, Лесковым, Чеховым, Гончаровым… Но не было удостоверено сие протоколом для мировой улицы. Ныне, в черном обмирании русском, вдруг на всю улицу зазвенело – вот она, русская словесность, победная! <…> Вскочил Бу- нин на тройку, – в бешеном ее беге, крепко вцепился и разбудил-растревожил колокольца, многим неслышные. И протокол составлен. Да-с, некая “победа под Полтавой”» [6, c. 413].
Те же интонации восторга звучат в шмелевском «Слове на чествовании И.А. Бунина»: «Сегодня мы празднуем событие не зарубежное, а как бы российского мерила: в свете его проблескивает духовное величие России <… > Комитетом при Шведской Академии Наук, впервые за 33 года, отмечен признанием русский писатель И.А. Бунин. Это творческая его победа, во славу одной литературы, во имя русское. Это признание утверждается определенным актом, и об этом оповещается мир. Событие знаменательное. Признан миром русский писатель, и этим признана и русская литература, ибо Бунин – от ее духа-плоти; и этим духовно признана и Россия, подлинная Россия, бессмертно запечатленная в ее литературе» (Там же, с. 546–547).
Однако поведение Бунина как состоявшегося лауреата Шмелеву не нравилось, и он счел необходимым сформулировать свои претензии, обвиняя автора «Жизни Арсеньева» в гордыне, отсутствии христианского смирения и патриотизма. В письме к Ильину от 17 декабря 1933 г. читаем: «Б<унин> не сказал ни словечка о рус<ской> литературе. Его “поправил” (да!) сам Король: “радуюсь за Вашу литературу”» (Там же, с. 428). Далее Шмелев продолжает: «Я люблю Б<унина> за чистоту слова, за труд, за вкус, за русскую природу . Много сохранил нам, собрал. Большой талант. Но как же так… не сказать pro Russia? Все свести – к себе?» (Там же). Еще большее возмущение вызвало протокольное «слово» на банкете: «…“Я в неоплатном долгу перед Францией”! А?! И нигд е ни слова, ни вздоха… о м а-тер и ! Будто и нет ее для рус<ского> писателя. Плохо. Недостойно. Так задохнуться от “счастья”» (Там же, с. 427).
Что ж, в подобных упреках и недовольстве Шмелева была, к сожалению, горькая истина. Известно, что Бунин на протяжении двух месяцев шумно праздновал получение премии, чем сильно подорвал свое здоровье. «Видел я Б<унина>, – делится Шмелев своими впечатлениями с Ильиным. – Это – ужасно, до чего ослаблен этой “стиркой”… Я испугался – обескровленный старичок <….> Вчера вызвал доктора…: “помираю”. Расстройство кишечника… Все – итоги “пира”. Я не думал, что в такие годы можно было так бешено заликовать и продолжать ликованье 2 мес.! Ведь за эти 2 мес. он у себя сжег 2 – 3 года жизни» (Там же, с. 437). За подобной горечью стояла не только элементарная забота о подорвавшемся здоровье пожилого человека, но гораздо большее – искреннее недоумение по поводу затянувшегося неуместно «пира во время чумы»: «…Как, как писа<тель>-эмигр<ант>, писатель горевой мученицы-родины, мог так бесшабашно пи-ро-вать , запоем?» (Там же, с. 427).
Вместе с тем необходимо отметить, что Бунин не забыл многих собратьев-изгнанников, ассигновав эмигрантскому сообществу «35 т<ысяч> на утешение-передышку». Вручили чек на 3 тысячи франков и Шмелеву, что, по словам бедствующего писателя, дало возможность «передохнуть, расплатиться с должишками, а то – петля» (Там же, с. 446–447).
Конечно же, в «Переписке двух Иванов» значительное место занимают вопросы собственно художественной литературы, проблемы мастерства. Поводом к серьезным размышлениям на этот счет явилось, в частности, обсуждение материалов к одной из наиболее принципиальных книг Ильина «О тьме и просветлении». Опубликованная полностью уже посмертно, книга эта создавалась на протяжении ряда лет, и ее концептуально-теоретическое и философско-методологическое ядро сформировалось как единое целое с другими работами 1930-х гг.: «Основы христианской культуры», «Основы художества. О совершенном в искусстве», «Пророческое призвание Пушкина», со статьями сборника «Русские писатели, литература и художество» и (что очень существенно) в единстве с патриотической публицистикой и религиозно-богословской традицией в подходе к проблемам художественного творчества. Главной была мысль об истинном искусстве как искусстве сердца, совести, молитвенного подвига, духовной аскезы, которая органично вписывалась как в рассуждения о своеобразии национального менталитета в целом, так и в размышления о кризисных явлениях в культуре, причиной которых, согласно христианскому учению, является «оскудение любви» в людях.
По первоначальному плану книга должна была открываться главой о Шмелеве. Однако автор изменил свой замысел и первым был написан раздел о Бунине, который он послал Шмелеву для предварительного ознакомления и оценки. Шмелев «дважды» прочитал бунинскую часть и расценил ее как «высокохудожественное произведение». «Ничего подобного еще не читывал – да и никому не снилось создать подобное! Вы н ашли , открыли Бунина, показали – и доказали… Вы и мне показали Бунина, а я то – его знал прилично <….> Вы воздвигли с т о л п Бунину <…> Он отныне занял св о е и почетнейшее место в рус<ской> литер<атуре>, Вами означенное, назначенное, – до века <…> Предсказываю: великий успех книги, если выйдет <….> Вы – лепщик: вылепили нового и подлинного Бунина… Бунин – з ажил . З анял высокое место. Тут увековечение» [6, с. 449–450].
Называя Ильина «великим анатомом», автор «Богомолья» одновременно попросил своего друга вычеркнуть из работы его собственное имя, прибегая к уничижительному приему говорить о себе в третьем лице: «недостоин он сопоставлений с удостоенными < …> Ваша воля, конечно, разбирать Ш<меле>ва, но здесь – нельзя сопоставлять <…>. Ш<меле>в еще не умер, не взвешен. Б<уни>н мож<ет> сопоставляться только с выверенными, как меряют каз<енным> аршином и взвешивают клейменым пудом» (Там же, с. 450).
Однако в ответном письме от 22 июня 1934 г. Ильин неожиданно объяснил Шмелеву, что он «криво» воспринял «етюд» о «Буниади»: «я его осадил , посадил и усадил ; а Вы восприняли это так, будто я его – преподнес , вознес , превознес … С точки зрения художественно-эстетической я ему приговорил : быть в негениальных талантах, за кавалергардов не соваться, помнить третий ранжир; а у Вас так выразилось, будто он-то самый и есть, который» (Там же, с. 464).
В свою очередь, Шмелев не согласился с Ильиным, что тот принизил Бунина: «Вы дали гениально-верно и тем самым воспели! Не плохая высота, кот<орую> Бунину определили. Вы его поставили, да, но как же верно и высоко – относительно. И я писал на В<аш> вопрос – не врагом ли станет Б<унин>, если опублик<овать>. И я ответил – нет, если он не дурак и не в самообмане» (Там же, с. 468).
Внешне подобная ситуация выглядит абсолютно парадоксальной. Спрашивается, зачем нужно было так характеризовать мастера слова, чтобы осуждающие моменты были восприняты как возвеличивающие (или наоборот)? Однако здесь вступает в свои права особая логика, снимающая все парадоксы, – логика философа-гегельянца и одновременно религиозного догматика.
Первоначальное название книги звучало так: «О тьме и скорби: Бунин. Ремизов. Шмелев». В письме от 10 апреля 1938 г. Ильин объяснил смысл своего заглавия следующим образом: «…Тьму и скорбь послала нам “история”, т.е. Господь . И все мы во тьме ходим и скорбью живем. И вот старшее ныне поколение литературных художников, сидя с нами во тьме и скорби, что видит, что показывает, что дает, куда ведет.
-
а) Бунин. Тьма первобытного эроса – и мука из него. И все. Плюс – “радости любви”…
-
в) Ремизов. Тьма нечисти , злобы и страха – и мука о ней, но не скорбь, а мука, требующая жалости.
И нет скорби – ни у того, ни у другого; и нет преодоления, нет выхода к свету.
-
с) Шмелев – тьма богоутраты , и скорбь в мире и о мире – и через скорбь выход к Богу и свету.
И радость древле-зданного русско-православного богонахождения <…> Мне важно, чтобы Вы узрели замысел и то, почему разрешающий проблему идет в конце…» [7, с. 224–225].
Даже при поверхностном прочтении этого плана-проспекта очевидна гегелевская «закваска» методологии Ильина. И дело не только в том, что последовательность имен Бунин – Ремизов – Шмелев формально воспроизводит знаменитую иерархию триады: тезис – антитезис – синтез. Гегель не прост: разрешая многие противоречия внутреннего характера (т.е. меняя «плюс» тезиса на «минус» антитезиса и наоборот), синтез не в состоянии преодолеть трагизм бытия, противоречия «несчастного сознания», и отсюда далеко не оптимистические выводы философа об общем состоянии мира и роли человеческого Я. Ильин развивал именно это направление гегелевской концепции. Однако, давая ей (в духе ХХ в.) онтологически-экзистенциальное обоснование, он продолжал оставаться на позициях интерпретатора гегелевской философии как «учения о конкретности Бога и человека», как это было сформулировано в упоминавшемся трактате 1918 г. «…Этот процесс, в котором Божество творит свою “реальность”, состоит именно в создании и осуществлении спекулятивной конкретности мыслеопре-делений <…> Божество достигает совершенного состояния тогда, когда оно превращается в органическую тотальность, т.е. в единственный, всеобъемлющий, живой организм категорий. Спекулятивная конкретность есть высшая цель и высшая форма жизни Божией; именно ею определяется и к ней направляется Божий путь в своем предвечном возникновении и завершении» [4, с. 183]. Как справедливо пишет Л.В. Жаравина, «в спекулятивном решении проблем Ильин видел аналогию художественному акту в самом глубоком смысле слова. Эта черта, по его мнению, присуща не только Гегелю, но и философии вообще, т.к. философ должен мыслью проникнуть в суть явления, добившись максимального единства «изучающего духа с духом, творчески созерцающим предмет». Такой путь единения с объектом есть также путь художника, воплощающего самого себя в созданных творческим воображением образах» [2, с. 181].
Да, русская жизнь, воспроизведенная Буниным, особенно Буниным-эмигрантом, автором цикла «Темные аллеи» и романа «Жизнь Арсеньева», – в целом лишена благодати, не просветлена Духом. Здесь, по формулировке Ильина, писатель – «поэт и мастер внешнего, чувственного опыта», который вытекает из греховной первобытности инстинкта, и который нельзя воспринимать «без содрогания» [5, с. 30]. Образы же, созданные А. Ремизовым, «как бы вмещают глубину и остроту его духовного опыта», но автор, обладающий великим даром стилиста, мало заботится об их «органической цельности», т.е. жизненности. Но и тот, и другой путь, по мнению Ильина, «против нормального мышления…» (Там же, с. 121, 127).
И только у Шмелева образно-стилистический строй определяется строением «творческого акта», символизирует писательство как «судьбоносный путь, очищающий душу и возводящий ее к мудрости и духовной свободе» (Там же, 151, 159). Если учесть, что для Ильина учение любимого философа, как он писал ранее, сводится к «учению о Божией свободе» [4, с. 255], то нетрудно понять, почему Шмелев идет как «разрешающий проблему», завершая концепцию. А это значит, что эмигрантская литература при всем трагизме ее внешнего бытия наглядно реализует евангельскую максиму: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мк. 10: 31).
Именно поэтому и в письмах Ильина настойчивые попытки противопоставить православного Шмелева безрелигиозному Бунину выражаются не только в активной поддержке друга в его «соперничестве» с нобелевским лауреатом, но и в стремлении указать истинный путь русской литературе как путь духовного реализма. Отсюда и некоторые «перегибы» в негативизме: «Читали Вы фигу Кирилла Зайцева о Бунине?... “Религиозный мыслитель”, “мистическая озаренность”, “святость быта” <…> Это у холодного язычника; это – у горького беcсвятца – Бунина!» (письмо от 9 марта 1935 г.) [7, с. 29–30].
В позиции Бунина-эмигранта была и еще одна острая ситуация, раздражавшая «двух Иванов», как, впрочем, и многих бывших соотечественников. Общеизвестно, что Бунин в послевоенные годы встречался с авторитетными советскими деятелями и не исключал возможности своего переезда в СССР. Шмелев в письме к Ильину от 28 мая 1945 г. с горькой иронией cообщил: «Упорно говорят, <…> Бу<ни>н продал Госизд<ательству> сочинения и, уверяют, едет… – “стяжать лавры”? Место вакантно…» (Там же, с. 314). Примерно через год (11 июля 1946 г.) он же писал Ильину о том, что Бунин завтракал у Богомолова – советского посла во Франции (Там же, с. 430), активно агитировавшего русских эмигрантов вернуться в Россию, и объяснил подобное «верченье» вокруг советского полпредства «невероятной трусостью» писателя. «Он испугался, что теперь, с победой, комм<уни>сты буд<ут> хозяевами Фр<анции>. И – забежал. Перестраховывался. Бунино-гипноз не чужд и полпредам. А верней – они хотели поиграть сим козырем. “Завтрак в полпредстве” – факт. Вку-шал с убийцами и ворами. И – отвертелся безнаказанно». И далее следуют вновь несправедливые слова о писателе: «<…> Никогда не смогу простить Б<унину>, что поганил чистую Русскую словесность – порнографией. Вот, вышли
“Темные аллеи”… Да, темные <…> Понимаете ли, как такая книжонка, подкрепленная именем “неприкосновенным”, – разлагает?!» [7, с. 514].
Отсюда единодушие с Ильиным в общей оценке последних произведений: «Акт родового инстинкта» в иск<усст>ве Бунина… – это Вы, единственный, поставили такой точный тонко-художественный диагноз! Вот уж, именно: иск<усст>во Бунина – все в “комплексах”, вытекает из темных недр очень властного полового инстинкта, как бы оно ни было закрываемо ц в етами бытия, вплоть до… “космических”. Ныне сказалось это обнажено: вся послед<няя> его работа – серия этюдиков последнего росчерка его старческого пера <… > Таков мо й вывод из Вашего неумолимого диагноза» (Там же, с. 443). Из «неумолимого диагноза» следовал и еще один вывод, который автор «Богомолья» и «Лета Господня» адресовал другу: «Душа не стареется – она богатеет и м ол од е ет с годами, и ее внутренний опыт с годами насыщается тончайше» (Там же).
Таким образом, «Переписка двух Иванов» в истории отечественной словесности является уникальным феноменом: ее можно рассматривать как репрезентацию и конкретизацию аксиом религиозного опыта в «пороговой» жизненной ситуации. Что касается Бунина, то его фигура в этих условиях оказалась весьма «удобной» для выявления основных идентификационных признаков православной духовности.
Список литературы Бунин-эмигрант в переписке И.С. Шмелева и И.А. Ильина: православный опыт как критерий эстетической оценки
- Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М.: АСТ Астрель, 2011
- Жаравина Л.В. Религиозно-философские труды И.А. Ильина в литературоведческом прочтении//Русское Зарубежье -духовный и культурный феномен: материалы Междунар. науч. конф.: в 2 ч. М.: Нов. гуманит. ун-т Натальи Нестеровой, 2003. Ч. 2. С. 181-187
- Иванович Ст. Ташкентцы за границей//Литература русского зарубежья: антология в 6 т. М.: Книга, 1991. Т. 2. С. 472-485
- Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека в 2 т. СПб.: Наука, 1994
- Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин. Ремизов, Шмелев. М.: Скифы, 1991
- Ильин И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1927-1934). М.: Рус. книга, 2000
- Ильин И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1935-1946). М.: Рус. книга, 2000.
- Ильин И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1947-1950). М.: Рус. книга, 2000.
- Любомудров А.М. Творческая полемика И.А.Ильина и И.С.Шмелева. Из истории создания романа «Пути небесные»//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. 2009. Вып. 8. С. 38-44.10. Smith S., Watson J. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.