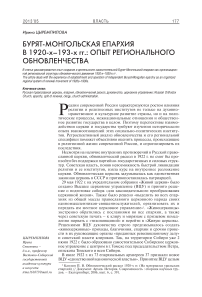Бурят-монгольская епархия (1924–1934 гг.): опыт регионального обновленчества
Автор: Цыремпилова Ирина Семеновна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается опыт создания и деятельности самостоятельной Бурят-Монгольской епархии как организационной региональной структуры обновленческого движения 1920-х–1930-х гг.
Русская православная церковь, епархия, обновленческий раскол, духовенство, церковное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/170166961
IDR: 170166961
Текст научной статьи Бурят-монгольская епархия (1924–1934 гг.): опыт регионального обновленчества
Р еалии современной России характеризуются ростом влияния религии и религиозных институтов не только на духовно -нравственное и культурное развитие страны, но и на поли -тические процессы, межнациональные отношения и обществен -ное развитие государства в целом. Поэтому перспективы взаимо-действия церкви и государства требуют изучения исторического опыта взаимоотношений этих социально политических институ тов. Ретроспективный анализ обновленчества и его региональной специфики поможет объективно оценить процессы, происходящие в религиозной жизни современной России, и спрогнозировать их последствия.
Несмотря на наличие внутренних противоречий в Русской право -славной церкви, обновленческий раскол в 1922 г. не смог бы про -изойти без под держки партийно - государственных и силовых струк-тур. Советская власть, поняв невозможность быстрой ликвидации религии и ее институтов, взяла курс на внутреннее разложение церкви. Обновленческая церковь задумывалась как единственная законная церковь в СССР и противопоставлялась патриаршей.
ЦЫРЕМПИЛОВА Ирина
29 мая 1922 г. на учредительном собрании «Живой церкви» было создано Высшее церковное управление (ВЦУ) и принято реше-ние о подготовке собора «для законодательного преобразования церковной жизни». Также было решено «выделить во всех епар-хиях из общей массы православного церковного народа своих единомышленников священнослужителей, организовать их и передать им местное церковное управление»1. «Живоцерковцы» экстренно обратились с посланиями во все епархии, а также через советскую печать — к клиру и мирянам с призывом немед -ленно порвать с «тихоновщиной» и перейти в «Живую церковь». Решениями ВЦУ духовенству строго предписывалось создать «живоцерковные» приходы, благочиния, епархии и срочно прове сти в их руководящие органы «преданных революционному делу» и советской власти клириков. Так, на территории Сибири уже 2 июня 1922 г. было образовано самостоятельное Сибирское церков ное управление с центром в г. Томске под председательством Петра, епископа Томского и всея Сибири.
В июле 1922 г. из 73 епархиальных архиереев 37 признали новое ВЦУ «единственной канонической властью». Принятие ВЦУ целым рядом архиереев было обусловлено тем, что они не видели ему альтернативы, а жизнь без церковного административного центра казалась невозможной. Кроме того, они считали необходимым сохранить в тяжелое время гонений церковное единство. Часть духовенства действительно желала некоторых реформ по переустройству церковной жизни. Немало священников подчинились ВЦУ, желая избежать репрессий со стороны органов ГПУ. К августу власть в большинстве епархий перешла к представителям «Живой церкви»1.
20 сентября 1922 г. было официально открыто Иркутское губернское церковное управление, которое приняло дела епархии от бывшего Духовного комитета, а 14 октября прибыл первый обновленческий архиерей – архиепископ Иркутский и Верхоленский Николай.
Следующим шагом по развитию обновленчества стал созыв Второго Поместного собора, который прошел в Москве с 29 апреля по 9 мая 1923 г. К основным постановлениям собора относились: 1) отмена анафемы советской власти; 2) признание патриарха Тихона «лишенным сана и монашества и возвращенным в первобытное мирянское положение»; 3) одобрение деятельности обновленческих организаций; 4) призыв к поддержке советской власти, которая «одна во всем мире государственными методами имеет осуществить идеалы Царства Божия»; 5) отмена патриаршества; 6) одобрение начала отделения церкви от государства. Кроме того, собор одобрил введение женатого епископата и дозволение второго брака клирикам, были расширены права контроля приходского духовенства в отношении епархиальных дел; монастыри допускались лишь как трудовые коммуны2.
На территории Бурятии активный переход в обновленчество начался после образования 15 июня 1923 г. Забайкальского губернского церковного управления (ЗабГЦУ) под председательством архиепископа Михаила Орлова3. Архиепископ Михаил созвал в Чите руководителей благочинных округов и раздал им свои управ- ления с запретом поминать на богослужениях патриарха Тихона как лишенного церковного сана. Исполняя указания, благочинный Джидинского благочиния Дмитрий Малков разослал по приходам письменные распоряжения и требования о денежном содержании. Многие священнослужители со своими приходами подчинились решению церковного управления, перейдя тем самым в обновленчество.
К крупным центрам обновленчества относились Верхнеудинский уезд, Баргузинский и Троицкосавский аймаки. В г. Верхнеудинске обновленчество было представлено Одигитриевским собором, Спасской, Вознесенской церквями. В г. Троицкосавске обновленцам принадлежали Свято-Троицкий собор во главе с епископом Георгием Георгиевским (с декабря 1922 г. был назначен уполномоченным Иркутского епархиального церковного совета по делу обновления), Покровская церковь, Богородице-Тихвинская церковь в с. Усть-Кяхта и др. В Баргузинском аймаке было образовано уездное церковное управление во главе с протоиереем Георгием Кузнецовым, в подчинении которого находилось 14 приходов (Баргузинский Спасо-Преображенский собор, Телятниковская, Читканская Христорождественская, Сувинская Николаевская, Бодонская, Башаровская, Курумканская, Улюнская и др. церкви)4.
Следующий съезд «Живой церкви», проведенный уже в августе 1923 г., принял еще более радикальные решения. «Живая церковь» стала называться Православной российской церковью, а Высший церковный совет был переименован в Священный синод, в состав которого вошли 12 епископов, 20 пресвитеров и несколько мирян. Священный синод ПРЦ разделил свои приходы на церковные управления в соответствии с гражданским районированием. Это решение стало основной причиной создания самостоятельной Бурят-Монгольской епархии5.
Первоначально складывалась непростая ситуация в вопросе управления. Указом Священного синода от 5 апреля 1924 г. епархиальному церковному совету Бурреспублики, председателем которого являлся архиепископ Верхнеудинский
Гавриил Асташевский, было предоставлено право непосредственного сноше -ния со Священным синодом с сопод -чинением Сибирскому областному церковному управлению (СОЦУ). Но указом Священного синода от 13 сентя-бря 1924 г. епархия Бурят - Монгольской республики была включена в состав Дальневосточного областного церков-ного управления (ДВОЦУ) на правах викариатства Забайкальской епархии. ДВОЦУ в заседании от 18 октября поста -новило преосвященного архиепископа Гавриила оставить в качестве викарного епископа с сохранением звания архиепи скопа Верхнеудинского. Эти нелогичные перемещения в вопросах подчинения от Сибирского к Дальневосточному цер ковному управлению можно объяснить двояко. С одной стороны, изменениями гражданского районирования (создание Дальневосточной области в 1922 г., обра-зование самостоятельной БМАССР в 1923 г. и др.), с другой — тем, что право -славные приходы, расположенные на территории созданной БМАССР, до рево люции входили в состав и Иркутской, и Забайкальской епархий. Это стало пово дом для последующих жалоб и протестов архиепископа Гавриила в Синод, СОЦУ и ДВОЦУ. Окончательным решением после продолжительной переписки по этому вопросу стал указ Священного синода от 6 апреля 1925 г. о восстановлении Бурят -Монгольской епархии в правах самостоя тельной епархиальной единицы.
Несмотря на институциональное оформление Бурят-Монгольской епар-хии, к середине 1920-х гг. становится оче-видным, что обновленчество имело лишь ограниченный успех и не способно при влечь к себе верующих. Одной из при чин «неудачного положения дел» стала непосредственная поддержка обновлен цев органами власти. Так, архиепископ Асташевский заявлял, что «ненависть ко мне лично со стороны тихоновщины усугубляется тем, что по внушению своих пастырей мнят меня ставленником Советского правительства, ставленником “красных”, “коммунистов” и что будто бы по моему “приказанию” в 1923 г. и после арестовывались тихоновские священ ники». Этим он объяснял, что «в начале обновленческого движения в городе и долгое потом время до того злоба кипела в народе, что сбросить с моста в реку меня хотели, всадить нож в бок, ... поленьями били окна квартиры»1.
Поддержка обновленцев органами вла-сти проявлялась и в вопросе о передаче церквей и их имущества. Разногласия между обновленцами и тихоновцами в отношении верхнеудинского Троицкого храма стали причиной составления письма в ЦИК и СНК СССР от группы староцер-ковцев с просьбой «прекратить произвол обновленцев и содействие им местных властей»2. Верующие с. Заудинское 5 апре-ля 1925 г. подали жалобу в ЦИК БМАССР на «незаконное отобрание» у них молит -венного здания и передачу его обновлен цам. ЦИК, рассмотрев юридическую сто рону вопроса (какая группа раньше заре гистрировалась и т.д.), предложил НКВД вновь пересмотреть этот вопрос, указав, что «Михаило Архангельский храм может быть передан староцерковцам без особого ущерба для удовлетворения религиозных нужд живоцерковцев»3. В 1927 г. постанов -лением Президиума БМАССР храм был передан в пользование общине верующих «староцерковцев».
Состояние обновленческой епархии на территории Бурятии, ее финансовое положение оценивалось архиепископом Асташевским «как совершенно безвы ходное». В своем рапорте за 1925 г. он указывал: «От епархии поддержки нет, за скудостью собственных средств с одной стороны и вследствие выжидательного состояния общин с другой». Если не будет поддержки со стороны епархиаль ных управлений, «обновленчество по всей епархии неминуемо должно с полным посрамлением самоликвидироваться, ибо нельзя работать голодом». В 1925 г. было проведено только одно епархиальное собрание без предварительных благочин нических собраний. Частыми явлениями стали «религиозная спячка, летаргия, паралич, расслабленность»4.
Подобная же картина наблюдалась в обновленческих приходах Троицко-савского викариатства. Так, епископ Троицкий и Селенгинский Георгий Георгиевский («обновленчеству предан всей душой») отмечал бедность и мало численность подчиненных ему обновлен ческих общин, которые в своем распоряжении имеют только средства от «свеч-ной» выручки.
Некоторая активизация обновленче -ской церкви на территории БМАССР была связана с деятельностью нового председателя епархиального управления — архиепископа Сретенского и Нерчинского Василия Макушева, назна-ченного 5 октября 1928 г. правящим Верхнеудинской епархией. С 3 по 6 октя-бря 1929 г. был проведен съезд обновлен -цев духовенства и мирян. Съезд показал, что Бурят Монгольская епархия «стала на более твердую почву», вновь избран -ное епархиальное управление получило возможность «большего сближения с мирянами», была окончательно налажена связь с благочинными, определены точно границы приходов, «поднят авторитет священника, его спайка с паствою»1. Однако, несмотря на заявленные успехи, верующие в конце 1920-х — начале 1930 х гг. становились все более безраз личными к проблеме раскола, к церкви и к вере в целом. Росло и недовольство населения политикой государства по религиозному вопросу.
Обновленческая церковь в начале 1930 х гг. продолжала сокращаться, хотя церковное руководство до последнего пыталось сохранять свои структурные единицы. В 1931 г. в состав Восточно Сибирской митрополии входили Иркутская, Красноярская, Каннская, Сретенская, Читинская и Верхнеудинская епархии. В феврале 1934 г. Читинская и Сретенская епархии были закрыты, а их общины присоединены к Верхнеудинской епархии во главе с архиепископом Александром Авдентовым. В октябре 1934 г. по распоряжению Священного синода была упразднена Верхнеудинская/ Улан-Удэнская епархия, ее общины были присоединены к Иркутской епархии. В 1935 г. Иркутское епархиальное церков-ное управление возглавил Константин Знаменский, под юрисдикцией которого находилась вся территория Восточно Сибирского края2.
Таким образом, создание и деятельность самостоятельной Бурят Монгольской обновленческой епархии, просуществовавшей с 1924 по 1934 гг., были обусловлены в большей степени административно территориальными изменениями региона, чем ее самодо статочностью. При этом само обновлен -ческое движение было конформистски настроено по отношению к власти и не получило широкой поддержки у верую щих, но в деле «отмирания религии» сыграло свою определенную роль.