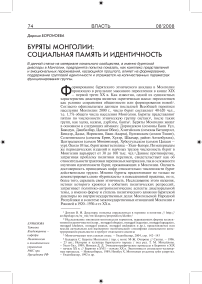Буряты Монголии: социальная память и идентичность
Автор: Бороноева Татьяна Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Республика Бурятия
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на материале локального сообщества, а именно бурятской диаспоры в Монголии, предпринята попытка показать, как комплекс представлений и эмоциональных переживаний, касающийся прошлого, влияет на формирование, поддержание групповой идентичности и отражается на количественных параметрах функционирования группы.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164524
IDR: 170164524
Текст обзорной статьи Буряты Монголии: социальная память и идентичность
Ф ормирование бурятского этнического анклава в Монголии произошло в результате массового переселения в конце XIX – первой трети XX в. Как известно, одной из сущностных характеристик диаспоры является «критическая масса» переселенцев как условие сохранения общинности или формирования новой1. Согласно официальным данным последней Всеобщей переписи населения Монголии 2000 г., число бурят составляет 40 620 чел., т.е. 1,7% общего числа населения Монголии. Б-уряты представляют пятую по численности этническую группу (ястан)2, после таких групп, как халха, казахи, дэрбэты, баяты3. Б-уряты Монголии живут в основном в следующих аймаках: Дорнодском (сомоны Б-аян Уул, Б-аяндун, Дашбалбар, Цагаан Обоо), Хэнтэйском (сомоны Б-атширээт, Б-индэр, Дадал, Норовлин, Б-яан-А-дарга), Б-улганском (сомон Тэшиг), Селенгинском (сомоны Е-р оо , Хyдэр, Шаамар, район А-лтанбулага), Центральном (сомон М о нг о нмор), Хубсугульском (сомон Цагаан – yyр). Около 10 тыс. бурят живет в столице – Улан-Б-аторе. По материалам же периодических изданий и научных трудов численность бурят в Монголии варьирует от 30 до 100 тыс. чел.4 Данное противоречие, затрагивая проблему политики переписи, свидетельствует как об относительности трактовки переписных материалов, так и о сложности изучения идентичности бурят, проживающих в Монголии. Оценить достоверность приводимых цифр относительно численности бурят действительно трудно. Многие буряты предпочитают не только не демонстрировать свою «бурятскость» в повседневной практике, но и, более того, скрывать свою этничность. Исследование этого явления, истоки которого кроются в событиях политических репрессий, затрагивает политико-антропологические аспекты диаспоральной темы, а именно форму и степень политического влияния бурятской диаспоры во внутригосударственных делах Монгольской Народной Р-еспублики и в системе межгосударственных отношений Монголии с Р-оссией в 1920–1930-е гг. ХХ в.
ЕРМИЛОВА Татьяна
Владимировна – кафедра Политологии и политического управления РАГС при Президенте РФ
Наделение бурятской этничности политическим контекстом (отождествление бурят и политических врагов) в 30-х гг. ХХ в. привело к фиксированию в социальной памяти бурят Монголии важнейшей отсылки ко времени репрессий как ключевого момента, когда быть бурятом стало жизненно опасно. Личностная идентификация и ход собственной жизни стали просчитываться через конкретные события арестов, судов и приговоров за шпионаж и контрреволюционную деятельность, затронувшие практически каждую бурятскую семью. По данным Музея политических репрессий1, в г. Улан-Б-аторе к смертной казни было приговорено большинство мужчин-бурят, часто были случаи ареста и изведения целых бурятских семей2. Из-за страха перед преследованием в среде бурят наметилась тенденция сокрытия своей этнической принадлежности, прежде всего через отказ от таких маркеров культурной отличительности, как одежда и язык: они прекратили носить свою традиционную одежду и употреблять бурятский язык в общественных местах. Истребление большинства мужчин вызвало значительный рост смешанных браков, в частности халхаско-бурятских, что привело к ускорению темпов ассимиляции.
Как показали исследования У. Б-улаг, сложности выделения бурят из современного монгольского социума связаны также со сложившейся в Монголии спецификой конструирования этнической идентичности, позволяющей манипулировать идентичностью, когда «не халха- монгол старается подражать халха-монго-лу», «быть халха означает быть не только более/лучше монголом, но и настоящим/ истинным монголом (jinhin Mon^ol)». Приравнивание доминирующей этнической группы халха с «настоящими/ истинными» монголами способствовало установлению иерархии этнических статусов – кто более монгол, а кто менее. Интересно заметить, что в паспортах обязательно фиксировалась этническая принадлежность, скрывать ее считалось нарушением закона. Причем «монгол» как этнический термин не использовался, а «халха» как этническая идентичность была доступной для каждого3.
Материалы, собранные У. Б-улага во время проведения полевых исследований в 1991– 1992 гг. в Хэнтэйском, Дорнодском аймаках и г. Улан-Б-аторе, привели его к выводу о том, что желание стать халха более очевидно можно наблюдать во втором поколении. Приведем всего лишь несколько конкретных примеров из его работы4.
Дугарсурэн – среднего возраста барга из Хэнтэйского аймака. Е-го мать – барга, отец – бурят. Как сказал Дугарсурэн, согласно локальной практике, дети от смешанных браков, в данном случае барга и бурят, обычно выбирают идентичность стороны матери. Е-го жена бурятка, у них четверо детей. Все они учатся в Улан-Б-аторе. Они зарегистрированы как халха. Дугарсурэн пытался убедить, уговорить их зарегистрироваться как буряты, но ни один не послушался.
Проведенные нами в 2001–2002 гг. интервью, беседы с монгольскими мигрантами в Японии, а также наблюдения за бытовым дискурсом5 выявили следующий устойчивый факт: монголы Внутренней Монголии называли представителей Внешней Монголии обобщенно «халхачууд». Закономерен вопрос – почему именуют именно «халхачууд», только ли потому что халха-монголы составляют большую часть в этнической структуре Монголии?
Не являются ли ассимиляционные процессы одним из вариантов проявле- ния сформировавшегося на обыденном уровне представления об «этнической престижности» халха1.
Из содержания бесед с мигрантами из Монголии следовало, что вопрос об этнической принадлежности стоит на периферии их идентификационной матрицы. По словам информантов, их личностная включенность в свой этнический статус носила лишь формальный характер и находила выражение в необходимости фиксировать пункт об этнической принадлежности в паспорте. Между тем было заметно, что в обыденном сознании четко зафиксирована корреляция между местом проживания и этнической группой. Традиционными в монгольской культуре являются вопросы «А-ль нутаг вэ?» («С каких земель? Где ваша Р-одина?»), «А-ль аймаг вэ?» («С какого района? С какого племени?»). Можно сказать, что эти вопросы обязательно включаются в традиционный этикет знакомства. В ответ, как правило, называют тот или иной административный район современной Монголии, что служит основанием для идентификации человека по этническому признаку. Например, если человек говорит, что он из Хэнтэя или Дорнода, то собеседник подразумевает, что он, возможно, бурят, поскольку на этой территории в основном проживают именно буряты. Ч-то касается других распространенных ассоциаций территорий с этнической группой, то они следующие: Кобдо, Увс – торгуты, захчины, дурбэты, баяты; Б-аян Улгы – казахи; Сухэ-Б-атор – дарьганга; Убэр-Хангай, А-ра-Хангай, Б-аян-Хонгор, Забхан, Туб аймаг, Гоби А-лтай (некоторые сомоны), Дорно-Гоби, Дунда-Гоби, Умно-Гоби – халха; и т.д. Не менее важным признаком, по мнению многих, по которому можно определить этническую принадлежность, является диалект. Однако в настоящее время этот признак практически утратил свое значение, поскольку большинство населения Монголии хорошо говорит на халха-мон-гольском диалекте. В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу о том, что как бы формально не отрицалась значимость принадлежности к этнической группе (ястан) в среде современных молодых людей Монголии, эта форма групповой идентичности все равно находит свою пусть даже и косвенную (через ассоциацию с территорией) рефлексию. В конце 90-х гг. ХХ в. в Монголии была осуществлена смена гражданских паспортов. В новых паспортах в отличие от старого образца не указывается этническая принадлежность, но зато обязательным является пункт о родовой принадлежности. Целесообразность последнего объясняют назревшей необходимостью регуляции семейно-брачных отношений, поскольку численность населения страны невысокая.
В личностной иерархии идентификационных предпочтений на первое место из групповых идентичностей, как правило, выдвигается категория «я – монгол». В данном случае в один термин включаются и этническое содержание (монгольская нация / монгол ундэстэн), и понятие со-гражданства (монгол иргэн). Возможно, именно в силу этого обстоятельства некоторые граждане Монголии считают, что только те этнические группы (ястан), которые проживают в Монголии, имеют полное право называть себя «монголами». Причем, как было изложено выше, в специфически многоэтничной Монголии «настоящими» / «jinhin» монголами признаются халха, поскольку трансформация многоэтнического сообщества в единую монгольскую социалистическую нацию происходила на основе унификации, опирающейся на культуру и язык именно халхасцев.
Степень и форма осознания, т.е. этнической идентичности, бурят Монголии, во-первых, отягощены психологическом комплексом «страха», отпечатком печальных событий в образе прошлого, сформированным в контексте социальной памяти, во-вторых, обусловлены государственной политикой по формированию единой монгольской нации, приведшей к процессу «халхализации». Игнорировать присутствие бурят как отдельной этнической группы в социалистической Монголии не могли, поскольку в СССР- как этнофеде-ративном государстве они обладали реальным и символическим статусом в качестве титульной нации и реализовали право на национальную автономию. Вследствие чего буряты при всех переписях населения Монголии непременно включались в «список народов». Однако условность получен- ных данных относительно числа жителей, определяющих себя как буряты, как нам представляется, всегда была очевидной.
Учитывая, что реальность диаспоры зависит не только от демографических параметров, но и от наличия организации и возможности поддерживать хотя бы среди части соплеменников диаспо-ральную идентичность1, считаем необходимым указать, что в настоящее время в Монголии действует бурятская организация «Фонд по развитию бурятской культуры и традиций»2. Е-го создание (1993 г.) стало возможным в связи с распадом социалистической системы и превращением этничности в один из эффективно функционирующих институтов. Деятельность Фонда внесла свой позитивный вклад в возрождение бурятского языка, традиций и обычаев, в установление культурных связей между бурятами разных стран и регионов в Р-оссии: инициированный фондом в 1994 г. фестиваль «А-лтаргана» перерос региональные рамки и стал одним из главных «новых» праздников общебурятского масштаба, который проводится один раз в два года3. Центрами этнической активности бурятской элиты являются г. Улан-Б-атор, Дорнодский и Хэнтэйский аймаки, где ежегодно проводятся этнокультурные мероприятия. Б-уряты же Селенгинского, Б-улганского и Хубсугульского аймаков находятся на периферии этнического дискурса.
А-нализ характера взаимоотношений между разными территориальными группами бурят Монголии подтверждает факт сохранения значимости субэтнической принадлежности. Их административнотерриториальная организация до настоящего времени сохраняет и воспроизводит родо-племенную структуру бурятского общества, например: Хэнтэйский аймак в основном населяют хори буряты (роды: цагаан, галзууд, бодонгууд, шарайд, халь-бин, батнай, худай, гучид, хубдууд, харга-на, хуацай, баатад, баргужин, гахан, олхо-нуд, хурлаш, чонод, хар намяад, шарнууд, шээжин)4; в Селенгинском аймаке доминируют представители этнографической группы так называемых селенгинских бурят (роды: абгад, атаган-цонгол, ач абгад, ашибагад, баатад, баруун абга, бат-най, бодонгууд, булган-харнууд, гучид, юншээбуу, урлууд, узон, олед, поонхон, хамниган, хангад, хар намяд, хатагин, хирид, шарнууд, чонос)5; в Дорнодском аймакебольшинство составляют агинские буряты (роды: цагаан, галзууд, бодонгууд, шарайд, хальбин, худай, гучид, батнай, харгана, кроме них, шонос, буурал, абзай, хурамши, олзон, бахи)6; в Хубсугульском, Б-улганском аймаках основались представители племен хонгодор и булагат (роды: тэртэ, шошоолог, хурхууд, долоод, урян-хан, хавхчин, хонгодор, хурхад, уляад, тараач, мормонтонгууд, галзууд)7.
Как отмечают исследователи по материалам полевых исследований, контакты между этими группами носят редкий характер. В частности, польский исследователь Ш. Збигнев пишет: «Слабое сотрудничество между разными группами бурят в Монголии и гораздо большее значение родовых и территориальных контактов может указывать на незавершенность процесса этнической консолидации бурят в Монголии. Нельзя забывать, что изоляция отдельных бурятских групп, рассеяние в монгольской среде и годы репрессий не способствовали таким процессам. Р-одственные и территориально-родовые связи составляют на сегодняшний день эффективную форму групповой организации, направленной на достижение определенных экономических, политических и социальных целей. Этническая идентичность зачастую бывает прежде всего социальной практикой, используемой в повседневной реальности. Некоторые из этих групп в поле своего влияния создают сеть неформальных – но общепринятых – свя- зей, иерархий и взаимных обязательств»1. Действительно, приходится констатировать, что в повседневной стратегии монгольские буряты, компактно проживая на приграничной территории, больше ориентированы на контакты с родственниками по другую сторону границы, чем на местные внутрибурятские отношения, а администрации аймаков с «бурятскими» сомо-нами устанавливают дружественные связи с «родственными» районами в Б-урятии, например, между Селенгинским аймаком Монголии и Селенгинским районом Р-еспублики Б-урятия недавно подписан официальный взаимовыгодный договор об экономическом и культурном сотрудничестве, а население Хубсугульского, Б-улганского аймаков является непременным участником крупных мероприятий в Тункинском, Закаменском районах Р-еспублики Б-урятия, самым знаковым из которых является фестиваль хонгодоров2. Б-урятское население Хубсугульского, Б-улганского, Селенгинского аймаков не проявляет широкой инициативы, направленной на интеграцию с хоринскими и агинскими бурятами Хэнтэйского и Дорнодского аймаков, а ограничивается делегациями на фестиваль «А-лтаргана». Другими словами, внутренняя культурная вариативность и деление на несколько групп есть реальность бурятской диаспоры в Монголии. Причины устойчивости их деления на локальные группы кроются, видимо, в содержании социальной памяти, обращенной к далекому прошлому (воспоминания об этнических истоках, происхождении), а также в особенностях исторического развития бурят. Как известно, буряты переселились в Монголию в основной своей массе в первой трети ХХ в., когда родоплеменная организация бурятского общества выступала основой групповой солидарности. Дальнейшее их этническое развитие определялось стратегией социально-политического развития страны проживания.
Национальная политика страны исхода (СССР-) и страны проживания (МНР-) в силу единства идеологических установок преследовала одну цель – формирование единого интегрированного народа: в одном случае – советского народа, в другом – монгольской нации. Теоретически казалось бы, что буряты Монголии и СССР- должны пройти одинаковый путь этнического становления. Однако если в СССР- этносоциальная структура населения носила сложный иерархический характер в силу признания советских этнонаций, в ряду которых значилась и бурятская нация, то в Монголии, которая является специфически многоэтничным государством, поскольку большинство населяющих ее этнических групп находятся в языковом и культурном родстве с халхасцами, концепт этнонаций с их правом на самоопределение не был востребован, и потому буряты Монголии в отличие от своих соплеменников в СССР-не были включены в бурятский национальный дискурс. Последнее не способствовало формированию особого этно-локального самосознания монгольских бурят и росту этнической сплоченности. Вероятно, именно поэтому родоплеменные, территориальные связи продолжают выполнять насущную потребность в преемственности, оставаясь в социальной памяти основным звеном в цепочке представлений об образе прошлого. С изменением социальной среды эти связи не утрачивают функционального содержания: именно этот уровень личностной идентификации продолжает играть «роль этнического маркера и института вхождения в унаследованную от предков этнич-ность через акцентирование «примордиальной» струны, присутствующей в каждом человеке»3 и вместе с тем внутренних барьеров в отношениях бурят Монголии.