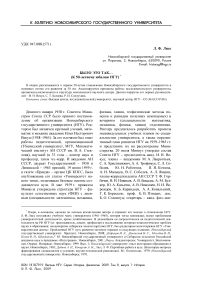Было это так… (к 50-летнему юбилею НГУ)
Автор: Лисс Лев Фадеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 50-летию Новосибирского государственного университета
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В очерке рассказывается о первом 20-летии становления Новосибирского государственного университета и основных итогах его развития за 50 лет. Анализируются принципы работы исследовательского университета, органически включенного в структуру комплексного научного центра. Даются портреты его первых руководителей - И. Н. Векуа, С. Т. Беляева, Р. И. Солоухина.
Высшая школа, исследовательский университет, научный центр, нгу - со ан (со ран)
Короткий адрес: https://sciup.org/14737028
IDR: 14737028 | УДК: 947.088.(571)
Текст обзорной статьи Было это так… (к 50-летнему юбилею НГУ)
Девятого января 1958 г. Советом Министров Союза ССР было принято постановление об организации Новосибирского государственного университета (НГУ). Ректором был назначен крупный ученый, математик и механик академик Илья Несторович Векуа (1958–1965). За его плечами был опыт работы педагогической, организационной (Тбилисский университет, МГУ, Математический институт АН СССР им. В. А. Стеклова), научной (в 33 года – доктор наук и профессор, затем чл.-корр. И академик АН СССР, лауреат Государственной – 1950 и Ленинской – 1963 премий). 19 июня 1959 г. в газете «Правда» – органе ЦК КПСС, была опубликована его статья «Университет нового типа», излагавшая базовые основы создающегося вуза. В мае 1959 г. приказом Минвуза утверждена структура НГУ – факультет естественных наук (ФЕН) с дневным (специальности: математика, механика, физика, химия, геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых) и вечерним (специальности: математика, механика, физика, химия) отделениями. Ректору предлагалось разработать проекты индивидуальных учебных планов по специальностям университета, а также перспективный план развития НГУ на 1959–1965 гг. и представить их на рассмотрение Министерства. 20 июля Минвуз утвердил состав Совета НГУ – председатель акад. И. Н. Ве-куа; члены – академики М. А. Лаврентьев, С. А. Христианович, А. А. Трофимук, С . Л. Соболев, Ю. Н. Работнов, П. Я. Кочина, А. И. Мальцев, В. С. Соболев, А. Л. Яншин, члены-корреспонденты АН СССР Т. Ф. Горбачев, И. И. Новиков , А. В. Бицадзе, А. М. Буд-кер, Ю. А. Косыгин, А. В . Николаев, Н. И. Ворожцов, К. Б. Карандеев, А. А. Ковальский, Г. К. Боресков; проф. Б. В. Птицын, доц. Б. О. Солоноуц; секретарь – канд. физ.-мат.
наук И. И. Данилюк. Это были крупные ученые мирового уровня, представлявшие все направления начинающейся подготовки специалистов. Большинство членов Совета (включая ректора) одновременно возглавляли создающиеся академические НИИ или их подразделения, были членами Президиума Сибирского отделения АН СССР (СО АН, в настоящее время – СО РАН). Так создавалась на личностном уровне крепкая «связка» НГУ – СО АН. Этим составом Совета закреплены в соответствующих нормативных документах основные принципы деятельности НГУ и его взаимодействия с СО АН, обсуждены и приняты первые индивидуальные учебные планы по специальностям университета. На первом заседании 26 сентября 1959 г. утверждены лекционные курсы на предстоящий учебный год, избраны заведующие, профессора и доценты отдельных кафедр.
Президиум СО АН 23 марта 1959 г. по докладу акад. И. Н. Векуа одобрил основные положения о принципах работы НГУ: сосредоточение общенаучной подготовки на трех младших курсах и включение старшекурсников в исследовательскую работу академических НИИ Новосибирского научного центра (ННЦ); привлечение к преподаванию общенаучных и специальных дисциплин, к руководству исследовательской работой студентов научных работников этих НИИ; организация учебного процесса на всех специальностях по индивидуальным учебным планам, отражающим современное состояние соответствующих наук. В мае Президиум заслушал сообщение ректора о подготовке к началу занятий и предложил ряду НИИ создать учебные лаборатории по физике и химии. Ровно через год начнется строительство учебного корпуса, который войдет в строй в сентябре – декабре 1962 г. Очень скоро университету станет в нем тесно и 1964/65 учебный год ряд отделений и кафедр встретят в крупной части нового институтского корпуса СО АН, переделанного под занятия студентов. В дальнейшем все важнейшие этапы развития НГУ будут регулярно рассматриваться Президиумом СО АН. Работа и нужды НГУ и физматшколы при нем всегда были предметом пристального внимания и заботы первого Председателя СО АН Михаила Алексеевича Лаврентьева. Неформальные личностные связи, устные договоренности руководства уни- верситета и факультетов с руководством СО АН и НИИ будут закреплены впоследствии и специальными договорными отношениями (последний такой акт – 1998, продление – 2006 г.).
В декабре 1958 г. начали работать курсы по подготовке к вступительным экзаменам в НГУ. Их проходили молодые строители Академгородка, рабочие и служащие предприятий Новосибирска. Занятия вели выпускники столичных вузов – в большинстве своем Московского физико-технического института (МФТИ) и МГУ. В августе 1959 г. из 1 023 абитуриентов на 1-й курс дневного отделения будет отобрано 189 человек, на вечернее – 119. По устоявшейся советской традиции начало учебного года было отдано уборке урожая в зерносовхозе «Раздольный» Коченевского района Новосибирской области. Лекцией перед студентами академика Сергея Львовича Соболева, выдающегося математика XX столетия, 29 сентября 1959 г. началось функционирование НГУ как учебного заведения. Этот день и принято считать датой рождения третьего по счету (после Томского и Иркутского) университета Сибири. В октябре из других вузов 43 студента было зачислено на 2 курс по специальностям математика, механика, физика. В дальнейшем на старший курс переведется еще несколько студентов. Педагогический коллектив составили 66 сотрудников академических НИИ и 9 штатных преподавателей. С самого начала было оговорено, что лекционные курсы могут вести только остепененные преподаватели. В первый год это были профессора, доктора наук А. В. Бицадзе, А. М. Будкер, Ю. А. Косыгин, Б. В. Птицын, Ю. Н. Работнов, С. Л. Соболев, С. А. Христианович; доценты П. П. Белинский, Б. В. Войцеховский, И. И. Данилюк, А. М. Дымкин, М. Ф. Жуков, А. А. Зыков, М. М. Лаврентьев, В. А. Михайлов, Г. К. Май-ковская, Л. В. Овсянников, Б. И. Пещевиц-кий, Ю. Г . Решетняк, Б . О. Солоноуц, Р . И. Солоухин, Л. В. Сабинин, П. В. Харламов, Б. В. Чириков. За год были основаны первые 15 кафедр и избраны их заведующими академики: И. Н. Векуа, П. Я. Кочина, М. А. Лаврентьев, А. И. Мальцев, Ю. Н. Работнов, С. Л. Соболев, В. С. Соболев, С. А. Христианович; члены-корреспонденты АН: А. В. Бицадзе, А. М. Будкер, Ю. А. Косыгин, А. В. Николаев. И. И. Новиков; проф. Б. В. Птицын, доц. Н. П. Антонов. С августа
1960 г. начала работать аспирантура университета.
Среди основателей ННЦ и НГУ было много выпускников столичных вузов – Московского и Ленинградского университетов, ряда ведущих отраслевых институтов. Большинство из них к тому времени поработали в высшей школе, хорошо знали ее отечественную систему. В составе первого Совета НГУ выпускниками МГУ были профессора А. М. Будкер, М. А. Лаврентьев, А. И. Мальцев, И. И. Новиков, Ю. Н. Работ-нов; доцент Б. О. Солоноуц; ЛГУ представляли профессора П. Я. Кочина, А. В. Николаев, Б. В. Птицын, С. Л. Соболев, С . А. Христианович. И. Н. Векуа, Ю. Н. Работнов, С. Л. Соболев, С. А. Христианович работали в МГУ. Многие из отцов-основателей хорошо знали и систему МФТИ по работе в нем, а С. А. Христианович занимался его организацией и несколько лет возглавлял. Представлены были и некоторые вузы Украины и Сибири, но не в таком объеме. Ассистентский корпус НГУ из числа научной молодежи Академгородка в большинстве своем составили выпускники физтеха.
И. Н. Векуа рассматривал университет как учебно-научное учреждение, в котором сосредоточены и взаимно обогащают друг друга все составные элементы современного научного знания – математического и естественно-научного, гуманитарного. Была знакома ему и система МФТИ, которой предстояло стать основой организации педагогического процесса в НГУ. Университет – это, прежде всего, общение ученых и студентов, их сообщество. Университет должен был содействовать и междисциплинарному общению самих ученых. По указанию ректора все специальные курсы и семинары проводились во второй половине дня, более свободной для общения и у студентов, и у ученых. И только в здании университета, куда всем открыт доступ. Скоро число таких курсов достигло двух сотен. Их содержание отражало, как правило, итоги и размышления, над которыми работал в это время сам ученый. На них ходили не только студенты, но и специалисты из академических НИИ, преподаватели других вузов города. Свой курс «Математическая теория оболочек» читал и ректор. В студенте ему виделся не вчерашний школьник, а если еще и не сегодняшний, то, по крайней мере, будущий партнер по науке. И он добивался, чтобы студенты познавали современную науку из первых рук, а для этого активно вовлекал в преподавание научную элиту Академгородка. Также следил ректор за тем, чтобы учились студенты на самом современном исследовательском оборудовании (и тем самым были готовы использовать его в НИИ), чтобы имели возможность длительный период работать в составе действующего научного коллектива.
Илья Несторович гордился своим университетом. Его педагогическим коллективом. Его учебными практикумами. Теми возможностями, которые предоставлял студентам Академгородок – дух, этос и воздух науки, труд в ней. Ректор старался, чтобы те, кто знакомился с работой университета, увидели все своими глазами. Опытный организатор, он хорошо понимал силу примера, здорового соперничества. Это была практическая агитация за современные методы подготовки специалистов. Показ реальных путей интенсификации учебного процесса, приближения его к жизни. И между вузами (не только Новосибирска, но и Сибири) развернулось негласное соревнование – быть не хуже, чем НГУ. Мечтал первый ректор и о его более широкой миссии. Ему виделся при университете Институт высших знаний по типу Копенгагенского Н. Бора. В него могли бы приезжать на длительную стажировку перспективные исследователи из разных мест страны; общаться с учеными, принимать участие в совместных исследовательских проектах; готовить и защищать докторские диссертации. Понимал И. Н. Векуа и необходимость создания бытовых условий студенческой жизни. Ему нравился опыт английских университетов по шефству старшекурсников (тьюторов) над младшекурсниками. Поэтому при проектировании студенческих общежитий была реализована блоковая структура из большой (на трех студентов), маленькой (для тьютора) комнат и туалета. НГУ получил семь таких общежитий.
И. Н. Векуа хорошо видел и понимал проблемы среднего образования, рассматривая его как базовое для вузов. Непрерывные реформы лихорадили тогда школу, но не решали главного – дифференциации обучения в соответствии со способностями и склонностями старшеклассников. Дело пришло к непреодолимому противоречию между переходом к всеобщему среднему образованию и пересмотром в соответствии с развитием науки содержания обучения, вводом поэтому новых учебников, зачастую неподъемных не только для учащихся, но и для педагогов. Преодолевая сопротивление сверху и снизу, по инициативе крупнейших ученых страны начали было разворачиваться физико-математические классы в старшем концентре школы, но судьба их во многих случаях очень быстро оказалась печальной. Многие из реформаторов просто не понимали, что ведущая фигура в школе – Учитель. Прежде чем менять содержание обучения (или, хотя бы, параллельно с этим), надо подготовить к такому повороту учительский корпус. И в этом ректор увидел главную задачу своего университета. Мин-прос благословил его инициативу и летом 1962 г. при НГУ начали работать курсы повышения квалификации для преподавателей математики и естественно-научных дисциплин средних школ Сибири. Программа переподготовки, подбор лекторов и руководителей практикумов – были за НГУ. Ставилась задача: показать педагогам современное состояние науки, познакомить их с ННЦ, теми требованиями, которые предъявляются к абитуриентам на вступительных экзаменах в НГУ. Через эти курсы прошла не одна сотня преподавателей математики, физики, химии, биологии школ от Урала до Камчатки. На этой огромной территории постепенно стали выделяться прекрасные средние школы, обеспечивавшие высокий уровень подготовки своим выпускникам. А ректор видел одной из задач своего университета – поддержку постоянных контактов с ними, помощь им в сохранении достигнутого.
Ректорскую эстафету (1965–1978) от И. Н. Векуа принял участник Великой Отечественной войны, выпускник физикотехнического факультета МГУ чл.-корр. АН, затем академик Спартак Тимофеевич Беляев. Из Института атомной энергии в Москве он перешел в ИЯФ и одновременно стал профессором НГУ. После 13 лет ректорства вернулся в Курчатовский институт. В отличие от предшественника второй ректор принял на свои плечи самый сложный в Академгородке многотысячный коллектив, не имея опыта административной работы. Но и к этой стезе он подошел как крупный ученый и быстро овладевал сложностями (а их возникало немало, даже по поводу основной миссии университета) новой дея- тельности. Он оказался достойным преемником первого ректора. Тот неформальный дух, который невидимыми путями формируется в коллективах любых организаций, а учебных – особенно, в значительной степени складывался под влиянием личности И. Н. Векуа и С. Т. Беляева. Оба они были людьми высокой культуры, широкого кругозора, глубокой порядочности. Поражало в Спартаке Тимофеевиче его умение подойти к любой возникающей проблеме (и не только университетской) с позиций исследователя – приподнять ее, показать ее истинную суть и возможные способы решения (элегантные и, зачастую, компромиссные). Ему было интересно работать совместно со студенческим активом над реализацией возникающих у них общественных инициатив (к примеру, проведения Интернедели, или вопросов движения студенческих строительных отрядов). Удалось ему и подвигнуть Минвуз на строительство второго учебного корпуса и здания фундаментальной библиотеки.
Два первых университетских года все текущие учебные дела «тащил» на своих плечах декан ФЕН выпускник МГУ доцент Борис Осипович Солоноуц (1959–1961). Он был опытный вузовский работник (МВТУ, МГУ, МФТИ), активно участвовавший в организации МФТИ. Первые наши выпускники и сейчас вспоминают «БОСа» добрым словом. Однако, похоже, твердая приверженность всем тонкостям физтеховских канонов привела его к противоречию с той частью ученых, которая видела в формирующемся вузе классический университет, а не технический институт, и он вернулся в Москву. Когда на третьем году своей деятельности НГУ обрел законную должность проректора по научной и учебной работе, временно ее занимал (1961–1962) выпускник МГУ чл.-корр. АН (затем академик) Дмитрий Васильевич Ширков. В ННЦ он перешел из Объединенного института ядер-ных исследований в Дубне, создал свое подразделение в ИМ СО АН и кафедру теоретической физики в НГУ. Должность проректора перешла (1962–1967) к заведующему лабораторией Института гидродинамики СО АН Рему Ивановичу Солоухину, тоже выпускнику МГУ. Он принадлежал к той, легендарной теперь, плеяде первопроходцев, которые последовали по призыву академика М. А. Лаврентьева в далекую Си- бирь, где во времянках Золотой долины начинался научный центр. До этого он успел поработать в Энергетическом институте АН, МГУ и МФТИ. Уже в проректорской должности он защитил докторскую диссертацию (1964), в 35 лет стал лауреатом Ленинской премии (1965), затем был избран членом-корреспондентом АН СССР (1968). После ухода с административной работы в НГУ Р. И. Солоухин был заместителем директора ИЯФ (1968–1971) и директором ИТПМ СО АН (1971–1976). Одновременно возглавлял кафедры ФФ НГУ – общей физики (1966–1972), физической кинетики и оптики (1972–1976), которую сам и основал. Став академиком АН Белоруссии, он возглавил в Минске НИИ этой академии и кафедру в Белорусском государственном университете (1977–1988).
Рем Иванович ведал тогда всем комплексом дел, который впоследствии был распределен между многочисленной проректорской командой. На его плечи и легла вся текущая организационная работа по отработке учебного процесса, по отладке взаимодействия НГУ с НИИ СО АН, по налаживанию работы кафедр и деканатов, по развитию хозрасчетных НИР и многое другое. Приходилось ему решать не очень простые в период становления хозяйственные и кадровые проблемы, замещать ректора на время его многочисленных отлучек из Академгородка. Р. И. Солоухин был ближайшим помощником ректора во всех университетских делах – инициативным, порядочным, добросовестным. Работали они очень слаженно, уважительно относясь друг к другу. Стиль работы проректора отличала собранность. Он умел организовать себя и организовать дело. Суть проблемы схватывалась им «с лету», несколько секунд взгляда в сторону – размышление, и решение принято и сформулировано. Брать на себя ответственность он не боялся. Длинные очереди в приемной – явление редкое; бессмысленные и тягучие совещания – исключены. Дело, по возможности, сразу доводится до конца без откладывания в «долгий ящик». Поражало его умение видеть людей. Пожалуй, именно видеть. Было интересно наблюдать, как он подписывал студенческие документы нового набора. И прежде чем следовал четкий росчерк – «Р. Солоухин», быстрый взгляд на фотографию будущего студента. И не вскользь, и не только с доб- рожелательным любопытством. Эти фотографии имели для него принципиальное значение, что-то они ему говорили… Несмотря на то, что университет не страдал от переизбытка кадров, существовало «железное» правило: брать только достойных. Это был принцип формирования ННЦ. А вот «пропустить» претендентов через себя (даже на обслуживающие и вспомогательные должности) – это было делом проректора. Особых ошибок при этом не было. А уж если претендент прошел оценку, принят и получил свой участок работы, то – полное доверие, никакой опеки. Компетентность и преданность организации – это те черты, которые особенно импонировали проректору. И. Н. Векуа очень ценил организаторский талант своего заместителя и рекомендовал его в качестве своего преемника на ректорском посту. Вопрос этот был согласован на всех руководящих уровнях, но исполнял эти обязанности Р. И. Солоухин недолго (1965). Похоже, он слишком круто взялся за некоторые сложные университетские проблемы, среди части ученых возникла оппозиция, и ему пришлось оставить ректорство.
В 50-е гг. XX в. научному сообществу становилось ясно, что «прорывные узлы» скапливаются именно на «стыках» наук, а подготовить кадры для их разрешения способны только университеты (или их аналоги). Университет в научном центре рассматривался и как катализатор развития сибирской науки и внедрения ее достижений в практику. Университет, который Академия создавала для того, чтобы он непрерывно воссоздавал Академию. Для основателей очевидной была стратегия опережающего по отношению к НИИ развития подготовки специалистов в НГУ. И не только потому, что тогда шел процесс становления исследовательских коллективов, но и на будущее. Как одна из гарантий от возможной стагнации научного центра, обеспечивающая его мобильность и создающая условия для адекватного отклика на непрерывно возникающие новые направления исследований. Как средство реализации достижений фундаментальной науки в практику, ибо без адекватного кадрового сопровождения новые техника и технология – мертвы. Популярностью тогда и впоследствии пользовалась формула Председателя Сибирского отделения АН СССР Михаила Алексеевича
Лаврентьева о единстве и взаимодействии научных и прикладных исследований, разработок и подготовки кадров: «наука – образование – производство». Так впервые была выдвинута та идея, которая позже стихийно реализовалась в США в форме Кембриджского технополиса и постепенно распространилась по развитым странам мира. Поднимался временами и вопрос об открытии в НГУ инженерно-технического факультета. Вначале эта идея не могла быть осуществлена из-за отсутствия в ННЦ соответствующих преподавательских кадров и необходимости иметь специфические учебные практикумы (дефицит учебных площадей – вечное зло нашего университета). Затем эту проблему частично решил акад. А. М. Будкер за счет сотрудничества ИЯФ с Новосибирским электротехническим институтом на физтеховских принципах. Похоже, что сейчас, когда лидирующие в экономике высокие технологии имеют в качестве базовой основы фундаментальное научное знание, эта идея вновь всплывет. Как показывает опыт рубежа XX–XXI вв. (ФРГ, Великобритания), решить ее просто за счет смены вывесок (объединения технических и педагогических институтов в университеты) не удастся. Слишком велик вековой разрыв в традициях и ценностях университетов и прикладных вузов.
Создание университета как органической составной части комплексного научного центра, где даже территориально все рядом, открывало совершенно новые перспективы организации учебного процесса. Здесь можно было получить новое качество, привлекая работающих в современной науке ученых к обучению студентов на всех стадиях учебного процесса. М. А. Лаврентьев выдвинул тогда броский лозунг: «Нет ученых без учеников». Студенты НГУ получали возможность включиться в научную коммуникацию уже на ранних стадиях учебного процесса, а на старших курсах – стать полноправными членами научных коллективов академических НИИ с их элементами разделения труда и творческого сотрудничества. Вращаясь в этой атмосфере, будущий специалист впитывает тот неформальный этос с его ценностями, который характерен для научного сообщества. Университет тем самым создавал условия и для междисциплинарного общения. Этой же цели служат и ставшие традиционными сначала Всесоюз- ные, а теперь – Международные научные студенческие конференции (их прошло уже 47), собирающие сотни молодых исследователей. Постепенно возникнет серия таких конференций по актуальной, но более узкой проблематике. Вся эта стратегия выдвигала ряд сложных проблем – сосредоточить общенаучную подготовку преимущественно на трех младших курсах и без ущерба для ее качества, одновременно дополнить ее на многих специальностях серьезными физикоматематическими дисциплинами. При этом избежать чрезмерной загрузки студентов аудиторными занятиями и заданиями. Надо было смело браться за пересмотр как структуры учебных планов, так и самого содержания общенаучных дисциплин (даже классических) – осовременить их и за счет этого создать компактные учебные курсы. Привлечение лекторами ведущих ученых Академгородка и должно было осуществить такой прорыв.
Руководство НГУ и СО АН было превыше всего озабочено качеством обучения. Ясно, что ведущим среди ряда компонентов этого является Учитель – профессор. Поэтому всеобщим было стремление привлечь в университет ведущие научные силы ННЦ на основе совместительства. Но это не значит, что вузу не нужны и его собственные, штатные кадры преподавателей. Не всегда необходимые для подготовки специалиста данного профиля дисциплины могут быть «закрыты» за счет кадров НИИ; не всякий сильный исследователь может оказаться приличным педагогом и, наоборот, классный педагог по общенаучным дисциплинам, может и не быть сильным исследователем, наконец, в вузовской жизни есть много моментов, где необходимо более тесное вне-учебное общение педагогов и студентов. В условиях руководящей роли КПСС в советском обществе выход был найден в переводе части совместителей-коммунистов на партийный учет в университетскую парторганизацию и, соответственно, включения их в различные аспекты ее деятельности. Возможны и другие пути этого. Проблема не в противопоставлении штатного и совместительского составов, не в скрытых и открытых намеках на «ущербность» совместительства, а в нахождении в конкретной практике оптимального соотношения того и другого. Ведь в высшей школе работает совершенно другой критерий – состоялся пре- подаватель как наставник студенчества, как Учитель, или нет. Через совместительство может быть решена задача тесной, на личностном уровне связи вуза с производством, реальной практикой. Преимуществами совместительства является возможность ежегодного отбора более сильных педагогов, а также то, что учебная нагрузка у них вдвое ниже, чем у штатного преподавателя.
Для реализации качества подготовки необходима обратная связь как от студентов, так и от выпускников. Это хорошо понимали и Р. И. Солоухин, и С. Т. Беляев. По инициативе последнего в университете в 60–70-е гг. работала небольшая социологическая группа по вузовской проблематике. Ею был прослежен весь путь формирования специалиста – от входа до выхода: структура университетских абитуриентов и факторы выбора профессии, адаптация первокурсников к университетской жизни и корреляция результатов вступительных экзаменов с последующим обучением на разных курсах, работа старшекурсников в НИИ и выпускников университета в различных организациях (академических и прикладных НИИ, высшей школе). Специальные опросники были разработаны для изучения мнения студентов о ходе учебного процесса по конкретной дисциплине. С согласия лекторов они отрабатывались на курсах С. Т. Беляева, Ю. Б. Румера, Р. И. Солоухина и других. Вся первичная информация по проводимым исследованиям в таблицах и графиках поступала непосредственно Спартаку Тимофеевичу. Ему было интересно читать их и самостоятельно делать соответствующие выводы.
И. Н. Векуа, как и С. Т. Беляев обладали удивительно обостренным чутьем на все новое, прогрессивное. Бывая в лучших университетах мира, они стремились высмотреть то, что можно было бы позаимствовать для своего НГУ. Они умели улавливать перспективные направления движения научного знания и, ломая формальности, вводить их в университете. О постановке новых курсов и практикумов, оригинальном подходе к, казалось бы, уже давно устоявшимся дисциплинам и говорить не приходится. Это было и есть стандарт университетской жизни. Здесь впервые началось чтение таких курсов, как «Алгоритмы и рекурсивные функции» (акад. А. И. Мальцев), «Оптимальное программирование» (чл.-корр.
Л. В. Канторович), «Теория кубатурных формул» (акад. С. Л. Соболев)… Или кардинальная перестройка курсов общей физики на ФФ (под руководством чл.-корр. А. М. Будкера), физической химии на ФЕН (под руководством акад. Д. Г. Кнорре). Даже такая, казалось бы, классическая в обучении математиков дисциплина как «Математический анализ» предлагалась каждым лектором (будь то член Академии или доцент) в оригинальной интерпретации. По новому перестраивал курс теории вероятностей и математической статистики акад. А. А. Боровков. Совершенно новые курсы разработали – высшей математики для биологов доцент Ю. И. Гильдерман, теоретической органической химии для химиков доцент В. А. Коптюг… Или оригинальная перестройка учебных практикумов по физике и химии. Наконец, пионерская разработка и введение компьютерных практикумов по машинному моделированию природных и общественных явлений и процессов, а также по средствам автоматизации измерений. Это потребовало разработки и создания как соответствующей дополнительной электроники к выпускавшимся тогда отечественным ЭВМ, так и оригинального программного обеспечения, что и было выполнено специалистами НГУ и ИЯФ. Созданная в НГУ мощная терминальная вузовская система успешно эксплуатировалась несколько лет более чем в 100 вузах и организациях страны. Решающую роль в создании творческих возможностей для студентов по работе на ЭВМ сыграл С. Т. Беляев. Сегодня уже оснащенные новейшем оборудовании такие практикумы работают на большинстве университетских специальностей. И это всего лишь малая толика того, что делалось тогда и в дальнейшем. На основе оригинальных лекций и руководств к практикумам издавались и издаются в университетском и центральных издательствах учебники и учебные пособия, монографии. И если где-то в 80-е гг. статус университета как экспериментального вуза будет признан официально, то зарождался он в затяжной и отнюдь не легкой борьбе с теми, кто стремился подвести новорожденный вуз под общий знаменатель, усредненный ранжир. И здесь И. Н. Векуа, С. Т. Беляев и их преемники были непреклонны, смело брали на себя ответственность за нетрадиционное решение проблемы, выходили на любой необходи- мый уровень, чтобы доказать право на существование именно такой системы подготовки кадров. Эти максимы хорошо понимали все, кто стояли у истоков НГУ. О принципах работы нового вуза в едином ключе выступали в центральной и местной прессе академики М. А. Лаврентьев, А. И. Мальцев, С. Л. Соболев, С. А. Христианович…
Первоначально структура подготовки специалистов в НГУ носила явный математический и естественно-научный уклон, опираясь на целую группу разворачивавшихся академических НИИ соответствующего профиля. А среди отцов-основателей царило жесткое неформальное соглашение – специальность в университете создается только в том случае, если ее возглавит маститый ученый не ниже доктора наук. И это была та объективная ситуация, которую не мог не отразить университет, исходя из основополагающих принципов своей работы. Однако многие ученые, работавшие на «острие» современной науки, были убеждены, что без адекватно развитого гуманитарного образования настоящего университета быть не может. Обязательные для всех «общественные науки» (история КПСС, марксистско-ленинская философия, политэкономия, научный коммунизм) не могли выполнить эту функцию. Это были политизированные дисциплины, содержание и преподавание которых жестко контролировалось партийными органами. Ситуация изменилась с приходом в СО АН сибиреведов: историка и археолога А. П. Окладникова, филолога – специалиста по лингвистике коренных народов Сибири В. А. Аврорина, а также специалиста по экономико-математическому моделированию и политической экономии А. Г. Аганбегяна с группой своих коллег. Все трое вскоре были избраны членами-корреспондентами АН, получили возможность создать свои подразделения в Институте экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП). Сопротивление Минвуза (полагавшего, что гуманитариев в стране и без того готовится слишком много) с трудом, но удалось преодолеть. В 1962 г. в НГУ были открыты специальности: история, математическая лингвистика и экономическая кибернетика, в содружестве составившие гуманитарный факультет (ГФ – первый декан чл.-корр. АН В. А. Аврорин). Так начал реализовываться широкий спектр подготовки историков, фи- лологов и экономистов. Стремительно росшее количественно экономическое отделение было выделено в 1967 г. в факультет (ЭФ – первый декан д-р экон. наук, проф. Б. П. Орлов). Матлингвистов готовили недолго, хотя и удалось выпустить небольшую группу этих специалистов. Споры отдельных ученых по поводу принадлежности данной дисциплины – математике или лингвистике – закончились ликвидацией перспективного направления. Прохладное отношение части естественников к развитию гуманитарных специальностей в стране существовало, но было связано с идеологической функцией отдельных направлений гуманитарного знания и, особенно, их идеологов в советском обществе. Однако ученые мирового уровня уже тогда хорошо понимали, что наука едина, что гуманитарное знание выполняет в ее развитии не менее важную функцию, чем естествознание. Более того, успехи естествознания ставили в порядок дня вопрос об их человеческом измерении, характере их гуманитарной направленности, ответственности ученых за практическое использование их открытий. Именно о широкой миссии ГФ в университете в целом не раз говорил С. Т. Беляев с его коллективом. Но мизерный состав факультета объективно не мог этого выполнить. Частично это стали решать ориентированные на всю студенческую массу факультет общественных профессий (с 1971) и кафедра истории культуры (с 1988). С созданием в последнее десятилетие ряда новых гуманитарных направлений такие возможности расширились, но говорить о завершении процесса гуманитаризации еще рано.
Наследуя традиции лучших отечественных и зарубежных университетов, ленинградского и московского физтехов, НГУ торил свою дорогу в высшем образовании. Считалось очень важным, чтобы ведущие ученые не просто читали свои курсы студентам, но, возглавив соответствующие кафедры, постепенно комплектовали их необходимым педагогическим составом и тем самым с самого начала задавали уровень профессионализма в их работе. Постепенно к работе со студентами на разных уровнях подключалась и научная молодежь. ННЦ и НГУ стремительно росли, развивались новые направления и соответственно – подразделения. Приехавшие вначале со своими научными руководителями выпускники сто- личных вузов, аспиранты и ассистенты становились кандидатами наук, а кандидаты – докторами, руководителями научных подразделений. Они шли на педагогическую работу в университет, чтобы еще со студенческой скамьи отобрать и сформировать своих будущих сотрудников и сподвижников. Принятая система позволяла вести как групповую, так и «штучную» подготовку кадров. Лишь бы нашлись студенты, увлеченные какой-то проблемой. Лишь бы университет смог обеспечить руководство столь же увлеченным исследователем или помочь завершить специализацию в одном из центральных вузов. Несколько примеров. Четверо студентов (два математика и два физика) сговорились и буквально «на коленях» реализовали в «железе» и программном обеспечении нигде не выпускавшуюся ЭВМ, теоретически описанную в монографии одного из классиков программирования. Эта работа получила всесоюзный резонанс. «Сам себя сделал» (со стажировкой в ЛГУ и МГУ) первый гумфаковский египтолог. Он стал крупным специалистом в этой области, доктором наук. Под его руководством состоялся как ученый и второй египтолог, приглашенный впоследствии на работу в Эрмитаж. По «штучной» модели были защищены на ГФ и первые в НГУ историко-социологические дипломы. По модели «малых групп» начинались специализации по биохимии и математической биологии (ФЕН), системному программированию и физико-технической информатике (ФФ), японоведению и китаеведению, романо-германской филологии, журналистике (ГФ), социологии и менеджменту (ЭФ)… По мере роста потребностей в соответствующих специалистах и возможностей университета такие «зародыши» разворачивались в отделения и самостоятельные факультеты. Желание отдельных студентов реализовать свои творческие амбиции привело к созданию на ФФ специальной лаборатории физического эксперимента для младшекурсников. Не случайно одна из первых Всесоюзных выставок научно-технического творчества молодежи была проведена на базе НГУ.
При своей организации НГУ получил разрешение строить подготовку специалистов не по типовым для всех университетов страны, а по индивидуальным учебным планам. Еще такое право имели тогда самые выдающиеся университеты, вроде МГУ или ЛГУ. НГУ начал свою работу по примерным прикидкам без строго разработанных планов. С точки зрения обычной бюрократической нормы это было более чем ужасно, это было чуть ли ни преступно. Отработав некоторый стандарт текущих дел, деканаты и кафедры факультетов, специально созданные методические комиссии (в составе ведущих ученых Академгородка, крупнейших специалистов в своих отраслях науки) вплотную занялись этой проблемой. Ее сложность состояла в том, чтобы уложить новую систему подготовки кадров в жесткие министерские предписания по организации учебного процесса в вузе. Лишь глава методической комиссии ММФ акад. Анатолий Иванович Мальцев твердо стоял на том, что учебная нагрузка студентов этого факультета может быть не только уложена в министерскую норму, но и снижена до 28–30 учебных часов в неделю. Здесь превалировали курсы по различным разделам математики и механики, что создавало возможности их «ужимания». А как было «выкрутиться» ФЕН или ГГФ, чтобы совместить сильные курсы математики и физики с солидным набором профилирующих по данному направлению общенаучных и специальных дисциплин? А какие «баталии» разгорались по этому поводу на Советах факультетов… Возглавляя общеуниверситетскую методическую комиссию, Р. И. Солоухин должен был проявлять и выдержку, и такт, и умение находить компромиссы. В самых сложных ситуациях приходилось подключаться И. Н. Векуа. Всегдашней своей мудростью, спокойной уравновешенностью он умел гасить не в меру разгоравшиеся было страсти. Чудеса элегантности по самым трудным направлениям в этом плане – химии и биологии проявлял декан ФЕН тогда чл.-корр. АН В. В. Воеводский. Компромисс, в конце концов, всегда находился к обоюдному удовлетворению спорящих сторон. Вся эта работа заняла больше года. Планы были не только составлены, утверждены Советами факультетов и университета, но и весной 1964 г. получили «зеленый свет» в Министерстве. Об этом ректор специально договорился с тогдашним первым замом союзного Министра, который без проволочек и подписал их. А НГУ обрел официальное право работать по собственному разумению. В живой университетской практике эти пла- ны стали отнюдь не догмой, а некоторым общим ориентиром. За прошедшие полвека было создано не одно поколение учебных планов специальностей. Но их изначальная общая направленность сохранилась.
С основания университета шли споры по поводу собственной научной работы вуза, органично вписанного в структуру научного центра. По мнению И. Н. Векуа, исследования должны вестись и в НГУ, дополняя таковые в академических НИИ. М. А. Лаврентьев парировал это тем, что Минвуз никогда не обеспечит материальную базу, сравнимую с таковой в Академии наук. Поэтому лучше взять подходящего для преподавания в НГУ ученого в соответствующий НИИ, а работать со студентами он будет как совместитель. Похоже, что правы были оба. И не только по поводу интересов штатных педагогов, но и амбиций (в области исследований и разработок) выпускников, не всегда находивших желаемое направление деятельности в НИИ. Наконец, ниша для исследовательского содружества НГУ – НИИ стала вырисовываться как совместная работа на хозрасчетной основе. Пионером выступило хозрасчетное подразделение – Лаборатория экономико-математических исследований (ЛЭМИ, 1962 г.), организованное А. Г. Аганбегяном с согласия ректора. Поддержал эту новацию и М. А. Лаврентьев. Постепенно о хозрасчетных возможностях НГУ прознали и другие НИИ (не имевшие таких прав), и университетский научно-исследовательский сектор (НИС) начал набирать силы. Его обороты стали исчисляться миллионами рублей, а к его работе приобщаться и штатные работники университета и его студенты. Проблема научных исследований в вузе, работающем в едином комплексе с базовыми НИИ, проявилась и в МФТИ. Его ректоры академики О. М. Белоцерковскиий и Н. В. Карлов пришли к выводу – не отходя от генерального принципа опоры на базовые НИИ, необходимо развивать и собственные научные подразделения. Поле современной науки столь обширно, что всем хватит места. Лишь бы это была Наука, а не ее имитация. Тем более это относится к прикладным исследованиям и разработкам. Многие из возникших в свое время подразделений НИСа успешно работают и сегодня, а сам он преобразовался в научно-исследовательскую часть. Став директором ИЭОПП, акад. А. Г. Аганбегян создал, по существу, и пер- вый научно-учебный комплекс – объединенную дирекцию академического и отраслевого НИИ, а также подразделений экономической направленности НГУ (ЭФ, ЛЭМИ, спецфак).
Обычно становление нового вуза занимает десятилетия. НГУ прочно встал на ноги за четыре учебных года. Переломным в этом плане можно считать 1962/1963 учебный год. К этому времени были развернуты все основные специальности и факультеты последующего периода. Из ФЕНа в 1960 г. выделился физико-математический факультет (декан – доц. Р. И. Солоухин). В 1961 г. он был разделен на факультеты механикоматематический (ММФ, декан – проф. П. П. Белинский) и физический (ФФ, декан – доц. Р. И. Солоухин). В 1962 г. был выделен геолого-геофизический факультет (ГГФ, декан – акад. В. С. Соболев). Так ФЕН принял свой современный вид – как содружество химиков и биологов; его первым деканом в этом качестве стал чл.-корр. АН В. В. Воеводский. С 1963 г. вечернее отделение было реорганизовано в самостоятельный факультет; в последующем, с завершением миссии по приобщению к высшему образованию вспомогательного и технического персонала НИИ, он был упразднен. Общее число общеуниверситетских и факультетских кафедр достигло 40. Началась дифференциация кафедр на общенаучные, занимающиеся преимущественно учебным процессом, и выпускающие – курирующие исследовательскую деятельность студентов в НИИ и подготовку дипломных работ. Но и те и другие базируются на соответствующих подразделениях одного или нескольких НИИ. Так, по существу, стали возникать первые учебно-научные центры. Занятия со студентами вели 383 преподавателя; из них: в штате 98 человек, по совместительству – 122 и с почасовой оплатой – 163. 70,5 % педагогов составили специалисты высшей квалификации – 58 докторов наук, профессоров (25,5 %) и 129 кандидатов наук, доцентов (45 %). Преимущественно это были ученые из академических НИИ – ¾ всего педагогического коллектива (95 % докторов и 77 % кандидатов наук). Научными сотрудниками выполнялось 83 % лекционных курсов и ⅔ практических, семинарских и лабораторных занятий. Был освоен свой учебный корпус, развернуты лаборатории практикумов по физике и химии, орга- низованы экспериментально-производственные мастерские. К этому времени удалось разработать и принять основные документы, регламентирующие деятельность вуза – Положение об НГУ (1960), Устав НГУ (1962, последняя редакция – 2002); положения по организации учебного процесса и исследовательской практики студентов в академических НИИ (1962) и др. На пяти основных факультетах обучалось 1 100 студентов; 210 старшекурсников вели исследования в подразделениях академических НИИ. Прием на первый курс в 1962 г. достиг 436, а в 1963 г. 611 чел. В июле – августе 1962 г. состоялась первая летняя школа старшеклассников, победителей Всесибирской олимпиады по математике и физике, а в январе 1963 г. начала работу первая в стране специализированная физико-математическая школа-интернат (ФМШ) при НГУ, созданная СО АН и НГУ как первая ступень при подготовке кадров для науки. В августе 1963 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации школ-интернатов физико-математического и химико-биологического профиля при Московском, Ленинградском, Новосибирском и Киевском университетах. В последующем ФМШ будет преобразована в Специализированный учебно-научный центр физико-математического и химико-биологического профиля (СУНЦ НГУ). Можно полагать, что с защитой в декабре 1963 г. первых 60 дипломных работ и утверждением учебных планов специальностей в 1964 г. завершился первый этап становления университета. Итоги его И. Н. Векуа подвел в обширной статье «Высшая школа в научном центре Сибири», опубликованной в журнале «Вестник АН СССР» (1964, № 6). Завершилась она многозначительно: «Становление НГУ еще далеко не закончено. Он будет дальше расти и развиваться вместе со всем научным центром». Это был завет первого ректора на будущее…
В заключение некоторые формальные данные последующих лет. Ректорский пост занимали академики: Валентин Афанасьевич Коптюг (1978–1980, химик; далее возглавил СО АН), Анатолий Пантелеевич Деревянко (1980–1982, историк; далее – директор Объединенного института истории, филологии и философии СО АН), Владимир Елиферьевич Накоряков (1983–1985, физик; далее – директор Института теплофизики). Оба последних окончили сибир- ские вузы, аспирантуру проходили в НГУ и СО АН. Затем ректорство перешло к выпускникам НГУ: акад. Юрию Леонидовичу Ершову (1986–1994, математик), д-ру физ.-мат. наук, проф. Владимиру Николаевичу Врагову (1994–1997, математик), чл.-корр. АН Николаю Сергеевичу Диканскому (1997–2007, физик), д-ру хим. наук, проф. Владимиру Александровичу Собянину (с 2007, химик). За эти годы не всегда без сложностей, но неуклонно шло дальнейшее развитие университета. На шести первых факультетах сформировались новые отделения (направления). Как заново, так и на основе некоторых старых направлений образовано семь новых факультетов (в скобках – год основания и данные о первом декане): философский (только с магистерским циклом, 1993; д-р филос. наук, проф. В. С. Диев); психологии (1999; канд. психол. наук, доц. О. Н. Первушина); иностранных языков (1999; канд. филол. наук, доц. Г. Г. Куркина); информационных технологий (2000; д-р физ.-мат. наук, проф. М. М. Лаврентьев); журналистики (2000; д-р ист. наук, проф. Н. В. Куксанова); юридический (2002; д-р юрид. наук, проф. В. С. Курчеев); медицинский (2003; акад. РАН Л. И. Иванова). Непрерывно, по мере возникновения новых научно-технических направлений и «прописки» их в ННЦ, соответствующая кафедра открывается и в НГУ. Сегодня их свыше 110. В разы увеличилась и базовая составляющая университета в СО РАН, СО РАМН, Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», софтовых фирмах, ведущих медицинских учреждениях города. Приемы на 1-й курс первой ступени высшего образования выросли до 1 тыс. чел. Общая численность студентов и аспирантов превышает 6,5 тыс. чел. Выпуск специалистов всех уровней достиг 1,3–1,4 тыс. чел. В 2007 г. в университете работало свыше 1,9 тыс. педагогов (штатных и совместителей), в том числе около 550 докторов наук, профессоров (включая около 40 членов РАН) и свыше 700 кандидатов наук, доцентов. Более 80 % профессорско-преподавательского состава являются штатными сотрудниками НИИ ННЦ. При НГУ работают структуры подготовки – довузовской (СУНЦ и Высший колледж информатики; курсы и школы для старшеклассников) и поствузовской (Институт по переподготовке и повышению квалификации, Центр дополнительного образования, факультетские структуры дополнительного и второго высшего образова- ния). НГУ осуществляет научное и образовательное сотрудничество с десятками вузов РФ, Ближнего зарубежья, Европы, Америки и Азии. Научно-образовательные ресурсы ННЦ далеко не исчерпаны, особенно по подготовке специалистов высшей квалификации – магистров и докторов наук, поствузовской подготовки и переподготовки. Но это лимитируется отсутствием необходимых учебных площадей…
50-летняя деятельность НГУ подтвердила состоятельность избранной стратегии развития. Подготовлено более 40 тыс. специалистов. Большинство из них состоялись в научной и научно-педагогической деятельности, более 4 тыс. защитили кандидатские и более тысячи – докторские диссертации, около 50 стали членами РАН (ранее – АН СССР). Сегодня большую часть коллективов исследовательских учреждений ННЦ составляют выпускники нашего университета. Они возглавляют более двух десятков НИИ РАН и РАМН. Впервые в 2008 г. Председателем СО РАН избран выпускник НГУ физик А. Л. Асеев. Нет, пожалуй, в Сибири такого вуза, на кафедрах которого не работали бы представители НГУ. Многие выпускники трудятся в различных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Диплом НГУ признан мировым научным сообществом. Большие группы выпускников работают в США и странах Европы. Состоялись выпускники и в иных сферах деятельности – бизнесе, административной и партийной работе, массовой коммуникации, промышленности и т. д. Солидна роль НГУ и в переподготовке кадров ученых и практиков по новым направлениям науки и техники, педагогов высших и средних учебных заведений… Часто из бюрократических и журналистских кругов слышны сетования на то, что какая-то часть выпускников высшей школы работает не по полученной в ней специальности. Это очень узкий взгляд на роль высшего образования. Дело не в том, где и кем пришлось работать выпускнику вуза на своем жизненном пути, хотя в идеа- ле предпочтительна его реализация в полученной специальности. Но жизнь создает непредвиденные метаморфозы. Поэтому главное – сумел ли он адаптироваться к тем вариациям, которые преподнесла ему конкретная ситуация, сумел ли он состояться в своей деятельности. Элитные университеты мира прекрасно понимают свою миссию в современном постиндустриальном обществе и стремятся дать своим студентам широкий взгляд на природу и общество, на происходящие в них процессы, привить им исследовательский стиль мышления, способность к постановке и структурированию возникающих проблемных ситуаций, нахождению путей их поэтапного разрешения. НГУ принадлежат здесь лидирующие позиции.
Это очерк лишь о некоторых моментах первого героического двадцатилетия становления Новосибирского государственного университета и о людях, осуществивших это. Как говорил великий моралист Томас Карлейль, у всякого Дела должны быть свои Герои – Лидеры. Прежде всего, Люди – учащие и учащиеся, затем условия обучения и академическая свобода. Эта триада и формирует вуз мирового класса. Людей – подбирают, условия – создают, свободу – берут. Импульс, заданный нашему университету его основателями, продолжает действовать. Движение, развитие, как утверждали великие мыслители, – всеобщий и основной закон природы. То, что не развивается, обречено на стагнацию и вырождение. Это – не для НГУ. Два знаковых события лета и осени 2008 г.: открытие в НГУ научнообразовательного комплекса «Наносистемы и современные материалы» и «Учебнонаучного Центра Технологий Hewlett Pack-ard» – как для учебных целей, так и для фундаментальных и прикладных исследований и разработок. История развития НГУ как перспективной модели современного исследовательского университета ждет своих аналитиков…
Материал поступил в редколлегию 25.08.2008
IT WENT THIS WAY…