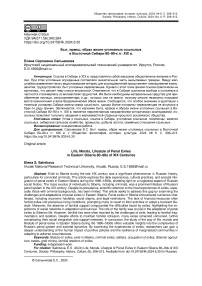Быт, нравы, образ жизни уголовных ссыльных в Восточной Сибири 80-90-х гг. XIX в
Автор: Сальникова Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Ссылка в Сибирь в XIX в. представляла собой массовое общественное явление в России. При этом уголовные осужденные составляли значительную часть высылаемых граждан. Ввиду масштабов применения такого вида наказания интерес для исследователей представляет повседневная жизнь, занятия, трудоустройство, быт уголовных переселенцев. Однако с этой точки зрения ссылка практически не изучалась, что делает тему статьи актуальной. Отмечается, что в Сибири ссыльные вообще и уголовные в частности сталкивались со множеством трудностей. Им были необходимы материальные средства для приобретения жилища, сельхозинвентарь и др., которых они не имели, поэтому многие незаконно покидали места причисления и вели бродяжнический образ жизни. Сообщается, что особое значение в адаптации к тяжелым условиям Сибири имела семья ссыльного, однако более половины переселенцев не вступали в брак по ряду причин. Заключается, что изучение быта, нравов и образа жизни уголовных ссыльных в Восточной Сибири 80-90-х гг. XIX в. является перспективным направлением исторических исследований, поскольку позволяет получить сведения о малоизвестной странице прошлого российского общества.
Устав о ссыльных, ссылка в сибирь, уголовные ссыльные, поселенцы, занятие ссыльных, сибирское сельское хозяйство, промыслы, добыча золота, семейные отношения ссыльных
Короткий адрес: https://sciup.org/149145548
IDR: 149145548 | УДК: 94(571.56):343.264 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.30
Текст научной статьи Быт, нравы, образ жизни уголовных ссыльных в Восточной Сибири 80-90-х гг. XIX в
Ссылка в Сибирь в XIX в. являлась распространенным видом наказания как для политических, так и для уголовных осужденных. При этом научное сообщество преимущественно обращает свое внимание именно на первых из названных1 (Болонев и др., 2007; Иванов и др., 2022; Королева, 2020; Архипов, Шкабин, 2021). Аспекты повседневной жизни уголовных ссыльных, включая их быт и трудоустройство, как правило, остаются вне поля зрения исследователей. Данное обстоятельство побудило нас обратиться именно к этой проблематике.
Устав о ссыльных2 являлся основным правовым документом, который регулировал порядок водворения неблагонадежных и осужденных граждан в Сибирь. Какова была судьба ссыльных в реальности? В соответствии с указом предполагалось отправлять их на заводы, в сельские поселения для выполнения общественных работ или на золотые прииски. Но на самом деле положение дел на местах было другим. Не хватало рабочих мест, заводов в Сибири было мало, и они не нуждались в расширении штата. Общественные работы также почти не проводились, поэтому большинство ссыльных направлялось в сельскую местность для поддержки аграрной сферы. Однако и здесь были серьезные трудности. По прибытии в деревню ссыльные получали в пользование участок земли, но пока он не был ими освоен, они были вынуждены временно размещаться в домах местных жителей. Многие старожилы с сочувствием относились к переселенцам и оказывали им помощь. Выделяемые ссыльным участки были такими же по размеру, как и у крестьян, но чаще всего они располагались на окраине и отличались низким плодородием. Более того, лишь немногие ссыльные могли приступить к обработке земли, так как это требовало финансовых вложений. Для успешного ведения сельского хозяйства требовалась лошадь, сельскохозяйственные орудия и жилище. Хотя цены на скот и лес в Сибири были ниже, чем в других регионах, минимальный капитал для начала хозяйственной деятельности составлял около 50 рублей. Лишь немногие ссыльные имели такие средства. Из «11 тысяч 258 ссыльных, направленных в Восточную Сибирь за 5 лет, 74 % прибыли без денежных средств, и на каждого ссыльного, у которого были деньги, приходилось 23 рубля»3.
Ввиду невозможности осваивать сельское хозяйство, большинство ссыльных вынуждены были искать другие средства для существования.
Согласно действовавшему законодательству, через 3 года после поселения ссыльные получали возможность заниматься ремеслами. Так, в «Енисейской губернии около 19 % местных жителей были заняты разными видами промыслов и ремесел, а среди ссыльных – 25,3 %. В Иркутской губернии соответственно – 23 % крестьян и 29,1 % ссыльных. Если для старожилов это был дополнительный доход, то для части ссыльных – основной» (Ядринцев, 1882: 265).
Большой процент ссыльных практиковали разовые черные работы, нанимаясь на работу к местным жителям в качестве батраков – 25,7 и 35,7 % соответственно в Енисейской и Иркутской губерниях (Ядринцев, 1882). Однако такая работа была низкооплачиваемой и не позволяла создать стабильный источник дохода.
Торговлю выбирали только 2,9 и 4,3 % ссыльных на указанных территориях, зачастую она осуществлялась переселенцами незаконно, без разрешения администрации. Среди таких торговцев было много евреев, людей с коммерческими наклонностями или тех, кто приехал в ссылку с деньгами4.
Около 1 % ссыльных становились писарями. В трех иркутских губерний насчитывалось 134 писаря, из них 39 были ссыльными. От писаря во многом зависела защита прав крестьянского общества и отдельных его представителей, так как большинство сельских жителей были негра-мотными5.
В 1870-х гг. в Енисейской губернии проводилась перепись, в ходе которой было выявлено, что среди ссыльных лишь 22 % имели жилище, 13 % располагали земельными угодьями; 57 % ссыльных, отправленных на поселения, находились в безвестном отбытии, и лишь 43 % присутствовали на местах. Из них 15 % составляли старики и инвалиды, а 7 % – одинокие и нуждающиеся (Ядринцев, 1882: 265). Расчет был проведен только по тем ссыльным, которые находились в общественном учете, и не включал тех, кто был уволен по паспортам и исчез без вести.
Из-за своего состояния здоровья многие ссыльные были вынуждены находиться на местах, куда их определили на поселение, не потому что имели склонность к оседлой жизни и стремление к улучшению своего финансового положения, а потому что в силу возраста и болезни не могли преодолевать большие пространства сибирского края или по другим причинам (леность, отсутствие сил или средств и т. д.). Они предпочитали просить подаяние, чем работать на земле. Число подобных ссыльных в Енисейской губернии в 1892–1896 гг. составляло 4,6 %, в Иркутской – 5,1 %1.
Главным показателем оседлого образа жизни для поселенцев являлось наличие собственного дома и двора – не имея своего жилища, трудно было заняться сельским хозяйством. «Среди местных жителей Енисейской, Иркутской губерниях и Забайкальской области всего 5 % не обладали недвижимостью. В то же время среди ссыльных в указанных областях доля тех, кто не имел дома, составляла 51,5; 51,4 и 34,5 % соответственно»2.
Самым предпочтительным для поселенцев занятием был наем на золотые прииски. В те времена 80 % всех рабочих месторождений составляли ссыльные. Их привлекало несколько причин – высокая заработная плата, задаток в 20–25 рублей, который предоставлялся золотопромышленниками при найме рабочих, возможность незаконной добычи и продажи золота на приисках, наличие «ярмарки» краденого золота в соседних городах, а также нелегальная продажа спирта. Перевозка алкоголя была опасной, но прибыльной, так как спирт продавался по высоким ценам на приисках3.
Число поселенцев, поступивших на работу на золотые прииски за десять лет с 1887 по 1898 гг. по Енисейской губернии увеличилось от 1,7 до 2 тыс. чел., а по Иркутской – достигло 11 тыс. Если в 1887 г. отправилось на золотые рудники 740 человек, то в 1896 г. – уже 1 494, а за следующие два года их количество увеличилось еще в 7–8 раз4.
Следует сказать о том, что большинство ссыльных не стремилось улучшить свое положение с помощью заработанных денег и не понимали важности экономии и борьбы с соблазнами. Рабочие, получив за лето на рудниках значительные суммы денег, в основной своей массе оставляли деньги в питейных заведениях.
Таким образом, для ссыльных, не занявшихся сельским трудом, в Сибири были доступны только два пути трудоустройства – приисковые работы, приводящие к разврату, к ослаблению физических сил и к нищенству, или разовые работы в качестве прислуги для крестьян-сибиряков.
Помимо материальных трудностей, переселенцы сталкивались с различными социальными и культурными проблемами. Местные жители часто воспринимали их как чужаков и с недоверием относились к их прошлому. Это создавало дополнительный стресс для граждан, сосланных в Сибирь, и затрудняло процесс их адаптации к новым условиям жизни. Такое отношение объяснялось еще и тем, что местное население несло тяжелые повинности, которые налагала на них ссылка. Они состояли в разного рода повинностях: на крестьян возлагалась обязанность предоставления подвод, препровождения ссыльных, содержания их в волостях, устройства на местах причисления, оплаты пребывания их в больницах и т. д.
В целом, анализ ситуации с переселенцами показал, что наиболее благоприятное положение имели семейные. Они чаще всего проявляли себя как самые трудолюбивые и целеустремленные колонизаторы, в отличие от одиноких, которые склонны были к беспорядочной жизни и преступной деятельности. Семейные старались избегать бродяжничества и безответственного образа жизни. У них имелось стремление укорениться и улучшить свое материальное положение. Естественно, среди них также встречались исключения, однако это были редкие случаи.
Первоначально бродяги, сосланные в Сибирь, подвергались ряду ограничений, одним из которых был запрет на вступление в брак в течение первых пяти лет. Данная мера преследовала цель снизить рождаемость среди ссыльных и воспрепятствовать образованию новых преступных сообществ. Однако, несмотря на запрет, браки среди граждан этой категории все же заключались. При этом доля женщин-ссыльных, которые вступали в брак с мужчинами той же категории, составляла от 3 до 4 %» (Сальникова, 2013: 445). В большинстве случаев это были женщины, имевшие семьи на родине и разобщенные с мужьями после ссылки. Для них брак в Сибири представлял единственный шанс на создание новой семьи и улучшение своего положения.
Официальная позиция государства в вопросе браков среди ссыльных была неоднозначной. С одной стороны, власти признавали необходимость создания условий для адаптации и реабилитации ссыльных и поддерживали браки между ними. С этой целью принимались меры по организации переселения семей к поселенцам и оказанию им финансовой помощи. С другой – действовавшее законодательство категорически запрещало заключение браков в первые годы ссылки. Например, прошение поселенца Оекской волости: «За несколько лет оседлой жизни я занялся хлебопашеством, обзавелся семьей, состоящей из 8 душ, но в настоящее время я уже не способен пропитать себя и свое семейство. А поселенец Дмитрий Савельич Путашев сватается к моей дочери, и я имею намерение выдать дочь за него, потому что он знает вполне крестьянское дело и может вселяться в мой дом вместо меня хозяином. Я и будущий зять обращаемся с просьбой о выдаче ему свидетельства на вступление в брак»1. Губернское правление выдало отказ в удовлетворении прошения из-за неосуществления полного срока наказания.
Еще пример – просьба И. Гроднецкого, сосланного в Якутскую область, который находился в Иркутской пересыльной тюрьме: «Прошу дозволение вступить в брак в Иркутске с мещанской дочерью П. Дмитриевой, а также приостановить отправку в Якутскую область на время же-нитьбы»2. Прошение также не было удовлетворенно, так как «Гроднецкий следовал по приговору в Якутскую область, то и отправлен, еще прежде означенного прошения»3.
В 1892 г. был принят закон4, который позволял ссыльным, прибывшим без семьи, запросить разрешение на расторжение брака на родине через 1–2 года пребывания в Сибири, и вступить в новый союз. Однако это изменение не привело к значительному увеличению числа браков из-за длительного ожидания рассмотрения таких запросов духовным авторитетом. Хотя новый закон упрощал вступление в брак, не все могли это себе позволить. Для создания семьи необходимы были материальные ресурсы, поскольку немногие были готовы жениться на бедной девушке без жилья и с плохой репутацией.
И все же государство призывало ссыльных вступать в брак в Сибири. Для побуждения ссыльных к созданию семьи и ведению оседлого образа жизни, власти оказывали материальную помощь как самим переселенцам, так и тем, кто вступал с ними в брак. Для этого на имя генерал-губернатора Восточной Сибири подавалось прошение. Примером его является обращение М. Чагиной с просьбой о выдаче награды за добровольный брак с поселенцем Федором Ушаковым. Запрос был оформлен следующим образом: «Я, дочь мещанина Чагина, оставшаяся без родителей и находящаяся в состоянии свободного состояния, обращаюсь с просьбой о выдаче награды, чтобы улучшить наше положение». На прошении стояла резолюция генерал-губернатора о выдаче награды «за добровольный брак с поселенцем». Еще одно обращение поступило от жены поселенца Авдотьи Васильевой. Она просила «дозволения воспользоваться получением от казны наградных денег 50 руб. серебром»5. Таких прошений за год на имя генерал-губернатора было много, и обычно они удовлетворялись.
В 90-х гг. XIX в. в Иркутской губернии в среднем на одну такую семью ссыльного приходилось 1,3 ребенка, а в Енисейской – 1,4, в то время как у старожилов региона рождалось от 4 до 5 детей6. Безусловно, этот показатель имел принципиальное значение при оценке материального, морального и физического состояния переселенцев.
Отметим также, что на судьбу детей ссыльных влияло материальное положение их родителей: в случае бедности, безработицы или смерти взрослых ситуация становилась крайне тяжелой. Специальных заведений для детей ссыльных было всего два во всей Сибири – в Тобольской и Томской губерниях. В Иркутской губернии находился приют только для детей ссыльнокаторжных, куда иногда помещали детей ссыльнопоселенцев. Многие несовершеннолетние скитались по таежному краю, по трущобам, приучаясь с детства к воровству и прошению подаяния.
Интересна статистика: количество ссыльных, состоящих в законном браке, в Иркутском округе составляло 50 %, в Балаганском – 35 %, в Нижнеудинском – 35. Процент тех, кто проживал в домах родственников: 24 % – в Иркутском округе, 15 – в Балаганском и 13 – в Нижнеудинске. Одиноких поселенцев было 42, 52 и 57 % соответственно7. Обращает на себя внимание тот факт, что число холостых увеличивалось по мере удаления от Иркутска, это было связано с тем, что «в губернском городе было проще найти работу и содержать семью. И проживание ссыльных в домах родственников, чаще всего жен, объяснялось тем, что обе стороны исходили из экономических мотивов: хозяйство приобретало помощника без оплаты, а мужчина из батрака становился практически самостоятельным владельцем» (Сальникова, 2013: 445).
Большое количество одиноких ссыльных имеет объективные причины. Так, переселенцы свыше 60 лет составляли до 27 % от общего числа; как правило, вопрос вступления в брак для них был мало актуален.
Первоначально ссылка в Сибирь увеличивала русское население, поселенцы занимались обработкой земли, развивали ремесла, обеспечивали первопроходцев хлебом и продовольствием, но с увеличением количества уголовных ссыльных они стали наказанием тем, для кого Сибирь уже в нескольких поколениях стала родной землей.
Назначенный генерал-губернатором Сибири М.М. Сперанский в 1822 г. попытался упорядочить ссылку, привлечь поселенцев к обязательным работам и полезной трудовой деятельности, но государство не смогло организовать на территории региона постоянных работ, да и те, кому посчастливилось найти себе занятия, работали менее эффективно, чем крестьяне-сибиряки. Для многих жизнь на свободе, в местах поселения была ничем иным, как постоянным скитанием в поисках пропитания и жизни впроголодь.
Подводя итог нашим научным изысканиям, следует сказать о том, что обозначенная проблематика является перспективной для разработки, поскольку позволяет обогатить историческую науку сведениями о повседневной жизни значительных масс людей, в принудительном порядке переселенных в Сибирь вследствие признания их неблагонадежными в политическом отношении либо осуждения по уголовному законодательству – в регион со сложными географическими и климатическими условиями жизни, находящийся в тот период в стадии активного освоения.
Список литературы Быт, нравы, образ жизни уголовных ссыльных в Восточной Сибири 80-90-х гг. XIX в
- Архипов С.В., Шкабин Г.С. Опыт организации поселений ссыльных в реализации колонизационной политики России в первой половине XIX в.: историко-правовой аспект // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2021. № 4. С. 24-35. DOI: 10.18384/2310-6794-2021-4-24-35 EDN: PPWBRI
- Болонев Ф.Ф., Люцидарская А.А., Шинковой А.И. Ссыльные поляки в Сибири: XVII, XIX вв. Исследования и материалы. М., 2007. 230 с. EDN: RQBTVZ
- Иванов А.А., Курас С.Л., Курас Т.Л. Сибирская ссылка в отечественной историографии 1990-2010-х гг. // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 1. С. 395-413. DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-1-395-413 EDN: KFHHUG
- Королева Л.С. Повседневная жизнь политических ссыльных в пореформенной России: современная историография вопроса // История повседневности. 2020. № 2 (14). С. 106-114. EDN: SWMGKN
- Сальникова Е.С. Ссыльные и их семейное положение. К вопросу о повседневной жизни ссыльных в Восточной Сибири во второй половине XIX века // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 11 (82). С. 443-446. EDN: RPBLCX
- Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. 474 с.