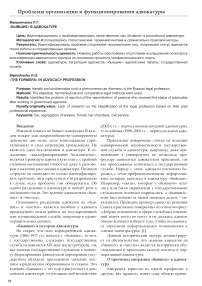«Бывшие» в адвокатуре
Автор: Мельниченко Роман Григорьевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Проблемы организации и функционирования адвокатуры
Статья в выпуске: 6 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель: Идентифицировать и проблематизировать такое явление, как «бывшие» в российской адвокатуре. Методология: Использовались статистический, герменевтический и сравнительно-правовой методы. Результаты: Идентифицирована проблема отторжения «ассимиляции» лиц, получивших статус адвокатов после работы в государственных органах. Новизна/оригинальность/ценность: Новизна работы обусловлена отсутствием исследований по вопросу классификации адвокатского корпуса на основании прошлого профессионального опыта.
Адвокатура, сегрегация адвокатов, «бывшие», адвокатские палаты, государственная служба
Короткий адрес: https://sciup.org/140250454
IDR: 140250454
Текст научной статьи «Бывшие» в адвокатуре
Никакой социум не бывает однороден. В каждом микро- или макросообществе одновременно действуют две силы: сила консолидации (притягивания) и сила сегрегации (разделения). Не является здесь исключением и адвокатура. К сожалению, «квалифицированное большинство», включая правящую адвокатскую элиту, с крайней степенью негодования относятся даже к разговорам о наличии расслоения в адвокатуре. Позиция «страуса» не позволяет не только идентифицировать проблему, но и приступить к её разрешению в случае, если проблема там обнаружится. Об одном разделении в адвокатуре и пойдёт речь в настоящей статье. Это деление адвокатов на «бывших» и «чистых».
Основанием разделения адвокатов на «бывших» и «чистых» является наличие у адвоката предыдущего опыта работы на государственной или муниципальной службе, например в правоохранительных органах.
«Бывшие» в истории адвокатуры
Не секрет, что этап корпоративной адвокатуры (1866–1917 гг.) начался с «бывших», то есть с государственных служащих (государственная служба называлась в XIX веке магистратурой), так как именно государственные служащие к моменту формирования адвокатской корпорации государством обладали проходными цензами: высшим юридическим образованием и стажем. Это влияние «бывших» с тех пор присутствует в российской адвокатуре, то усиливая своё воздействие
(2002-е гг. – период номенклатурной адвокатуры), то ослабевая (1988–2002 гг. – период вольной адвокатуры).
Присяжные поверенные стояли на позиции одновременной несовместимости государственной службы и адвокатуры, например, даже преподавание в университете не позволяло профессору заниматься адвокатской практикой, так как преподавание относилось к государственной службе. Наряду с этим, адвокаты постоянно боролись с теми профессиональными деформациями, которые заносили в адвокатуру «бывшие». Например, «связи», которые у «бывшего» остались или были наработаны с государственными служащими, всячески порицались, а «бывший», если был пойман за таким поганым делом, – наказывался. Приведём пример одного из решений Совета присяжных поверенных по этому вопросу: «Добрые отношения» в сфере служебных отношений иметь место не могут и не должны: адвокат обязан всячески избегать того, чтобы пользоваться хорошими неформальными отношениями к членам магистратуры» [1].
Данный исторический экскурс демонстрирует то обстоятельство, что деление адвокатов на «бывших» и «чистых» является исторически обусловленным и присущим самому институту корпоративной адвокатуры.
О причинах миграции «бывших» в адвокатуру
Миграция юристов из одной профессии в другую, как правило, имеет одну общую причи- ну, которую можно охарактеризовать формулой «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». В 1990-е годы переход юристов из госслужбы на адвокатское поприще был обусловлен именно этим. В адвокатуре, по сравнению со службой «государю», лучше обстояло дело со свободой (в широком смысле, в частности, свободным временем), достойными гонорарами, динамикой и драйвом. В нулевые всё эти бонусы испарились как капли дождя на раскалённом асфальте. Свобода из адвокатуры ушла, когда над адвокатами поставили управленцев – адвокатскую номенклатуру, подкрепив её такой силой влияния, как дисциплинарное производство. Достойные гонорары перестали быть таковыми, так как многие люди начали воспринимать адвокатов как некую «ширму» политического режима, от деятельности которых практически ничего не зависит: «Если попал под репрессию – ты обречён, и тратиться на адвоката в этом случае нецелесообразно». Здесь можно в качестве примера привести «Дело «Юкоса»», в котором участвовали «топовые» адвокаты (кстати, из «бывших») за огромные гонорары и с сомнительным результатом. Конечно, динамика и драйв в адвокатуре остались, но только эта мотивация достаточна лишь для «адреналиновых маньяков» да «идейных», а таких людей в социуме всегда весьма ограниченное количество.
При всех указанных условиях поток бывших в адвокатуру не иссяк. Почему? Если не работает формула «лучше–хуже», то остаётся предположить следующее: «Бывшие» стали таковыми поневоле». Таких увольняли из госслужбы из-за неблаговидных обстоятельств. Конечно, есть и такие, которых уволили за их строптивый нрав, за их нежелание брать взятки и делиться, за высокий интеллект. Вот и наводнили адвокатуру «бывшие», но далеко не всегда лучшие «бывшие», которые бы её обогатили и улучшили, а те, кто по своим моральным качествам не смог удержаться даже на службе государственной.
Прибавим к потоку в адвокатуру бывших и ручеёк госслужащих – ранних пенсионеров, особенно из правоохранительных органов, которые в адвокатуре видят продолжение своей службы после отставки.
Присутствие «бывших» в управленческих структурах современной российской адвокатуры
Элементарный подсчёт покажет нам, что в адвокатской номенклатуре современного этапа развития адвокатской корпорации подавляющее большинство – это «бывшие»: следователи прокуратуры, судьи, милицейские, полицейские и т. п.
Так, на 2020 год из 33 членов Совета адвокатской палаты ФПА 30 – это бывшие государственные служащие. И подобное соотношение «бывших» и «чистых» можно обнаружить в большинстве адвокатских палат. Нашествие бывших в адвокатскую власть можно объяснить рядом причин.
Компетенция властвовать и подчиняться. У государственных служащих со временем, путём естественного отбора, формируется привычка существования в жёстких иерархически выстроенных системах. Жить в иерархии – это их особая компетенция. У «чистых» адвокатов с их самостоятельностью и вольницей такая компетенция физически не может быть сформирована.
С начала периода номенклатурной адвокатуры, когда адвокатская корпорация с 2002 года стала жёстко иерархичной, именно отсутствие навыков существования в системе начальник–подчинённый сделали «чистых» адвокатов неконкурентоспособными для занятия «адвокатских должностей», и подавляющее число руководящих адвокатских постов было занято «бывшими».
Агенты влияния. Очевидно, что государство сыграло значительную роль в формировании адвокатской управленческой номенклатуры, обеспечивая доступ к ней своих бывших слуг. В качестве примера можно привести роль Д. Козака на Первом всероссийском съезде адвокатов, обеспечившего занятие должности президента ФПА опытным «бывшим». А когда «бывшие» были рассажены на ключевых местах, то и своё окружение они, естественно, набрали из своих же – «бывших». Не стоит забывать, что активным лоббистом закона 2002 года, который ввёл иерархическую систему управления адвокатурой, цель которого – подведение вольных адвокатов «под руку государства», стал один из «бывших» – Г.М. Резник.
Цель государства периода нулевых – это огосударствление российской адвокатуры, создание из неё фиктивного органа, находящегося под полным контролем адвокатской номенклатуры, которая, в свою очередь, находится в тесной идеологической связке с правящей элитой – государственными служащими. И эта тесная связь не только не скрывается, но всячески выпячивается, например словесной формулой: «У него есть знакомые в правительстве Российской Федерации». Очевидно, что ситуация засилья «бывших» в адвокатской номенклатуре является угрозой независимости адвокатской корпорации, как несущая в себе ярко выраженный конфликт интересов, где чуждые по духу адвокатуре люди, поддерживающие тесные связи, в частности и бизнес-связи, с государственной правящей элитой, поставлены для её управления [2].
Проблемы ассимиляции «бывших» в современную адвокатуру
Никто не приходит в адвокатуру tabula rasa (с чистого листа). За плечами одних – лишь высшее учебное заведение, у других – государственная служба или служба в коммерческих структурах. И все приходящие в адвокатуру приносят с собой частичку традиций места своего предыдущего пребывания. Это прекрасно, это обогащает адвокатуру, но только до тех пор, пока традиции корпорации сильны и непоколебимы. Дело в том, что «новичок», попадая в любую социальную страту, постепенно ассимилируется в ней, преобразовывает свой образ (отсюда слово «образование») под стандарты той социальной группы, в которой он оказался. Так, бывший следователь, получив адвокатское удостоверение, постепенно превращается в адвоката. Эти стандарты установлены на уровне обычаев и традиций и не зависят от воли конкретных индивидов – это воля (дух) всего адвокатского сообщества. Однако «дух» сообщества может измениться.
В адвокатуре всё изменилось после 2002 года, когда на вершине законодательно созданной иерархической пирамиды органов адвокатского правления оказались «бывшие». Они, осознанно или нет, это в данном случае неважно, стали наводнять адвокатуру своими коллегами, постепенно избавляясь посредством института дисциплинарной ответственности от «чистых» адвокатов. Примерно к 2020 году накопилась критическая масса «бывших» среди рядовых адвокатов, которая позволяет говорить о начале цепной реакции, приведшей к прекращению существования адвокатуры в России как независимой институции по обеспечению квалифицированной юридической помощи гражданам в их противостоянии с государством.
Номенклатурная адвокатура, строительство которой началось в 2002 году, привела к огосударствлению «бывшими» адвокатского корпуса, который живёт теперь не по правилам присяжной адвокатуры, а по правилам российского государственного служащего, которые в корне противоречат самому адвокатскому духу.
Паттерны поведения не ассимилировавшихся «бывших» в современной адвокатуре
Какие же поведенческие черты бывших госслужащих незаметно преобразовали российскую адвокатуру до состояния ещё одной государственной структуры, возглавляемой «министерством адвокатуры» (Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации)?
Слепое подчинение начальству. Адвокат из «бывших» привык чётко и быстро выполнять волю на- чальника, порой слабо задумываясь над тем, законно желание последнего или нет. В качестве начальников адвокаты из «бывших» быстро идентифицировали руководителей органов адвокатского самоуправления – президентов палат и их приближённых. В результате «рядовые адвокаты» превратились в молчаливую всеодобряющую инертную массу, что подстегнуло вал злоупотреблений со стороны президентов адвокатских палат.
Упор на связи. Государственный служащий для того, чтобы выжить в жестокой государственной машине, где частенько добро перемешивается со злом, вынужден постоянно коммуницировать с окружением, выстраивая связи взаимных обязательств. Выходя в отставку и перейдя в адвокатуру, «бывшие» не видят ничего плохого в том, чтобы воспользоваться как наработанными связями, так и своей коммуникационной компетенцией, построенной на формуле: «Мы одной крови». Фразу: «Да я с ним (например, со следователем) раньше впритиркочку работал, водку вместе пили» можно услышать из уст бывших при их общении со своими доверителями. «Добрые отношения» в сфере служебных отношений иметь место не могут и не должны.
Главная же проблема заключается в том, что адвокаты из «бывших» не видят проблемы в том, что они могут легко и непринуждённо наладить контакт со своими бывшими коллегами-госслужащими. Более того, они постоянно указывают на те плюсы, которые получает «бывший» адвокат по сравнению с адвокатом «чистым». Например, экономия времени при налаживании контакта со следователем, знание сильных и слабых сторон работы государственных служащих и т. п. «Бывшесть» становится главным конкурентным преимуществом, ведь каждый доверитель в душе надеется, что его «бывший» со своими-то обязательно договорится.
И это всё верно. Это плюсы тактического свойства и приводят к успеху. Но если мы посмотрим на динамику карьеры адвоката из «бывших» стратегически, то есть на большом промежутке времени, то мы увидим великую опасность от таких адвокатов как для доверителей в частности, так и для адвокатуры в целом.
Уметь налаживать быстрый контакт в случае с адвокатом из «бывших» – это значит эксплуатировать общий топос, как уже ранее было сказано, пресуппозицию: «Мы с тобой одной крови». Но подобная солидаризация – это палка о двух концах, она требует особого «вежливого» отношения между адвокатом из бывших и госслужащим-контактёром, иначе это будет не «по понятиям».
И рано или поздно адвокат из «бывших» просто не сможет отказать в маленькой просьбе своему бывшему коллеге-следователю, которая чуть-чуть противоречит интересам его доверителя. А ноготок увяз, всей птичке пропасть, вот и становится «бывший», в лучшем случае, слугой двух господ – доверителя и государства.
По нашим наблюдениям, подавляющее большинство «бывших» уверено, что они-то справятся, они-то не перейдут грань между простой учтивостью и предательством, но это обыкновенная гордыня. Никакой человек не сможет противостоять социальным установкам вежливости между «своими». И сама судьба ведёт «бывшего» к предательству, а кто не идет, того судьба волочит.
Налаживание учёта «бывших» в современной адвокатуре
Согласно трудовому законодательству, «бывшие» обязаны сообщать работодателю сведения о своём последнем месте государственной службы. Это соответствует принципу транспарентности, которая позволяет получающему услуги от «бывшего» оценить те риски, которые он с этим «бывшим» получает.
Подобное же правило могло бы быть введено и в адвокатуре, но не на правовом, а на этическом уровне, и могло бы состоять в том, что «бывшие» указывают о своем соответствующем статусе при заключении соглашения со своими доверителями.
Необходимая реакция адвокатского сообщества по вопросу ассимиляции «бывших» в адвокатуру
Одной из основных задач организации современной российской адвокатуры является нейтрализация тех негативных последствий, которые приносят в адвокатуру «бывшие», одновременно понимая, что замыкание адвокатуры от них принесёт вред не меньший.
В предшествующих своих публикациях мы уже предлагали варианты «борьбы» с «бывшими», в частности, введение карантинного ценза для «бывших» в различных его формах, например запрет в течение определённого времени «бывшему» адвокату оказывать адвокатскую помощь в тех органах, где он раньше проходил службу.
Сегодня мы пришли к твёрдому убеждению, что любые правоограничительные меры по отношению к «бывшим» не только не принесут пользы, но и причинят вред, например расколов адвокатуру на «чистых» и «бывших». Мы предлагаем иной, гражданско-позиционный подход к обозначенной проблеме.
В адвокатуре необходимо создать атмосферу неприятия к такому поведению «бывших», кото- рое противоречит духу адвокатской профессии. Эта атмосфера может быть создана в случае, если каждый адвокат сочтёт своим профессиональным долгом реагировать на все проявления «бывших» (а в идеале и «чистых»), идущие вразрез с нормами адвокатской этики (в подлинном их звучании, а не КПЭА, насаждённого адвокатам адвокатской номенклатурой из «бывших»).
Приведём демонстрацию должной и недолжной реакции на примере вышеприведённого кейса «бывший в маске», в котором адвокат разместил свой образ на фоне главы государства. Неверной реакцией на подобный пост стала реакция некоего советника ФПА РФ: «…в этом фото прекрасно все – и герой, и интерьер, и композиция с портретом, и маскировка, и реквизит, и взгляд, и декларируемая цель, и реальное намерение, и актуальность, и законопослушность, и профессионализм. … P.S. Вроде ничего не забыл?», так как это прямое поощрение поведения «бывшего». Должной реакцией на данный пост была бы ирония или прямое указание на то, что адвокату не следует так поступать.
Заключение
Завершая изложение результатов исследования по теме «бывшие», автор хочет высказать свое восхищение следующим адвокатам из «бывших», которые привнесли в нашу корпорацию такие качества, как высочайший интеллект, настойчивость, уравновешенность и глубина планирования: Алексей Аванесян (Краснодар) и Андрей Макаркин (Санкт-Петербург). Эти адвокаты – цвет современной российской адвокатуры. Если бы передо мной встала угроза уголовного или гражданско-правового преследования, я почёл бы за великую удачу, если бы такие адвокаты осуществляли мою защиту.
Список литературы «Бывшие» в адвокатуре
- Марков А.Н. Правила адвокатской профессии в России: опыт систематизации постановлений советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики / сост. чл. совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты А.Н. Марков. М.: Тип. О.Л. Сомовой, 1913. X, 429.
- https://vk.com/wall-195284407_94.