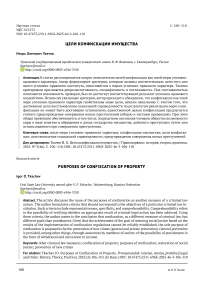Цели конфискации имущества
Автор: Ткачев И.О.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос относительно целей конфискации как иной меры уголовно-правового характера. Автор формулирует критерии, которым должны соответствовать цели того или иного уголовно-правового института, относящегося к мерам уголовно-правового характера. Такими критериями признаются репрезентативность, специфичность и постижимость. Под постижимостью понимается возможность проверки, был ли достигнут соответствующий результат уголовно-правового воздействия. Используя указанные критерии, автор приходит к убеждению, что конфискации как иной мере уголовно-правового характера свойственны иные цели, нежели наказанию. С учетом того, что достижение цели восстановления социальной справедливости по результатам реализации норм о конфискации не может быть достоверно установлено, единственной целью конфискации предлагается считать предупреждение совершения новых преступлений (общую и частную превенцию). При этом общая превенция обеспечивается, в том числе, посредством осознания членами общества возможности кары в виде изъятия и обращения в доход государства имущества, добытого преступным путем или использованного при совершении преступления.
Иные меры уголовно-правового характера; конфискация имущества; цели конфискации; восстановление социальной справедливости; предупреждение совершения новых преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/14134023
IDR: 14134023 | УДК: 343.272 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-106-110
Текст научной статьи Цели конфискации имущества
Уральская школа уголовного права традиционно уделяла повышенное внимание изучению вопросов эффективности уголовно-правовых мер противодействия преступности. Данному направлению научных исследований посвящали свои труды М. И. Ковалев [7], И. Я. Козаченко [8], П. С. Тоболкин [13], Ю. Н. Емельянов [4] и другие авторы. При этом следует отметить, что в советский период в фокусе внимания находилась эффективность преимущественно уголовного наказания. Однако нормативное расширение перечня мер, применяемых в связи с совершением запрещенного уголовным законом деяния, и, как следствие, введение в уголовный закон категории «иные меры уголовноправового характера», существенно расширило научные горизонты. В настоящее время требуется осмысление того, насколько эффективны как отельные такие меры (например, конфискация), так и их система в целом как альтернативный наказанию институт уголовного права.
Материал и методы
При написании настоящей статьи использовано действующее уголовное законодательство Российской Федерации, а также специальная литература по заявленной теме. В основу исследования положены общенаучные (анализ, синтез, диалектический метод) и частно-научные методы исследования (прежде всего, метод формально-юридического анализа нормативных актов и различные приемы толкования правовых норм).
Результаты и обсуждение
Оценка эффективности наиболее тесным образом связана с учением о целях. В уголовном праве под целью понимается осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено соответствующее действие (или, применительно к наказанию и иным мерам уголовно-правового характера, — воздействие). Как верно отмечается на страницах юридической литературы, нормативное закрепление целей того или иного института «позволяет определить представление законодателя о том конечном результате, который должен быть достигнут посредством реализации данного уголовно-правового института в правоприменительной практике» [14, с. 25]. Таким образом, эффективность может быть оценена только через призму того, насколько соответствующее действие (воздействие) приводит к желаемому результату, то есть достижению поставленной цели (если, конечно, такая цель сформулирована законодателем верно).
При этом, по нашему мнению, цель должна отвечать нескольким критериям.
-
1. Цель должна быть репрезентативной, то есть достоверно отражать сущность соответствующего уголовно-правового института (наказания, иных мер уголовно-правового характера и т. п.).
-
2. Цель (или совокупность целей) должна обладать свойством специфичности, то есть позволять определить место соответствующего института в системе мер уголовно-правового противодействия преступности, в том числе его специальное (отличное от иных мер) назначение.
-
3. Цель должна обладать свойством постижимости, то есть представлять собой такой результат, достижение (или, напротив, недостижение которого) может быть установлено каким-либо достоверным способом. Иначе говоря, должна иметься возможность произвести верификацию достижения поставленного результата в процессе правоприменительной деятельности. В противном случае (если результат не постижим и (или) не верифицируем) невозможно судить об эффективности соответствующего уголовно-правового института.
Последнее свойство имеет важное правоприменительное значение. Так, например, применительно к принудительным мерам медицинского характера отмечается, что если цели их применения не были достигнуты, то прекращение таких мер неправомерно [12, с. 24].
Для отечественного уголовного законодательства характерно наличие пробела, заключающегося в отсутствии нормативно определенных целей иных мер уголовно-правового характера. Так, действующая редакция УК РФ содержит указание только на цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК РФ) как отдельной разновидности иных мер уголовно-правового характера. При этом указанная норма была включена в уголовный закон еще до того, как раздел VI Общей части получил современное наименование и был дополнен новыми главами.
Отмеченный выше пробел порождает научную дискуссию относительно соотношения целей наказания и целей иных мер уголовно-правового характера в целом, а также их отдельных видов. Можно констатировать, что на сегодняшний день в науке уголовного права по данному вопросу сложились два подхода. Представители первого из них считают, что и цели иных мер уголовно-правового характера, и цели наказания производны от задач уголовного законодательства, обозначенных в ст. 2 УК РФ, в связи с чем друг от друга не отличаются [11, с. 81]. Например, принудительным мерам воспитательного воздействия, по мнению С. А. Бурлаки, присущи те же цели, что и наказанию, хотя восстановление социальной справедливости при реализации указанных мер обеспечивается лишь частично [2, с. 25]. Аналогичной позиции применительно к конфискации придерживается Р. Х. Кубов [9, с. 13].
Другие авторы, напротив, полагают, что цели как отдельных иных мер уголовно-правового характера (конфискации, судебного штрафа и т. п.), так и всего указанного института отличаются от целей, сформулированных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Изменение представлений об уголовно-правовой природе конфискации, вызванное исключением данной меры из системы наказаний и последующим восстановлением в отдельной главе Общей части УК РФ, закономерно влечет трансформацию представлений о целях ее применения.
Так, Т. М. Калинина и В. В. Палий полагают, что конфискация преследует следующие цели: 1) предупреждение совершения новых преступлений; 2) восстановление нарушенных прав законного владельца; 3) исключение возможности использования перечисленных в ст. 104.1 УК РФ предметов при совершении преступлений [6, с. 77]. При этом, по нашему мнению, между первой и третьей из обозначенных выше целей нет принципиального различия. Невозможность использования тех или иных предметов при совершении новых противоправных деяний направлено именно на их предупреждение, так как это затрудняет или делает невозможным противоправную деятельность конкретного лица, подвергнутого данной мере уголовно-правового характера. В связи с этим можно предположить, что, говоря о предупреждении совершения новых преступлений, указанные авторы имеют в виду общую превенцию, а под исключением возможности использования предметов при совершении преступления — превенцию частную.
С точки зрения Р. А. Хачака, конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера присущи две цели — восстановление социальной справедливости и предупреждение преступлений [14, с. 27]. При этом указанный автор ограничивает превентивный потенциал рассматриваемой меры. По его мнению, конфискации не свойственна общая превенция, т. к. изъятие имущества у одного лица не может вызывать боязни данной меры у всех остальных членов общества [14, с. 27].
-
Н. Э. Мартыненко и Э. В. Мартыненко подходят к решению вопроса о целях конфискации дифференцированно. По их мнению, к конфискации как иной мере уголовно-правового характера следует относить только изъятие и обращение в доход государства предметов, перечисленных в п. «а» и «б». ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Такая конфискация направлена на полное и качественное восстановление всех нарушенных общественных отношений, а также предупреждение (профилактику) совершения новых преступных деяний [10, с. 78, 83]. Вместе с тем, с позиции указанных исследователей, виды конфискации, предусмотренные п. «в» и «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, не могут быть в полной мере отнесены к иным мерам уголовноправового характера. При этом конфискация предметов, указанных в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, направлена на достижение тех же целей, что и наказание, а специальная конфискация, установленная п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, преследует исключительно цель предупреждения совершения новых преступлений [10, с. 85–86].
В контексте исследуемой темы следует обратить внимание, что в уголовно-правовой доктрине применительно к наказанию сформировалось несколько подходов относительно содержания такой цели как восстановление социальной справедливости.
Так, представители компенсаторной теории понимают под восстановлением социальной справед- ливости восстановление нарушенного состояния охраняемого общественного отношения, в котором оно находилось до совершения виновным лицом преступления. Соответственно, говоря о восстановлении посредством конфискации нарушенных общественных отношений, в том числе восстановлении прав законного владельца, отмеченные выше исследователи, по сути, имеют в виду именно цель восстановления социальной справедливости.
В частности, Р. А. Хачак отмечает, что «восстановление общественного отношения, нарушенного преступлением, должно обеспечиваться прежде всего путем изъятия имущества, полученного преступным путем, и либо его возвращением законному владельцу, либо конфискацией, заглаживанием виновным материального или морального вреда» [14, с. 26]. Из этого указанный исследователь делает вывод, что отобрание у виновного перечисленного в ст. 104.1 УК РФ имущества следует рассматривать именно как восстановление нарушенного права.
Вместе с тем, не отрицая саму по себе возможность восстановления социальной справедливости посредством применения иных мер уголовно-правового характера, отметим, что действующая редакция главы 15.1 УК РФ не позволяет согласиться с изложенным выше тезисом. Как следует из положений ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства определенного имущества, так или иначе связанного с совершенным преступлением. Задачи возвращения имущества законному владельцу либо обеспечения возмещения материального или заглаживания морального вреда посредством такой конфискации не решаются. Для их решения уголовнопроцессуальным законодательством предусмотрены отдельные механизмы (например, наложение ареста на имущество, установленный порядок хранения и разрешения вопроса о вещественных доказательствах и т. п.). Более того, в ч .1 ст. 104.3 УК РФ законодатель специально отметил, что при разрешении вопроса о конфискации в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением законному владельцу. В связи с этим при недостаточности у виновного имущества, которое может быть конфисковано в соответствии с положениями УК РФ, из стоимости такого имущества прежде всего возмещается причиненный преступлением вред, и лишь оставшаяся часть имущества обращается в доход государства, т. е. конфискуется. Очевидно, что возмещение причиненного законному владельцу вреда за счет стоимости имущества, подлежащего конфискации, самой конфискацией не является ни по смыслу нормативных предписаний, ни с учетом их грамматического толкования.
В контексте анализируемой цели конфискации заслуживает внимания позиция А. Беляева, отмечающего, что изъятие имущества и доходов от него из незаконного владения виновного лица фактически означает приведение этого лица в прежнее имущественное положение, которое у него было до совершения преступления, что, по мнению указанного исследователя, представляет собой «обратное восстановление» [1, с. 17]. Вместе с тем, нельзя не отметить некоторую ограниченность обозначенного выше подхода к оценке восстановительной функции конфискации. Из действующей редакции ст. 104.1 УК РФ следует, что изъятию и обращению в доход государства подлежит не только то имущество, которое было получено противоправным путем, но и имущество, которое на момент совершения преступления находилось у виновного на законном основании (п. «в» — «д» ч. 1 ст. 104. 1 УК РФ). В таком случае применение норм о конфискации обусловлено исключительно тем фактом, что имущество используется при совершении преступления. При этом с точки зрения гражданского законодательства факт использования имущества при совершении преступления не делает владение таким имуществом незаконным. Получается, что конфискация не всегда сопряжена с изъятием имущества именно из незаконного владения виновного лица. Неслучайно, наверное, о незаконности владения конфискованным имуществом в уголовном законе не сказано ничего. При изъятии и обращении в доход государства того имущества, которое на законных (с точки зрения гражданского законодательства) основаниях находится у лица, конфискация ни в какое прежнее имущественное положение виновного не приводит и «обратным восстановлением» считаться не может.
В рамках теории сатисфакции под восстановлением социальной справедливости понимается появление у потерпевшего и иных лиц (в том числе у общества в целом) чувства удовлетворения от назначенного виновному наказания или от применения к нему иных мер уголовно-правового характера. В таком случае наказание и иные меры уголовно-правового характера рассматриваются в качестве реакции государства на совершенное преступление, которая пришла на замену социальному институту кровной мести. Данное восприятие тесно связано с элементом кары. Чувство отмщения появляется именно в связи с осознанием того, что имело место порицание преступника от имени государства, то есть в той или иной форме имело место применение кары за противоправное деяние. Однако, согласно одному из подходов, иным мерам уголовно-правового характера карательная функция не свойственна, что и позволяет говорить о них, как об отдельном уголовно-правовом институте, отличном от института наказания [5, с. 25–26; 10, с. 15]. Аргументируя позицию о том, что конфискация лишена карательного характера, Г. М. Калинина и В. В. Палий обращают внимание, что изъятию в доход государства подлежит не все имущество виновного, а только та его часть, которая была незаконно приобретена или незаконно использована [6, с. 76].
Вместе с тем, по нашему мнению, конфискация имущества, добытого преступным путем (п. «а» и «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), может восприниматься членами общества как справедливое воздаяние за совершение общественно опасного деяния, то есть выступать в качестве кары за содеянное. Тот факт, что изъятие носит частичный характер, представления о воздаянии не отменяет. В связи с этим заслуживает внимания позиция Т. Ф. Минязевой, согласно которой кара так или иначе присуща любой принудительной мере воздействия на преступника [11, с. 86–87].
Тем не менее, с учетом третьего обозначенного нами свойства целей мер уголовно-правового характера, определение в качестве цели конфискации восстановления социальной справедливости, базирующегося на теории сатисфакции, затруднительно, поскольку невозможно каким-либо образом «измерить», насколько в обществе было удовлетворено чувство мести за содеянное. Однако при этом, по замечанию В. К. Дуюнова, кара выступает в качестве средства предупредительного воздействия как на самого преступника, так и на других неустойчивых лиц [3, с. 10–11]. Соответственно, возможность изъятия имущества, добытого преступным путем или использованного в процессе совершения противоправных действий, выступая в обыденном сознании в качестве элемента кары за содеянное, способна выполнять предупредительную функцию, о результатах которой можно судить как применительно к частной превенции (уровень криминологического рецидива), так и применительно к общей (уровень преступности в целом или ее отдельных видов).
Заключение и выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, что с учетом правовой природы конфискации как иной меры уголовно-правового характера ей не могут быть свойственны те же цели, что и уголовному наказанию (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
Конфискация в современном ее качестве может быть направлена на восстановление социальной справедливости, однако законодательному признанию и закреплению данной цели препятствует ее неопределенность с точки зрения конкретных результатов уголовно-правового воздействия.
В связи с этим единственной целью конфискации как иной меры уголовно-правового характера выступает предупреждение совершения новых преступлений (общая и частная превенция), заключающаяся в том числе в осознании членами общества, включая потенциального правонарушителя, возможности кары в виде изъятия и обращения в доход государства имущества, добытого преступным путем или использованного при совершении преступления.