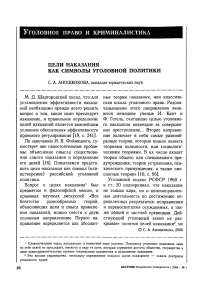Цели наказания как символы уголовной политики
Автор: Анощенкова С.А.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Уголовное право и криминалистика
Статья в выпуске: 1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14718691
IDR: 14718691
Текст статьи Цели наказания как символы уголовной политики
М. Д. Шаргородский писал, что для установления эффективности наказаний необходимо прежде всего решить вопрос о том, какие цели преследует наказание, и правильное определение целей наказаний является важнейшим условием обеспечения эффективности правового регулирования [19, с. 241].
По замечанию И. Я. Фойницкого, существует две самостоятельные проблемы: объяснение смысла существования самого наказания и определение его целей [18]. Попытаемся представить цели наказания как символ (олицетворение) российской уголовной политики.
Вопрос о целях наказания1 был предметом и философской мысли, и правовых научных дискуссий. «Все богатство разнообразных теорий, объясняющих цели и смысл применения наказаний, можно свести к двум основным направлениям. Первое направление определяется как абсолют ные теории наказания, или классическая школа уголовного права. Родоначальниками этого направления являются немецкие ученые И. Кант и Ф. Гегель, считавшие целью уголовного наказания возмездие за совершенное преступление... Второе направление включает в себя самые разнообразные теории, которые можно назвать теориями полезности, или социологическими теориями. В их число входят теории общего или специального предупреждения, теории устрашения, психического принуждения, а также смешанные теории» [10, с. 95],
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в ст. 20 подчеркивал, что наказание не только кара, но и целенаправленная деятельность по достижению определенных результатов: исправления и перевоспитания осужденных, а также общей и частной превенции. Действующий уголовный закон не раскрывает понятия целей наказания2, но
в части 2 ст. 43 УК провозглашает их: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.
Установление и применение наказания не самоцель для законодателя и правоприменителя. Целеполагание наказания вытекает из самой его сущности, связано с его социальными и уголовно-правовыми функциями, с концептуальными основами уголовной политики. В теории уголовного права было высказано мнение о признании целесообразности в качестве одного из принципов назначения наказания [4, с. 145 — 151].
В отечественной уголовно-правовой науке имела место дискуссия о понятии целей наказания. Н. А. Беляев предлагал отказаться от понятия «цели наказания», заменив его понятием «социальные функции», так как отсутствуют конкретные субъекты, которым адресованы эти цели. «Адресатами положений законодателя о целях наказания являются осужденные, а также другие граждане», — возражает Ф. Р. Сундуров. Со своей стороны хотелось бы отметить, что наказание без цели превратилось бы в автоматическую «отдачу», неизбежно-рефлекторную реакцию государства на преступление. Схема: «поскольку есть преступление, то за ним должно последовать наказание» обращена лишь в прошлое и сродни возмездию.
Цели, наказания — это соответствующие задачам и принципам уголовного права социальные и уголовно-политические результаты, определенные в уголовном законе, которых стремятся достичь зако нодатель и правоприменитель, устанавливая в уголовном законе наказуемость преступлений, назначая эту уголовно-правовую меру лицам, совершившим преступления.
Характеризуя значение целей наказания, В. К. Дуюнов пишет: «Сформулированные в ч. 2 ст. 43 УК цели наказания определяют направленность и содержание усилий государства по их реализации, выбор наиболее целесообразных в институциональном отношении средств и способов их осуществления, они служат ориентирами для законодателя и правоприменительных органов государства в решении вопросов наиболее эффективного использования возможностей наказаний в противодействии преступлениям» [7. с. 100].
Ф. Р. Сундуров называет некоторые свойства целей наказания: объективность, истинность, реальность. Выделяются цели-задачи (исправление осужденного и специальное предупреждение) и цели-направления (общее предупреждение); основные (закрепленные законодателем с главной целью — предупреждением преступлений) и неосновные цели (не закрепленные в УК, но фактически реализуемые — кары, сатисфакции морального вреда и др.) [15, с. 15 — 17].
В отечественной доктрине уголовного права в качестве целей наказания рассматривались: общее и частное предупреждение преступности, воспитание или перевоспитание осужденных, юридическое или моральное исправление осужденных, ресоциализация осужденных, восстановление социальной справедливости и др. Так, современные авторы кроме законодательно закреплен- ных целей наказания называют следующие: удовлетворение общественного правосознания (С. А. Велиев) [2, с. 70], попытка примирения преступника с потерпевшим, обществом, самим собой и Богом, перевоспитание осужденных, покаяние осужденных, социальная реабилитация осужденных, гарантии стабильного правопорядка (Е. Азарян) [1, с. 67 — 821.
В уголовно-правовой доктрине решается вопрос о вычленении видов целей наказания, построении их системы и соотношении различных целей наказания между собой. Так, Е. Азарян выделяет (впрочем, не вполне четко) начальные, промежуточные и конечные цели наказания, а также общую и особенную цели наказания [1, с. 78 — 79]. Интересно, хотя и не бесспорно, видение системы целей наказаний, представленное С. А. Велиевым. По субъектам, которым адресовано наказание, цели разделены на те, что осуществляются в отношении конкретного осужденного (исправление, частное предупреждение), и те цели, которые осуществляются в отношении неопределенного круга лиц (восстановление социальной справедливости, общее предупреждение). Возражения порождают выделение второй группы целей. Поскольку логические правила классификации объектов требуют того, чтобы одна и та же группа классифицируемых объектов принадлежала только одной группе (категории), то одна цель наказания не должна быть адресована двум субъектам (осужденному и неопределенному кругу лиц в данном случае). Однако нельзя отрицать, что восстановление социальной спра- ведливости касается не только общества, но и осужденного и потерпевшего, о чем, кстати, пишет и сам С. А. Велиев [2, с. 55]. То же самое можно сказать и о цели общего предупреждения. Зададимся вопросом: разве тот факт, что лицо совершило преступление, влечет за собой бездействие в отношении него уголовно-правового запрета? Ответ отрицательный: нет, не влечет, лицо обязано соблюдать нормы уголовного закона. Общепревентивная цель распространяется в том числе и на осужденных, в этом ее суть как всеобъемлющей цели. По сложности и механизму реализации А. Ф. Мицкевичем восстановление социальной справедливости и исправление осужденного названы более сложными, чем общее и специальное предупреждения [10, с. 144].
Авторами также затрагивается вопрос о соотношении целей наказания. Так, С. В. Полубинская наиболее важной целью наказания признает цель предупреждения преступлений [13, с. 53]. А. Ф. Мицкевич, напротив, приходит к выводу о том, что «по значению, важности все цели уголовного наказания равны между собой, и ни одной из них нельзя отдать какого-либо особенного предпочтения» [10, с. 144].
Восстановление социальной справедливости. Одними из первых авторов, увидевших цель наказания в восстановлении нарушенного преступлением социально-психологического порядка в обществе и восстановлении чувства справедливости, были И. А. Беляев и Б. С. Никифоров. Высказанная в шестидесятые годы, эта идея не нашла поддержки в исследовательской среде, а также у законодателя. «Из-за трудности измерения показателей степени достижения цели восстановления справедливости не может быть закреплена и эта цель», — поясняет С. В. Полубин-ская [13, с. 23].
Закрепление такой цели наказания, как восстановление социальной справедливости, на наш взгляд, обусловлено следующим. На протяжении длительного времени в теории уголовного права ведется дискуссия о каре как о цели наказания3 Ряд ученых отождествляет содержание целей кары и восстановления социальной справедливости. Так, В. К. Дуюнов пишет: «Сущность уголовного наказания — кара, но понимаемая не как намеренное причинение страданий, а как справедливое воздаяние виновному за совершенное им преступление, которое заключается в осуждении совершенного им преступления и порицании лица, его совершившего» [8, с. 97]. Представляется, что, возведя восстановление социальной справедливости в ранг целей наказания, законодатель как бы подчеркнул, что тот карательный элемент, который неизбежно присутствует в наказании, является его содержательным элементом, но не целью как таковой. Кара, то есть лишения, принудительно претерпеваемые осужденным, не самоцель для законодателя и для правоприменителя. Кара — тот неизбежный груз, который должен быть положен на весы правосудия для восстановления гармонии в обществе. Восстановление социальной справедливости — вот цель наказания, а покарание — одно из средств достижения этой цели.
Определить показатели эффективности достижения целей социальной справедливости достаточно сложно. Действительно, трудно отрицать, что такая философская и этическая категория, как справедливость, не может иметь четких границ и эквивалентов. Однако, как отмечалось выше, эффективность достижения данной цели определяется фактическим применением уголовного закона, степенью реализации идеи неотвратимости наказания. Именно как идею, отражающую отношение к чему-либо как к справедливому или несправедливому, воспринимает данную цель А. Ф. Мицкевич [10, с. 119, 122 — 124]. Для того чтобы цель восстановления социальной справедливости не была абстракцией, а имела весьма осязаемые очертания, наука выработала специфические направления воздействия справедливости на людей — функции справедливости (В. В. Похмелкин, А, И. Экимов, Г. В. Мальцев). Так, ценностно-соиз-мерительная функция направлена на оценку соотношения явлений (преступления и наказания) с точки зрения соответствия или несоответствия справедливости. Социально-интегративная функция нацелена на требование справедливости в преодолении социального конфликта. Восстановительная функция указывает на необходимость справедливого воздаяния за содеянное. Наряду с восстановительной функцией действуют уравнительная и дифференцирующая функ-
-
1 Сторонниками признания кары в качестве цели наказания являются Н. А. Беляев, И. И. Карпец, Н. А. Тарбагаев.
ции справедливости. Уравнительная функция требует равенства всех перед законом; дифференцирующая, напротив, указывает на необходимость индивидуального подхода. Существует также и стимулирующая функция справедливости, направленная в будущее и определяющая основные ориентиры для законодателя, правоприменителя и общества.
Восстановление социальной справедливости существует в широком и узком смыслах4 В первом случае речь идет о восстановлении нарушенного правопорядка, существовавшего до совершения преступления, во втором —■ о сатисфакции потерпевшего. Говоря о широком значении восстановления социальной справедливости, следует заметить, что преступление вносит дисбаланс в охраняемые уголовным законом отношения: нарушаются права субъектов, обладающих тем или иным социальным благом, преступается уголовно-правовой запрет. Это вовсе не означает, что норма уголовного закона каким-то образом «страдает» от преступления. Но нарушенная уголовноправовая норма «включает» механизм реализации санкции по отношению к конкретному лицу. Если в отношении всех граждан наказание, закрепленное в санкции нормы Особенной части, действует лишь как угроза наказания, то для виновного наказание — это правовая реалия. Преступив закон, лицо создает юридический факт, полагаемый в основу охранительного уголовного правоотношения, в котором
Уголовное право и криминалистика один из субъектов (государство) обязан реализовать уголовную ответственность в отношении другого (виновного), а последний, в свою очередь, обязан ответить перед законом за содеянное. Таким образом, восстанавливается правопорядок в области охраняемых уголовным законом общественных отношений. В узком смысле восстановления социальной справедливости требуют нарушенные интересы потерпевшего, кто бы под ним ни подразумевался. Так, Б. С. Никифоров отмечает, что если причиненный преступлением вред выражается в дезорганизации общественных отношений, то наказание призвано восстановить их [11, с. 67]. Рассматривая наказание как общественно полезную деятельность государства, А. С. Велиев подчеркивает необходимость возмещения причиненного преступлением вреда. «...А поскольку преступление есть нарушение общественных отношений, — пишет автор, — причиненный им вред наносится этой сфере, и здесь же следует искать возможности его возмещения» [2, с. 43]. В последнее время все больше авторов пишет о необходимости возмещения вреда потерпевшему либо со стороны осужденного, либо со стороны государства.
Закрепление указанной цели наказания следует расценить как положительный момент. Во-первых, законодатель позиционирует уголовное законодательство как социально ориентированную правовую отрасль. Во-вторых, замена, а, вернее, поглощение кары как цели наказания, целью восстановления социальной справедливости в какой-то степени примиряет сторонников противоположных позиций данной дискуссии. Социальнонравственное значение данной цели наказания обусловило ее приоритет в числе целей наказания, предусмотренных уголовным законом.
Предупреждение преступлений. Данная цель состоит из целей общей и частной превенции, то есть адресована лицам, совершившим преступления, и иным лицам. Строго говоря, из текста ч. 2 ст. 43 УК не явствует, на кого направлено предупредительное воздействие наказания. Конкретизация этой цели содержится в ч. 1 ст. 1 УИК РФ: «предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами».
Среди целей наказания цель предупреждения преступлений многими авторами названа главной, определяющей. Так, М. Д. Шаргородский, определяя иерархию целей наказания, предупреждение называл основной, конечной и специфической целью, а исправление и перевоспитание осужденного — средствами для достижения этой главной цели [19, с. 25В]5.
Общепредупредительное воздействие, на наш взгляд, проявляется только на стадии установления наказания за общественно опасное деяние. Конечно, в памятниках российского уголовного законодательства присутствуют указания: «сжечь во страх иным, дабы через то другим страх подать и оных от таких неприятностей удер жать». И в уголовно-правовой доктрине мнение о том, что назначение наказания одному лицу устрашающе воздействует на других, чем и достигается предупреждение, является устоявшимся. «Посредством наказания конкретного преступника государство предостерегает других неустойчивых лиц от совершения преступления» [19, с. 280]. Тем не менее, попытаемся обосновать иную позицию. Гуманистические установки современного уголовного законодательства позволяют утверждать: наказание виновного — это только его наказание. Никому не приятно осознавать, что такой факт его биографии, как осуждение, используют в качестве примера для воспитания других граждан. Назначая наказание, суд стремится реализовать цели наказания в отношении только конкретного лица. Достижение иных целей, не имеющих к осуждаемому отношения, противоречит принципу гуманизма. Социальный результат, который достигается косвенно, через другие результаты, не может считаться целью наказания. Поэтому цель общей превенции как цель наказания реализуется с момента вступления в силу уголовного закона.
Частная превенция, соответственно, реализуется на стадиях назначения и исполнения наказания осужденному лицу. Специальное предупреждение направлено на предупреждение совершения преступлений лицами, уже их совершившими. Частное предупреждение реализуется прежде всего в период исполнения наказания. По мнению И. И. Карпеца, применение уголовно-правовых мер физически лишает преступника возможности совершать преступления. Кроме того, наказание и связанная с ним судимость создают условия, препятствующие совершению преступлений и после фактического отбытия наказания осужденным. В стране наблюдается устойчивая тенденция сокращения пенитенциарных преступлений. Так, в 1997 г. в местах лишения свободы было совершено 2 088 преступлений, в 1998 г. — 1 779, в 1999 г. — 1 552, в 2000 г. — 1 254, в 2001 г. — 1 161, в 2002 г. — 723, за 11 месяцев 2003 г. — 563 преступления [6, с. 12]. Эффективность достижения частнопредупредительной цели наказания связана с исправлением осужденного, хотя исправление осужденного нельзя строго назвать средством частной превенции. Частное предупреждение, как указывалось, — это лишение возможности осужденного совершать преступления. Исправление — такой воспитательный результат, при котором лицо не совершает преступлений по иным, моральным соображениям.
Рассуждая об эффективности достижения целей общей и частной превенции, Э. Ф. Побегайло указывает, что тому способствует обеспечение неотвратимости ответственности за содеянное [12, с. 96]. Но главное, хотя и в нынешних условиях не вполне реальное условие, по мнению автора, — это такое воздействие на общественное сознание, «в особенности на сознание неустойчивых в криминогенном отношении граждан, которое убеждало бы в «невыгодности» занятия преступной деятельностью» [12, с. 96]. Автор имеет в виду использование метода превентивного сдерживания потенциальных правонарушений.
Исправление осужденного — традиционная для отечественного уголовного права цель наказания. Наряду с перевоспитанием осужденного присутствовала она и в ст. 20 УК РСФСР 1960 г. Понятие исправления осужденных раскрывается в ст. 9 УИК РФ — это формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Приведенная дефиниция охватывает как моральное, так и юридическое исправление осужденного. Что касается ст. 43 УК, то, по мнению Н, Ф, Кузнецовой, в ней имеется в виду лишь юридическое исправление осужденного, то есть несовершение им новых преступлений [9, с. 23]. В самом деле, более отдаленный результат, каковым является исправление моральное, — итог реализации норм уголовно-исполнительного права и его методов6 Со своей стороны Ф. Р. Сунду-ров подчеркивает главенствующее значение для исправления осужденного не политическое, не идеологическое, а нравственное воздействие, для чего следует создавать дееспособные службы психолого-педагогического воздействия и духовно-нравственного воспитания осужденных с привлечением высоко- квалифицированных специалистов, а также священнослужителей [17. с. 80].
Компоненты, составляющие исправление осужденного, в нашем понимании, таковы:
-
— сохранение позитивных качеств, которыми лицо обладало до совершения преступления и осуждения;
— приобретение лицом новых позитивных качеств и способностей (получение образования, профессиональная подготовка, обращение к вере и т. д.);
— изживание негативных качеств человека, в частности уяснение им положения о недопустимости совершения преступления, по крайней мере из-за страха перед правовым последствием, каковым является наказание.
Два первых абзаца охватываются понятием нравственного исправления, последний характеризует юридическое исправление. Исправление осужденных представляет собой средство достижения цели частной превенции, то есть представляет промежуточную цель на пути достижения частнопревентивной цели. Таким образом, цель исправления осужденных как бы охватывается, более глобальной целью — предупрежде нием совершения осужденными новых преступлений. Однако исключение данной цели из ч. 2 ст. 43 УК нецелесообразно, поскольку противоречит сложившейся концепции уголовно-правовой доктрины и уголовной политики. Наказание — это категория, имеющая своими адресатами как общество, отдельные его группы, так и конкретных индивидуумов. Изъятие из целей наказания персонального компонента будет неверным шагом, несмотря на то, что исправление осужденного в ре альности, скорее, цель-идеал, нежели чем цель-результат.
Определяя цели наказания, уголовное законодательство ряда зарубежных стран специально подчеркивает, что целями наказания не являются унижение человеческого достоинства и причинения физических страданий (ст. 36 УК Республики Болгария, ст. 38 УК Республики Казахстан, ст. 50 УК Украины, ст. 20 УК Эстонской Республики). Аналогичная формулировка содержалась и в ст. 20 УК РСФСР 1960 г. В литературе высказываются предложения восстановить данное указание в законе [5, с. 294]. Следует согласиться с позитивным значением отрицания целей унижения достоинства и причинения физических страданий при применении наказания. Это отрицание составляет один из содержательных моментов принципа справедливости. И именно поэтому, как нам видится, нет необходимости ни в дублировании этой сентенции в норме о целях наказания, ни в переносе ее из ст. 6 УК в ст. 43 УК.
Таким образом, цели наказания делятся на те, что относятся к наказанию в объективном смысле, и к наказанию в его субъективном значении. К первой группе относится цель общего предупреждения, которая состоит в удержании от совершения преступления той категории лиц, которая не совершает их из-за страха применения наказания. Ко второй группе относятся цели наказания, которых стремится достичь правоприменитель по конкретному уголовному делу: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и частное предупреждение.
Определение целей наказания отражает правосознание законодателя. От того, к каким целям стремится общество, применяя уголовное наказание, зависят система наказаний, принципы его назначения, в конечном счете, уголовная политика, зависят от господствующей в уголовно-правовой доктрине концепции наказания. Уголовноправовая доктрина должна сыграть доминирующую роль в выработке концепции наказания, чтобы упредить от ход от демократических и общегуманитарных принципов права. Выработка основных идей об уголовном наказании должна осуществляться прежде всего на философском уровне. На сегодняшний момент еще не сложилось такого научного направления, как отраслевая философия права, в частности уголовного. Но мы уверены; без философского осмысления уголовное право, уголовно-правовая политика обречены на нестабильность.
Список литературы Цели наказания как символы уголовной политики
- Азарян Е. Преступление. Наказание. Правопорядок. СПб., 2005.
- Велиев С. А. Принципы назначения наказания. СПб., 2004.
- Волков Б. С. Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы/Материалы II Международной научно-практической конференции, сост. на юрид. фак. МГУ им. Ломоносова 30 -31 мая 2002 г. М., 2003.
- Дагель П. С. О принципе целесообразности наказания//Правоведение. 1962. № 1.
- Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002.
- Итоги деятельности УИС Министерства юстиции России. 2003.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. проф. Л. Л. Кругликова. M.f 2005.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. проф. Л. Л. Кругликова. Автор комментария к ст. 43 УК/В. К. Дуюнов. М., 2005.
- Курс уголовного права в 5 тт./под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Т. 2. Общая часть. Учение о наказании. (Автор Главы 1 «Понятие и цели наказания» -Н. Ф. Кузнецова). М.
- Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизм действия. СПб., 2005.
- Никифоров Б. С. Наказание и его цели//Советское государство и право. 1981. № 9.
- Побегайло Э. Ф. Кризис современной уголовной политики. Сб. науч. тр.: Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние/под ред. д. ю. н., проф. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2004.
- Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990.
- Становский М. Н. Назначение наказания. СПб., 1999.
- Сундуров Ф. Р. Определение понятия цели уголовного наказания//Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Сер. «Юриспруденция». Тольятти, 2003. Вып. 30.
- Уголовное право. Общая часть/под ред. В.П. Малкова, Ф.Р. Сундурова. Казань, 1994.
- Уголовное наказание и его социальное предназначение в демократическом обществе/Российское уголовное право: традиции, современность, будущее: Материалы научной конференции, посвященной памяти профессора М. Д. Шаргородского (к столетию со дня рождения) 1 -2 июля 2004 г. СПб., 2005.
- Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000.
- Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб., 2003.