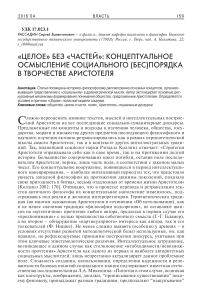«Целое» без «частей»: концептуальное осмысление социального (бес)порядка в творчестве Аристотеля
Автор: Рассадин Сергей Валентинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историко-философскому рассмотрению основных концептов, организовывавших представление о «социальном» в древнегреческой мысли. Автор эксплицирует основные дискурсивные механизмы формирования понимания общества, предложенные Аристотелем. Определяются условия и причины «сборки» полисной модели социума.
Общество, целое и части, полис, аристотель, социальные дискурсы
Короткий адрес: https://sciup.org/170168363
IDR: 170168363 | УДК: 17.023.1
Текст научной статьи «Целое» без «частей»: концептуальное осмысление социального (бес)порядка в творчестве Аристотеля
С ложно переоценить влияние текстов, мыслей и интеллектуальных построений Аристотеля на все последующие социально-гуманитарные дискурсы.
Предложенные им концепты и подходы к изучению человека, общества, государства, морали и множества других предметов последующего философского и научного изучения активно ретранслировались как в рамках перипатетической школы самого Аристотеля, так и в контексте других интеллектуальных традиций. Так, виднейший социолог науки Рэндалл Коллинз отмечает: «Стратегия Аристотеля оправдывала себя как в свое время, так и на протяжении долгой истории. Большинство соперничавших школ погибли, оставив поле последователям Аристотеля, вернее, лишь часть поля, в соответствии с законом малых чисел. Его концептуальное вооружение, появившееся в период интеллектуального маневрирования, – наиболее интенсивный период из тех, что предстояло увидеть западной философии на протяжении дюжины поколений, показало свою пригодность в битвах, весьма отдаленных от времени жизни Аристотеля» [Коллинз 2002: 170]. Очевидно, что в процессе перевода и ретрансляции текстов античного философа их концептуальное наполнение изменялось, подстраиваясь под реалии и желания интерпретаторов. Герменевтическая традиция (во многом заложенная Аристотелем в сочинении «Об истолковании), как и не менее значимая традиция «философии подозрения», не оставляют шансов на «аутентичное» прочтение любого автора, предлагая в первом случае его «предпонимание» с целью производства собственного смысла (Г.-Г. Гадамер), а во втором – обнаружение «партикулярного» интереса как автора, так и его толкователей (Ф. Ницше). Не менее сложно выявить (особенно у древних – в условиях отсутствия развитой методологической базы) используемые, но, как правило, не рефлексируемые принципы построения дискурса, учитывая при этом ключевые эпистемологические различия. Интеллектуальное затруднение, возникающее в данном случае как столкновение «необходимости/невозмож-ности прочтения» Аристотеля как одного из первых и наиболее авторитетных социальных мыслителей, лишь непрестанно актуализирует данное проблемное поле. Сложность создания, использования, определения надежности и релевантности базовых понятий социального знания подчеркивает известная отечественная исследовательница Л.А. Микешина: «Понятия в этом случае, возникая как конструкты, воображения, догадки, “приписывание существования” некоему феномену, принадлежат разным традициям, предполагают “нащупывание”
религиозных, политических, культурных, а затем и научных смыслов и ценностей, их исторической трансформации, т. е. изменения значений. Обозначенные этими понятиями объекты специфические – неприродные, чувственно не воспринимаемые, умственно сконструированные, функциональные, структурно оформленные, изменчиво-неопределенные (неформализованные, существующие как концепты), имеющие особую реальность как абстракции, понятия всеобщности, идеальные предметности. Они формируются в истории культуры и науки как гипостазирование и конструирование новых смыслов и новых ценностей, обретают предметность и в этом качестве получают свое обозначение-название в понятиях и концептах. Содержание этих понятий “эволюционирует” в ходе социальной истории и культурных трансформаций и может быть критически переосмыслено на любом этапе их существования в социуме и культуре» [Микешина 2010: 273-274].
Критическое переосмысление социального дискурса Аристотеля (как, впрочем, и всех древних мыслителей) следует осуществлять, начиная с анализа базовых методологических установок, в явном или латентном виде конституирующих сам дискурс. Для большинства античных мыслителей «классического» периода важнейшим методологическим принципом, применимым к любым изучаемым объектам, выступал принцип «целого» и «частей». Например, Платон в ряде диа-логов 1 развивает целостную диалектику соотношения этих понятий в различных познавательных ситуациях, одновременно подчеркивая крайнюю сложность их фиксации и атрибутирования и невозможность их элиминации из дискурсивного пространства. В диалоге «Парменид», придя к утверждению, что «часть есть часть из многого и не всех его [членов], но некоей одной идеи и некоего единого, которое мы называем целым, ставшим из всех [членов] законченным единым; часть и есть часть такого целого» [Платон 1993: 396], герой Платона при задействовании понятия «другое» вынужден констатировать невозможность подобного использования пары «целое – часть» в данной познавательной ситуации: «другое не есть также многое, потому что если бы оно было многим, то каждое из многого было бы одной частью целого. На самом же деле другое в отношении единого не есть ни единое, ни многое, ни целое, ни части, раз оно никак не причастно единому» [Платон 1993: 400].
Сводя «социальное» к полису (в русском переводе – государству), Платон в качестве основной объяснительной модели использует принцип «целого и частей»: «Может ли быть, по-нашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?» [Платон 1994а: 238]. Полисная организация «социального» для Платона, безусловно, определяется его τέλος (telos) – целью или завершением, при этом «часть» a priori служит «целому». Платон, пользуясь, по сути, еще повседневным языком, не проводит глубокий анализ «социального»: «частью» для него является отдельный человек: «Над каждой из этих частей, вплоть до наименьших, поставлен правитель, ведающий мельчайшими проявлениями всех состояний и действий, все это направлено к определенной конечной цели. Одной из таких частиц являешься и ты, пусть чрезвычайно малой, жалкий человек, и ты влечешься, постоянно имея перед глазами целое. Ты и не замечаешь, что все, что возникло, возникает ради всего в целом, с тем чтобы осуществилось присущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это возникает не ради тебя, а наоборот, ты ради него» [Платон 1994б: 365]. Важнейшей чертой телеологизма «социального» у Платона является его тотальная когерентность, в рамках которой деонти- чески определяется место каждого человека: «Ведь любой врач, любой искусный ремесленник все делает ради целого, направляя все к общему благу, а не создает целое ради части. Ты же досадуешь, не зная, каким образом то, что для тебя, в силу всеобщего становления, оказывается наилучшим, согласуется с целым и с тобой самим» [Платон 1994б: 365]. Взаимная согласованность частей определяется Платоном как отличительная черта правильной организации «социального» в формате полиса: «Это потому, дорогие мои друзья, что у вас действительно есть государственное устройство; те же виды, которые мы только что назвали, – это не государства, а попросту сожительства граждан, где одна их часть владычествует, а другая рабски повинуется. Каждое такое сожительство получает наименование по господствующей в нем власти» [Платон 1994б: 164]. Следствием подобного видения «социального» становится его метафоризация как «тела» (σйμα – sōma): «Но ведь мы согласились, что для государства это величайшее благо: мы уподобили благоустроенное государство телу, страдания или здоровье которого зависят от состояния его частей» [Платон 1994а: 240-241].
Используемые Платоном подходы активно применялись при анализе «социального» и его учеником Аристотелем. Но при этом Стагирит отказывается от успешно использовавшегося учителем диалогического способа рассуждения и разрабатывает новый – аналитический, позволяющий (по сути, впервые) задействовать механизм конципирования, который обеспечивает принципиально новые эвристические возможности как по выявлению новых неприродных объектов, так и по конструированию новых смыслов и значений. Как отмечает Ю.Н. Давыдов, именно последнее позволило Аристотелю качественно проанализировать внутреннюю структуру «социального»: «Платоновская концепция государственно-политическим образом структурированного общества получила дальнейшее развитие у Аристотеля, осмыслившего под углом зрения власти (господства) не только его макро-, но и микроструктуру. Господство/подчине-ние, понятое как основополагающий тип межчеловеческой связи, структурирующей население в общество, аморфную массу людей в политически дифференцированное целое – полис, характеризует, согласно Аристотелю, не только публичную, но также внутрисемейную жизнь цивилизованных греков в отличие от нецивилизованных “варваров”» [Давыдов 2000: 172]. Обращение к новым методам теоретизирования, несмотря на весь их потенциал, в то же время приводит Аристотеля к признанию ограниченности и излишней абстрактности конструируемых понятий: «В теоретических построениях нельзя искать той же точности, какая требуется при наблюдениях над тем, что доступно исследованию путем опыта» [Аристотель 1984б: 602].
Важнейшей предпосылкой теоретических построений Аристотеля является стремление изучать все с точки зрения природы исследуемого объекта. Концепт «природа» обладает у Аристотеля рядом неименных качеств, при этом ссылки на нее не обосновываются, а скорее сами являются бесспорными аргументами. «Природа» (φύσις – physis ) для Стагирита является универсальным концептом, соотносимым с любым феноменом, склонным к изменению путем роста. Греческое слово φύσις ( physiс ) происходит от глагола φύω ( phueo ) – «возникать, вырастать, расти». По Аристотелю, все, относимое к «природе», связано с ростом и изменением в соответствии с установленной изначально моделью развития. Для каждого объекта существует своя собственная модель роста. Заложенная возможность роста, по мнению Стагирита, не всегда реализуется или реализуется не полностью. Так, в сочинении «О душе» древнегреческий мыслитель фиксирует как телеологическую суть «природы», так и вероятность случайного отклонения: «…природа ничего не делает напрасно и не упускает ничего необходимого (разве что у существ уродливых и не достигающих полного развития)»
[Аристотель 1976: 441]. Уродство и недоразвитие для него также является совершенно естественным течением событий, но все отклонения исключаются из рассмотрения. Правильность же изменений и роста определяется Аристотелем по «большинству случаев».
Адекватная экспликация воззрений Аристотеля возможна при условии включения в поле социального знания концептов власти, политики, биологии и антропологии. Он очень плотно дискурсивно увязывает этическую, политическую, биологическую и антропологическую составляющие «социального», мысля данный феномен одновременно в ряде измерений, среди которых основными являются человек, семья, полис, этнос и природа.
Социальный, биологический и антропологический дискурсы Аристотеля строятся через постулирование ряда субстанциональных свойств природы, транслируемых на существование «социального», биологического и человека как относящегося к «живому», которое он в данных случаях определяет через слово ζωή ( zóē ) – «жизнь» как факт существования для всех живых существ. «Живое» в этом смысле для Аристотеля всегда стремится к полной реализации заложенной модели развития, понимаемой как τέλος ( telos ) – цель, завершение, окончательное оформление, финал.
Говоря предметно о telos «живого», Аристотель принципиально отказывается использовать слово zóē и применяет слово «жизнь» как βίος ( bios ). Джорджо Агамбен пишет, что данное слово «указывало на правильный способ или форму жизни индивида или группы» [Агамбен 2011: 7]. Telos отдельного человека, группы людей и человеческого общества вообще определяется Аристотелем как достижение блага или «участие в прекрасной жизни»: «это по преимуществу и является целью как для объединенной совокупности людей, так и для каждого человека в отдельности. Люди объединяются и ради самой жизни, скрепляя государственное общение…» [Аристотель 1984б: 455].
Определяющей чертой человека, в отличие от других живых существ, является наличие у человека разума или речи (λόγου – logos; νοVς – nous ): «между тем один только человек из всех живых существ одарен речью», что приводит человека «к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость» [Аристотель 1984б: 379]. Последнее, т. е. наличие у человека морали, возникающей как следствие правильного применения разума/речи, и позволяет человеку полностью реализовать свою природу.
Теоретическое гипостазирование должного человека и должной социальной организации не отменяет для Аристотеля наличия различных искажений как природы самого человека, так и природы его социальных объединений. Множество «неразумных» или «частично разумных» – рабов, варваров, женщин и детей, продажа в рабство и освобождение из него, моральное несовершенство свободных греков и другие выявляемые им реалии ставили перед Стагиритом сложную задачу «вписывания» проблемных зон в целостную картину правильного природного развития человека и общества. Использование, подобно Платону, традиционной модели «целого и частей» в данном случае для его ученика оказывается весьма затруднительным: «Подобно тому, как в остальных, созданных природой сложных образованиях не все то, без чего не может существовать целое, является частью этого целого, так, очевидно, нельзя считать частями государства все то, что необходимо для его существования; то же приложимо и ко всякому другому общению, которое должно образовываться из однородных частей» [Аристотель 1984б: 601]. Данная методологическая новация (не все части целого считать частями целого) отсылает к природным исключениям, но ориентирована на решение социально-антропологических диссонансов. Иерархическое социальное устройство реальных социальных совокупностей, действительная сложность их организации принципиально не согласовывались ни с конструктом «человек», ни с не получившим окончательной «сборки» (Б. Латур) греческим социумом, ни с предполагаемой конечной целью существования человека и общества («итак, ясно, что наилучшая жизнь для каждого человека в отдельности и для всего государства в целом должны быть одной и той же» [Аристотель 1984б: 596]). Выделяя в качестве системного атрибута «социального порядка» общение («Государство же есть общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни» [Аристотель 1984б: 603]), Аристотель вынужден исключить из него всех не обладающих правовой и политической речью (и, соответственно, разумом) – рабов («ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб» [Аристотель 1984а: 237], более того – «самая собственность вовсе не составляет части государства, хотя она включает и много одушевленных существ» [Аристотель 1984б: 603]), метеков, женщин, детей. Последнее, впрочем, не отменяет для Аристотеля возможность некого досоци-ального уровня общения, объединяющего всех потенциально разумных, а значит способных к общению людей, включая рабов: «…как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком возможна. Кажется ведь, что существует некое право у всякого человека в отношении ко всякому человеку, способному вступать во взаимоотношения на основе закона и договора, а значит, и дружба возможна в той мере, в какой раб – человек» [Аристотель 1984а: 237].
Список литературы «Целое» без «частей»: концептуальное осмысление социального (бес)порядка в творчестве Аристотеля
- Агамбен Дж. 2011. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа. 256 с
- Аристотель. 1976. О душе. -Сочинения. В 4 т. М.: Мысль. Т. 1
- Аристотель. 1984а. Никомахова этика. -Сочинения. В 4 т. М.: Мысль. Т. 4
- Аристотель. 1984б. Политика. -Сочинения. В 4 т. М.: Мысль. Т. 4
- Давыдов Ю.Н. 2000. Античная предыстория социальной науки. -Философия науки. Вып. 6. М.: ИФ РАН. С. 160-186
- Коллинз Р. 2002. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф. 1282 с
- Микешина Л.А. 2010. Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки. М.: РОССПЭН. 575 с
- Платон. 1993. Парменид. -Собрание сочинений. В 4 т. (под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи). М.: Мысль. Т. 2
- Платон. 1994а. Государство. -Собрание сочинений. В 4 т. (под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи). М.: Мысль. Т. 3(1)
- Платон. 1994б. Законы. -Собрание сочинений. В 4 т. (под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи). М.: Мысль. Т. 4