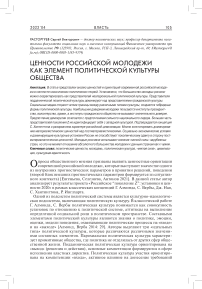Ценности российской молодежи как элемент политической культуры общества
Автор: Расторгуев Сергей Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ ценностей и ориентаций современной российской молодежи в контексте классических политических теорий. Установлено, что большинство молодых россиян можно охарактеризовать как представителей неопарохиальной политической культуры. Представители подданнической политической культуры доминируют над представителями гражданской культуры. Социальные медиа стирают четкие границы между различными типами культуры, создаются гибридные формы политической культуры. Наибольшим доверием молодежи пользуются институты президентства, волонтерства, армии, а институты гражданского общества не вызывают значительного доверия. Предпочтение демократии сочетается с предпочтением сильного национального лидера. Большая часть представителей поколения Z не идентифицирует себя с западной культурой. Подтверждается концепция С. Хантингтона о разорванном характере российской цивилизации. Можно констатировать доминирование материалистических ценностей над постматериалистическими. Социально-экономические условия и доминирующие культурные установки России не способствуют поколенческому сдвигу в сторону постматериалистических ценностей. Молодые россияне испытывают влияние «мягкой силы» зарубежных стран, но это не меняет отношение абсолютного большинства молодежи к данным странам как к чужим.
Политические ценности, молодежь, политическая культура, «мягкая сила», цивилизация, культурная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170195732
IDR: 170195732 | DOI: 10.31171/vlast.v30i4.9134
Текст научной статьи Ценности российской молодежи как элемент политической культуры общества
О просы общественного мнения призваны выявить ценностные ориентации современной российской молодежи, которые выступают в качестве одного из внутренних прогностических параметров в принятии решений, поведении (второй блок внешних прогностических параметров формируется из ситуативного контекста) [Евгеньева, Селезнева, Антонов 2021]. В данной статье автор анализирует результаты проекта «Российское “поколение Z”: установки и ценности 2020» в рамках классических концепций Г. Алмонда, С. Вербы, Дж. Ная, С. Хантингтона, Р. Инглхарта.
Одной из подсистем политической системы является культурно-идеологическая подсистема, включающая политическую культуру. В классической работе Г. Алмонда, С. Вербы политическая культура понимается как совокупность установок по отношению к политической системе, аттитюды на выполнение определенной социальной роли в политическом пространстве. Составными элементами политической культуры являются знания о политике, эмоции, оценки, модели поведения, охватывающие политические процессы на «входе» и на «выходе» [Алмонд, Верба 2014: 29]. Авторы выделяют три «идеальных типа» политической культуры, которые различаются различными значениями составных элементов. Парохиальная политическая культура характеризует примитивные общества, где политика не отделилась от других сфер общественной жизни. Подданническая политическая культура ориентирована на «выход» (решения и действия), основные компетенции формируются в сфере исполнения властных директив. Политическая культура участия ориентирована на компетенции «входа», активное влияние на донесение требований и поддержки посредством демократических институтов до государственных органов. В действительности существуют различные комбинации трех идеальных типов, а внутри любой национальной политической культуры можно выделить представителей трех указанных типов.
Результаты опросов ФОМа [Попов 2019: 140] и проекта «Российское “поколение Z”: установки и ценности» свидетельствуют, что приблизительно 60% российской молодежи не демонстрируют какой-либо значимый интерес к политическим вопросам, концентрируясь на частной жизни. Аполитичное большинство можно охарактеризовать как представителей неопарохиальной политической культуры. Оставшиеся 40% составляют представители подданнической культуры и культуры участия, причем первая явно преобладает над второй, поскольку менее 10% молодежи выразили готовность к неконвенциональным формам офлайн-активности, что можно рассматривать как атрибут культуры участия (гражданская культура).
Г. Алмонд, С. Верба указывали на возможность определения конгруэнтности политической культуры и политической системы. Парохиальная культура соответствует традиционному обществу, подданническая – авторитарному режиму, культура участия – демократии. В частности, преобладание позитивных или негативных эмоций и оценок свидетельствует либо о гармонии (лояльности), либо о дисгармонии (нелояльности). В настоящее время можно классифицировать страны в континууме «ценности подданнической культуры – ценности культуры участия», замеряя выраженность отдельных параметров.
На важность культурной идентичности, совпадающей с цивилизационной идентичностью, в современной политике указал С. Хантингтон. Цивилизация представляется вершиной культуры, состоящей из языка, религии, исторических событий, социальных институтов. Особое значение в определении и выборе идентичности С. Хантингтон отводил религии. В концепции С. Хантингтона существуют расколотые страны (Индия, Малайзия, Украина), в которых соседствуют элементы разных цивилизаций, и разорванные страны (Россия, Турция, Мексика), в которых элиты и массы тяготеют к разным культурам [Хантингтон 2017: 223-250]. Такой культурный дуализм приводит к политическим и экономическим конфликтам. Доминирующая культура западной цивилизации представляется как универсальная, из-за чего модернизация долгое время воспринималась как вестернизация. Формирование полицентрического мира в форме соперничества цивилизаций приводит к отказу от восприятия западных ценностей в качестве универсальных. Сама западная цивилизация в результате миграции из стран третьего мира испытывает давление незападных культур, особенно ислама. Культурные факторы мультиплицируются демографическими и поколенческими сдвигами в рамках национальных государств и цивилизаций [Титов 2021].
Еще в начале 2020 г. практически 2/3 молодых респондентов отмечали конфронтацию России и Европы, на неевропейскую идентичность России указали 58% респондентов, а на незападную культурную идентичность – 76%.
Р. Инглхарт исследовал эволюцию культурных ценностей стран мира после Второй мировой войны. Под влиянием роста уровня жизни, перехода к постиндустриальному обществу обнаруживается межпоколенческий сдвиг от материалистических ценностей, нацеленных на экономические блага, к постматериалистическим ценностям, нацеленным на удовлетворение верхних уровней потребностей пирамиды А. Маслоу – свободы самовыражения. В частности, поколения, социализировавшиеся в эпоху мира и процветания, ориентированы на ценности гендерного разнообразия, экологии, свободы выбора, терпимости к инаковости. Экономические и политические шоки способны вернуть общество к традиционным ценностям материального благополучия и физической безопасности, но при преодолении кризисов молодые поколения возвращаются к постматериалистическим ценностям. Материалистические ценности тесно коррелируют с поддержкой традиционных религий, а постматериалистические ценности могут быть как секулярными, так и связанными с новыми формами духовных практик [Инглхарт 2018: 31-93].
Р. Инглхарт указывает на существование «эффекта колеи»: культурные традиции незападных цивилизаций замедляют распространение постматериалистических ценностей (которые в духе западоцентризма считаются универсальными). Замещение одного вида ценностей другим происходит со скоростью замещения поколений. Ценности изменяются не в результате взросления поколения, а, сформировавшись в период социализации, сохраняются в течение жизни поколения. Носители постматериалистических ценностей свободного выбора образуют партнерские семьи с небольшим числом детей, терпимы к разводам и разнообразным формам сексуального поведения.
Р. Инглхарт связывал высокий уровень экономического развития с предпочтением постматериалистических ценностей и развитием демократии. Сама по себе демократия не обусловливает социально-экономическое развитие. Автор рассматривает демократические институты как предложение демократии, а ценности самовыражения – как спрос на демократию. Поэтому в экономически среднеразвитых авторитарных режимах отсутствует массовый спрос на демократию, доминируют материалистические ценности (доход, безопасность). В экономически развитых странах (за исключением монархий Персидского залива) имеется широкий спрос на демократию, в них доминируют постматериалистические ценности (автономия, свобода выбора). Соотношение спроса и предложения демократии может быть представлено в количественных данных, культурный спрос на демократические институты является основной переменной, определяющей динамику демократизации. Таким образом, причинно-следственная цепочка выглядит следующим образом: экономический рост – высокий уровень экономического развития – постматериалистические ценности – демократия. Наряду с уровнем экономического развития важны институциональные и культурные факторы («эффект колеи») [Демократизация 2015: 233-261].
Партии и политики не столько позиционируют себя как приверженцев тра- диционных идеологических доктрин, сколько предлагают выбрать определенный круг вопросов для формирования повестки дня. Само формирование повестки дня, способы решения проблем обнаруживают скрытый идеологический подтекст. Идеология-ориентир включает в политику любые вопросы, которые раньше стояли вне политики, – из экономики, политики, социальной жизни, культуры. В повестку дня вносятся экология, глобализация, мультикультурализм, феминизм, гендерное равенство и разнообразие, права меньшинств, миграция, базовый доход, свобода Интернета. Политические партии разрабатывают и формируют предложение идеологий-программ с учетом выявленного спроса идеологий-ориентиров. В результате идеологии-программы становятся популистскими (они разрабатываются под тактические цели выборов), а не долгосрочными стратегиями, предлагают простые решения сложных проблем, агрегируют массовые запросы без выделения социальных групп.
Предложение демократических институтов связано с готовностью элиты поделиться властью. Для этого она оценивает издержки репрессий и уступок. Если издержки уступок меньше, чем издержки репрессий, то элита идет на демократизацию. В противном случае элита выберет репрессии. Р. Инглхарт отмечает, что спрос на демократию осуществляют прежде всего обладатели материальных и когнитивных ресурсов, а не малоимущие граждане. В развитых странах проблема имущественного неравенства и иммиграции вызывает подъем правого популизма, прежде всего среди сторонников материалистических ценностей. Сторонники постматериалистических ценностей поддерживают либералов и центристов («зеленые»). Электоральное поведение во многом стало определяться культурным (ценностным) предпочтением, а не экономическими факторами.
Дж. Най сделал популярным концепт «мягкой силы», который обозначает совокупность мирных средств для достижения политических целей. Тремя главными ресурсами «мягкой силы» Дж. Най назвал культуру, политические ценности и курс внешней политики. Страны-лидеры стремятся популяризировать за границей свои культурные образцы, ценности, институты для распространения своего влияния. Концепция «мягкой силы» может использоваться для объяснения современных гибридных войн, апеллирующих к концептам идентичности, исторической памяти, ценностного ядра. Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий повышает вли- яние «мягкой силы» во внешней политике. Внешняя политика опирается на принципы легальности и легитимности с целью добровольной мобилизации стран-союзников. В целом концепция «мягкой силы», разрабатывавшаяся как обоснование привлекательности западных образцов культуры, политических ценностей и институтов, нашла сторонников в незападных цивилизациях – китайской, российской, исламской [Най 2006].
Из сказанного выше можно сделать следующие выводы.
-
1. Классические концепции политологов не теряют актуальность в качестве методологических рамок для современных эмпирических исследований.
-
2. Аполитичное большинство молодых россиян можно охарактеризовать как представителей неопарохиальной политической культуры. Среди интересующихся политикой основная масса может быть классифицирована как носители подданнической культуры. Однако цифровые формы коммуникации изменяют и размывают жесткие характеристики подданнической и гражданской культур. Создается континуум, в котором пересекаются черты всех трех идеальных типов политической культуры.
-
3. Среди молодежи наибольшим доверием пользуются институты президентства, волонтерства, армии, а институты гражданского общества не вызывают значительного доверия.
-
4. Подтверждается тезис С. Хантингтона о разорванном характере российской цивилизации. Молодежь не идентифицирует себя с западной культурой, а часть элиты рассматривает коллективный Запад как образец модернизации.
-
5. У российской молодежи доминируют материалистические ценности, хотя ценности самовыражения более значимы, чем у представителей старших поколений.
-
6. Молодые россияне испытывают влияние «мягкой силы» зарубежных стран, но это не меняет отношение абсолютного большинства молодежи к данным странам как к чужим.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
Список литературы Ценности российской молодежи как элемент политической культуры общества
- Алмонд Г., Верба С. 2014. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах (пер. с англ. Е. Генделя). М.: Мысль. 499 с.
- Гудков Л., Зоркая Н., Кочергина Е., Пипия К., Рысина А. 2020. Российское поколение Z: установки и ценности 2019-2020. Фонд им. Фридриха Эберта. 148 с. Доступ: https://library.fes.de/pdf-iiles/bueros/moskau/16135.pdf (проверено 03.07.2022).
- Демократизация (под ред. К.В. Харпфера, П. Бернхагена, Р.Ф. Инглхарта, К. Вельцеля; пер. с англ. М.Г. Миронюка). 2015. М.: ИД ВШЭ. 708 с.
- Евгеньева Т.В., Селезнева А.В., Антонов Д.Е. 2021. Политическая культура российской студенческой молодежи: ценностные, образно-символические и поведенческие аспекты. — Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 11(2). C. 63-71.
- Инглхарт Р. 2018. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир (пер. с англ. С.Л. Лопатиной). М.: Мысль. 347 с.
- Най Дж.С. 2006. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике (пер. с англ. В.И. Супруна). Новосибирск; М.: Фонд социо-прогностических исследований «Тренды». 221 с.
- Попов Н.П. 2019. Сравнительный анализ социально-политических взглядов российской и американской молодежи. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 126-152.
- Сперкач А.И. 2021. Цивилизационные основания межэлитного взаимодействия в современной России. — Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 11(3). С. 47-54.
- Титов В.В. 2021. Ценностные ориентации и социальное самочувствие молодежи как фактор трансформации национально-государственной идентичности в России. — Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 11(3). С. 27-32.
- Хантингтон С. 2017. Столкновение цивилизаций (пер. с англ. Т. Велимеева). М.: АСТ. 571 с.
- Bogardus E.S. 1933. A Social Distance Scale. — Sociology and Social Research. No. 17. P. 265-271.