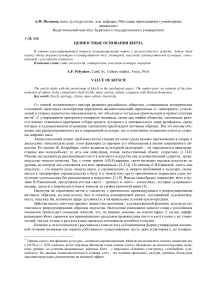Ценностные основания китча
Автор: Поляков А.Ф.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы позиционирования китча в аксиологическом аспекте. Автор дает оценку этому явлению культуры в компаративном поле элитарной, массовой, художественной культуры, сопоставляет с российским омонимом.
Китч, аксиология, элитарность, массовая культура, иерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/142142368
IDR: 142142368 | УДК: 008
Текст научной статьи Ценностные основания китча
Со сменой политического вектора развития российского общества, сложившихся коммерческих отношений произошла своеобразная переоценка жизнеполагающей парадигмы от «имперских» устремлений в сторону аксиологии повседневности, что обусловило тотальное приятие норм и правил эстетики китча2. С утверждением приоритета интересов индивида, семьи как ячейки общества, «маленькие радости жизни» становятся критерием отбора средств духовного и материального мира артефактов, среди которых в художественном отношении однозначно преобладают китчевые образцы. Все это вполне объясняет как распространенность их в современной культуре, так и позитивное отношение к ним со стороны широких масс.
Аксиологический аспект проблемы китча становится своего рода камнем преткновения в спорах и дискуссиях относительно роли этого феномена со времени его обоснования в жизни современного общества. По оценке Ж. Бодрийяра, «китч является культурной категорией… он определяется преимущественно как псевдообъект, то есть как симуляция, копия, искусственный объект, стереотип» [1, 144 ]. Многие исследователи рассматривают китч в контексте искусства как художественный суррогат, эрзац-искусство низкого качества. Так, с точки зрения А.В.Кукаркина, «китч низводит высокое искусство до уровня, на котором оно становится для всех приемлемым» [2, 324 ]. По мнению Е.Н.Карцевой, «китч, или пошлость, - это нищета духа, нищета вкуса, а следовательно, и нищета требований к культуре, сводящихся к гипертрофии украшательства в быту и к замкнутому кругу примитивных моральных схем, получению удовольствия без размышления в искусстве» [3, 19 ]. Весьма своеобразно определяет китч в музыке В.Рожновский, представляя его как «китч – эрозию» и «китч – косметику», которые «упрощают» шедевр, делая его широкодоступным, низводя до уровня рыночной вещи [4].
Несмотря на стремление китча к тождеству с оригиналом, превалирующим в репродуцировании китчевых образцов, на наш взгляд, был и остается коммерческий расчет, поставивший художественность, казалось бы, истинную сферу духовности, в материальные условия купли-продажи.
Действительно, китч как предмет нашего исследования - художественный феномен, исходя из его генезиса и репродуцирования образцов искусства. Вследствие совпадения данного слова с российским омонимом происходит смешение понятий, что, по нашему мнению, не совсем верно. С целью дифференциации обоих терминов мы принципиально разделяем правописание (китч и кич) в связи с их этимологией, так как только в русском языке оказалось возможным подобное созвучие.
Кичение в онтологическом (российском) смысле есть сублимативная форма утверждения жизненной позиции индивида как гаранта собственного существования, пусть даже иллюзорного, но подкреп- ленного силой духа самого субъекта. Одним из наглядных примеров может служить традиция свадебного величания (кичения) жениха в качестве «князя молодого». Кичение может осуществляться также на основе вполне реальных фактов с целью закрепления собственного превосходства. В таком случае оно теряет свой основной смысл псевдоподобия, ассоциируясь с обыденным бахвальством и хвастовством. Кроме того, кичение в онтологическом смысле подразумевает соблюдение законов иерархии мирозда-ния, побуждает стремление к его высшим, качественным образцам. Кичащийся обычно знает об истинном уровне своих притязаний, поэтому можно сказать, что данный вид кича способствует формированию вполне хорошего вкуса как критерия отбора жизнеполагающих объектов. Неслучайно с понятием «кич» связано приобретение дорогостоящих, элитных предметов, таких как автомобиль известной марки, шуба ценного меха и другие атрибуты роскоши, что отнюдь не демонстрирует так называемый дурной вкус, характерный для художественного китча, и связанные с этим иные негативные детерминанты. Это - скорее поведенческий тип, потребляющий, функционирующий, но не репродуцирующий.
Когда мы говорим о термине «Kitsch», получившем теоретическое обоснование в среде немецких исследователей, судя по его генезису в художественном ареале различных жанров искусства, возникает вопрос не только его конкретной дефиниции, но и выявления экзистенции его проблемного поля. Существует точка зрения, согласно которой данный феномен не является искусством в настоящем смысле этого слова, представляя собой лишь группу предметов культурно-бытового уровня, не имеющих самостоятельной художественно-эстетической ценности, но выполняющих функцию их замещения. Сторонники такого компромиссного решения предлагают вариант, при котором китч не рассматривается с художественной точки зрения, а лишь в качестве современных средств тиражирования по аналогии с массовой культурой, фиксирующей внимание, прежде всего, на общественном способе производства, потребления материальных и духовных ценностей.
Массовая культура - это скорее признак современной цивилизации с ее всепроникающей способностью. Поэтому определение ее в нехудожественном смысле вполне оправдано в отличие от китча. Массовая культура, по мнению А.В.Захарова, интегрирует общество не с помощью идей, а технологий. Она не должна рассматриваться как оценочная, эстетическая категория. Массовая культура, в его трактовке, - «это и не культура в строгом, собственном смысле слова, а та форма, которую принимает культ, развитие в условиях индустриальной цивилизации, в условиях массового индустриального общества» [5,с. 87 ]. Не случайно многие понятия, такие как современное общество, культура, сознание, вкус, продукт, детерминированы в качестве массовых .
В художественном отношении данный тип культуры занимает промежуточное положение между элитарностью, с которой массовый вкус характеризуется негативно, но приобретает некоторую позитивность в качестве массового продукта, и китчем, художественная основа которого не оставляет тому никакого шанса на успех в этом противостоянии. Безусловно, дуализм элитарности и массовости порождает неприятие последней. Вместе с тем включение китча в данный континуум меняет культурную парадигму, отодвигая понятие «массовости» за границы художественного смысла.
Подобный подход к китчу, с нашей точки зрения, неприемлем, так как искажает саму историю его генезиса и развития, нивелирует иерархию целостной культуры, в которой данному явлению с художественных позиций уже определена своя ниша в соответствии с его устоявшимися принципами репродуцирования. Кроме того, исключение художественности в китче анулирует этимологию этого понятия, смысл самого термина. Такая позиция снимает вопрос эстетического вкуса, но не решает саму проблему: распространяясь, китч постепенно вытесняет элитарную культуру, хотя она является его своеобразным барометром. Сегодня, по мнению К.Гринберга, «недостаточно иметь расположенность к настоящей культуре; человеку надо питать к настоящей культуре истинную страсть, которая даст ему силу противостоять подделкам, окружающим его и давящим на него с того самого момента, как он становится достаточно взрослым, чтобы рассматривать забавные картинки [6].
Аксиологический аспект проблемы в первую очередь исходит от принципа культурной иерархии, игнорируя который отрицается вся история человеческой культуры, создавшей на протяжении многих веков ее высокие образцы. Поэтому исключать аксиологическую доминанту в подходе к вопросу китча при сопоставлении различных точек зрения на данный феномен, исходя из его амбивалентности, значит убирать саму проблему, так как китч действительно существует в компаративном поле иерархии, без которого - это просто одна из многих субкультур, не вызывающих особой дискуссии. Иерархичность включает в себя готовность к конфликту по причине наличия в ней разного уровня ценностей. То, что хорошо само по себе и на своем месте, становится нетерпимым, если претендует на верховность. Так происходит и с китчем вследствие его стремления встать на уровень элитарности.
Как пишет Э.Гофман, «если у вас есть настоящий талант, настоящее понимание искусства - хорошо, учитесь музыке, создавайте нечто достойное искусства и в должной мере служите своим талантом посвященному. А если вы лишены таланта и хотите просто бренчать, то делайте это для себя и про себя, и не мучьте этим капельмейстера и других» [7,8]. Смысл этого изречения заключается в том, что некачественное воспроизводство, в данном случае музыкального искусства, независимо от его причин должно оставаться в рамках определенной субкультуры, а не распространяться на весь ареал целостной культуры, претендуя на ее высшие уровни, что составляет основное правило при детерминации китча.
Именно стремление китча достичь значения целостной культуры, включая ее типологические образцы в границах художественности, делает его таковым. Поэтому, следуя аксиологической парадигме, можно констатировать, что китч существует всегда в компаративном поле элитарности. Действительно, для китча, проявляющего себя в подобной компаративности, характерен дилетантизм(от лат. delectare -услаждать, забавлять) как оценочная категория, идущая «сверху» от представителей элитарной культуры, в сравнении с которой тот репродуцируется и распространяется.
Исходя из этого можно предположить, что китч реже проявляется в традиционной культуре, которая не стремится к первенству ввиду ее нравственной составляющей, удовлетворяя духовные потребности своих представителей, оставаясь в рамках субкультуры. Ярким тому примером служит хорошо сохранившаяся традиционная культура так называемых закрытых сообществ, какими являются «семей-ские» в Забайкалье. Однако остальной массив народной культуры уже подвергся трансформации (стилизации) под влиянием современных условий жизни, постепенно переходя в фольклоризм, который стоит ближе к китчу в смысле псевдоподобия.
Наше видение проблемы китча в контексте целостной системы культуры, и в частности, художественной, заключает в себе, прежде всего, аксиологический вопрос о сущности данного феномена и влиянии его на вектор инкультурации будущих поколений, ибо все большее число молодых людей существуют абсолютно вне «высокой» культуры, довольствуясь ее китчевыми образцами как своего рода эталонами. В первую очередь причина данного явления заключается в системе школьного образования, являющегося одним из основных факторов формирования личности, в недостаточной мере художественно-эстетического воспитания учащихся, игнорирования его, как правило, на всех административных уровнях. Такое положение дел находит свое объяснение в отсутствии, как правило, художественного воспитания и образования самих руководителей различных рангов, исключение - художественная литература в объеме средней школы.
Вместе с тем роль художественной культуры заключается не только в развитии самого чувства, но и мышления с помощью эмоций. Доказано, что знания, подкрепленные соответствующими чувствами, наиболее прочны и долговечны. Отсюда - особое значение художественного воспитания на высоких образцах искусства, которые, заметим, становятся все же востребованными в «массовом» обществе на различных церемониях и торжественных актах высокого уровня, несмотря на их, казалось бы, игнорирование в повседневной жизни. Данный пример еще раз позволяет утвердиться в мысли о незыблемости иерархии целостной культуры, о сформировавшейся ее типологии, которая определяет местоположение, соответственно, элитарной, массовой культуры и китча.
Следовательно, китч является оценочным понятием, проецируется на все, что не соответствует доминирующей системе ценностей, и дефиниция китча зависит от оценки профессионала, который не терпит китч лишь в своей сфере деятельности, но охотно (чаще по незнанию) потребляет в других. Как видим, необходимым условием этого является пересечение путей распространения художественных артефактов разного уровня, попадание их в поле зрения носителей ценностей элитарной культуры.
Н.А. Конрадова полагает, что произведения китча, обладая признаками определенного искусства, не содержат в себе феномена «китчевости» изначально. Они наделяются негативной характеристикой носителями определенных социокультурных и эстетических ценностей по причине несоответствия им, что вызывает определенные оценочные суждения. Отсюда - китч «является не совокупностью артефактов, репрезентирующих массовое искусство, а скорее представлением, умозрительной аксиологической конструкцией, существующей в общественном и научном сознании» [8, 4 ]. Трудно согласиться с подобным противопоставлением. Поэтому автор все же придерживается позиции А. Моля, утверждающего, что китч это не только стиль в литературе и искусстве (факт бытия), но и отношение к нему потребителей (аксиологическая конструкция).
Аналогичное мнение высказывает Т.Гундорова, подчеркивая, что с расширением сферы проявления модерных форм жизни, техники, быта, искусств, расширяется и сфера бытования китча, меняя его понимание. Становится очевидным, что китч образован не только вещами — объектами, которые по обыкновению называются китчем, но и сознанием, направленным на эти объекты, то есть восприятием их как китчевых. Таким образом, китч уже не отождествляется только с китч-объектами, а превращается в китч-рецепцию, где главным становится китчмен — субъект, творящий и потребляющий китч [9].
Многие жанры искусства, получившие признание лишь в прошлом веке, но уже ставшие классическими, мы воспринимаем как образцы высокой культуры, и не без основания. Как заметил искусствовед Сергей Одоевский, такие метаморфозы случаются постоянно в нашей жизни: «Подражание приво- дит к безвкусице, безвкусица исправляется и превращается в стиль, стиль развивается и становится классикой... И дальше по спирали»[10]. Все это характерно и для китча, прежние образцы которого получают статус вполне заслуженной художественной продукции согласно эстетическим нормам сегодняшнего дня. Действительно, те произведения прошлого, характеризуемые в свое время как китч, теперь могут быть восприняты совсем иначе вследствие изменившихся социокультурных условий под воздействием, например, эстетических концепций постмодернизма. Поэтому китч как явление культуры изначально аксиологичен в своем позиционировании, как на креативном уровне, так и на уровне вещи, и последующей ее рецепции.
В аналитическом плане относительно ценностных аспектов китча необходимо выделить его социально-антропологические основания, причины позитивного подхода к китчевой эстетике, широкой популярности этого феномена. Подобный подход стал возможным благодаря совокупности многих положительных сторон, присущих китчу, несмотря на негативное отношение к нему в целом. Критерием такой оценки может служить отражение в китче стремления к гармоничности и спокойствию, сохранению общечеловеческих ценностей; неприятию насилия и жестокости путем нейтрализации экстремальных ситуаций, превращения их в сентиментальную идиллию; характеристике его как искусства, обеспечивающего широкий доступ к произведениям мировой художественной культуры, даже посредством производства копии; сравнение китча с самой демократичной формой общественного сознания, превышающей привычные рамки художественного освоения действительности.
Кроме того, следует также подчеркнуть ценностное значение китча в стремлении одновременно сохранить традиционные черты быта и преодолеть повседневность креативностью «красивой» жизни. Неслучайно для китча характерна такая ценность эстетического порядка, как красота (с точки зрения элитарной культуры - это больше «красивость», чрезмерная в своем выражении).
Согласно нормам китчевой эстетики сюжетная сторона произведений в стиле «китч» построена таким образом, чтобы всячески избегать любого рода конфликтов, позиционируя идиллию природы и человека в ней. Поэтому основной пафос строится на утверждении семейных, религиозных ценностей и ценностей общества потребления. Как полагает В.Н.Железняков, китч сам внутри себя - самодостаточен. Он философски, мировоззренчески и эстетически завершен, и поэтому по-своему (по-китчевому) -совершенен [11, 13 ]. Следовательно, в китче есть все, что отвечало бы духовным потребностям человека, в массе своей занятого в производстве материальных ценностей общества либо сфере услуг, не обремененного проблемами предназначения искусства.
По мнению норвежского художника Одда Нердрума, китч служит жизни, ставит вечные человеческие вопросы, смотрит на жизнь серьезно, жертвует смехом ради покоя, ищет индивидуальности в противовес иронии и скептицизму искусства. Несмотря на укоренившееся мнение, китч далек от политической пропаганды, это - страстная и единственно чувственная форма выражения на всех уровнях, в нем мастерство - решающий критерий качества [12]. Своеобразную защиту в отношении китча мы можем увидеть и в высказывании М. Кундеры, соглашающегося с тем, что китч исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо. «Никто для нас не супермен в борьбе с китчем. Как бы мы ни ругали его, китч остается составной частью человеческого существова-ния»[13].
Пример амбивалентности китча показывает И.Б. Левонтина, приводя следующие аргументы: «Окуджаве кричали: «Осторожно, пошлость!», потому что многих раздражали непривычная будничность его интонации и «мелкотемье». Однако в русской культуре есть и другая линия: если взглянуть на жизнь иначе — глазами Булгакова с его кремовыми шторами, глазами Розанова с его вареньем, то представляется чудовищной пошлостью презрение к живой, теплой и милой обыденности во имя мертвых высокопарных фраз» [14]. Следовательно, позитивные оценки данного феномена культуры имеют достаточные основания для существования.
Являясь «представителем» доминирующей системы ценностей массового общества, китч, таким образом, полностью включен в пространство аксиологии. Все дискуссии в отношении его в то же время содержат и позитивный аспект, отражающий существование многообразных форм целостной культуры в их иерархии. Поэтому иногда вполне убедительно звучат следующие высказывания защитников китча: само время требует всепроникающего китча. Китч — это, конечно, не насмешка, не хаос, сегодня это — высокий вкус и гармония. Китч широко востребован в массовой культуре, в частности в рекламе. Китч является точным выражением общего мироощущения гармонии, которую так любит «простой человек», поскольку в ней он видит выражение красоты и порядка вещей, и т.д.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что ценностные основания китча заключаются не только в его способности «продлевать жизнь» шедеврам мировой классики, хотя и несколько в ином ракурсе: упрощенном и, с точки зрения элитарности, опошленном, но и создавать позитивную модель мировосприятия посредством собственных художественных образов. Подобный вывод имеет определенную доказательную базу, подтвержденную всем ходом исторического развития художественной культуры, в которой немалое место отведено рассматриваемому нами феномену. Острые дискуссии относительно любых инноваций в данной области, центральным объектом которых нередко становится китч, позволяют говорить о его несомненной креативности и адаптированности на протяжении длительного времени, что свидетельствует о трансформации этого явления культуры в соответствии с интересами общества на каждом этапе его развития.