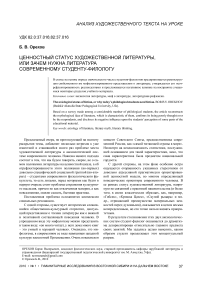Ценностный статус художественной литературы, или зачем нужна литература современному студенту-филологу
Автор: Орехов Борис Валерьевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Анализ художественного текста на уроке
Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе опроса значительного числа студентов-филологов предпринимается реконструкция свойственного им мифологизированного представления о литературе, утверждается его неотрефлектированность респондентами и прослеживается негативное влияние на восприятие учащимися некоторых разделов учебного материала.
Аксиология литературы, миф о литературе, литературная рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175207
IDR: 170175207 | УДК: 82.0:37.016;82:37.016
Текст научной статьи Ценностный статус художественной литературы, или зачем нужна литература современному студенту-филологу
Предлагаемый очерк, не претендующий на полноту раскрытия темы, добавляет несколько штрихов к уже известной и ставившейся много раз проблеме места художественной литературы в аксиологической системе современного человека. Новизна нашего подхода состоит в том, что мы будем говорить, скорее, не о самом положении литературы на ценностной шкале, а об отрефлектированности этого положения (во-первых) довольно специфической социальной группой (во-вторых) – студентами современного филологического факультета, то есть людьми, перед которыми как будто в первую очередь стоит проблема сохранения культурного наследия, причем не как отвлеченная материя, а как повседневная, можно сказать, бытовая практика.
Поставленная проблема осложняется комплексом социальных резонансов.
С одной стороны, существует исторически сложившийся общественно-культурный стереотип, диктующий представление о чтении литературы как о важной и позитивной составляющей поведения человека. В упрощенном виде эту мифологему можно представить в таком виде: «он много читает, у него дома много книг – это умный и хороший человек». Очевидно, это мифологема, в современном ее виде навязанная западной культуре идеологией Просвещения. Очень показателен концепт Советского Союза, предшественника современной России, как «самой читающей страны в мире». Несмотря на неоднозначность статистики, послужившей основанием для такой характеристики, ясно, что сама характеристика была предметом национальной гордости.
С другой стороны, на этом фоне особенно остро ощущается оторванность указанных стереотипов от довольно агрессивной прагматически ориентированной ценностной модели, во многом определяющей поведенческие ориентиры современного человека. В ее рамках статус художественной литературы, напрямую не связанной с практикой накопительства (и более того, в своих классических образцах, как, например, «Гобсек», «Крошка Цахес», «Скупой рыцарь» и мн. др., отрицающей преимущество материальных ценностей перед духовными), оказывается в целом весьма неопределенным, но его точно нельзя назвать приоритетным.
В результате столкновения этих двух аксиологических систем студент-филолог оказывается до драматизма дезориентирован относительно главного предмета своих занятий. Мы задались целью выяснить, каким образом студент преодолевает этот концептуальный разрыв.
ОРЕХОВ Борис Валерьевич, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы и страноведения (Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа).
На трех филологических факультетах (русского отделения филологического факультета, факультетов башкирской филологии и иностранных языков) Башкирского государственного педагогического университета (г. Уфа) был проведен письменный опрос, результаты которого и стали материалом настоящего обзора.
Формулировка задания предполагала ответ на вопрос о том, зачем может быть нужна литература в современном мире. В опросе участвовало 159 студентов первого и второго курсов (1988–1991 годов рождения). Ответ не ограничивался ни в объеме, ни в содержании.
Результаты в общем показывают, что несоответствие между положением художественной литературы в двух описанных выше аксиологических системах для студентов снимается простым игнорированием этого несоответствия.
Прежде всего приходится говорить о почти полной неотрефлектированности факта существования художественной литературы и ее места в ценностной системе. Конечно, нужно сделать скидку на то, что возрасту опрашиваемых вообще, видимо, не свойственна глубокая рефлексия, но все же степень клишированности ответов производит сильное впечатление.
В первую очередь об этом говорит тотальное отсутствие примеров для высказанных отвечавшими положений. Типичный ответ мы приведем полностью; этот пример удачен еще и потому, что содержит практически полный набор стереотипов, так или иначе фигурировавших во всех ответах респондентов. Орфография и пунктуация подлинника сохраняются во всех наших иллюстрациях: «Литературу нужно изучать во все времена. В современном мире литература тоже играет очень важную роль. Литература обогащает читателя духовно. Читая литературу, человек развивает свой интеллект. Читая произведения классических авторов, мы узнаем культуру, традиции того времени. А это очень важно – знать культуру наших предков. Литературное произведение заключает в себе мораль. Исходя из этого, можно выявить много советов, помогающих в жизни. Ведь часто, в той или иной жизненной ситуации, мы вспоминаем литературных героев, их поступки. Читая мы развиваем свою речь». Довольно очевидно, что за этим пассажем стоит монтаж «коммуникативных фрагментов» (Б.М. Гаспаров), то есть «готовых» этикетных формул, употребление которых избавляет от необходимости содержательно отвечать на поставленный вопрос.
Примеры, подтверждающие высказываемые положения, приведены только в трех случаях (менее 1,9% от общего числа ответов). Один из респондентов пересказывает фабулу романа «Мартин Иден», иллюстрируя таким образом мысль о зависимости производимого на читателя впечатления от свойственного ему мировоззрения (связь между тезисом и иллюстрацией не до конца логичная). В другом случае отвечавший описывает свою увлеченность «Мастером и Маргаритой»: «Например, я, читая “Мастера и Маргариту”
Булгакова не могла оторваться от нее и забыла про еду и сон». Третий пример пояснял тезис, в котором утверждалось, что литература «является источником небывалых знаний»: «Вот например в “Гулливере”, начинаешь понимать, что бывают люди, народы, которые очень умны и вольны». А вот сильные утверждения, более всего требующие иллюстративных примеров, если не развернутой многоуровневой аргументации, остались не фундированы: «Многие проблемы современного общества не получают еще большего распространения именно благодаря литературе». Каким образом происходит этот удивительный процесс и какие основания у респондента ставить это в заслугу литературе, остается совершенно неясным.
Многие наблюдения над структурой текста ответа также убеждают в обособленности рефлективного процесса от выдаваемого результата. Кольцевая композиция почти заклинательного типа, при которой ответ на вопрос начинается фразой «Литература в современном мире важна» и заканчивается предложением «Литература очень важна в современном мире» удручающе частотна. Начальная фраза «Литература просто необходима в современном мире», перекликающаяся с конечной фразой: «Без литературы жить в современном мире просто невозможно», составляет вполне узнаваемую пару предыдущему случаю. В свете отсутствия примеров ответы такого рода очень показательны как случаи необдуманного продуцирования риторических формул. Даже претендующие на оригинальность ответы, демонстрирующие самостоятельность мышления респондентов, в каждом случае сводились к штампованным фразам про грамотность и образованность. Возможно, такого рода высказывания казались отвечавшим композиционно удачным завершением умозаключений.
Еще одним важным показателем отсутствия рефлексии над заданным вопросом можно считать то, что в 8,17% ответов (и мы считаем это сравнительно высоким показателем) мы встречаемся с рекурсивными объяснениями аксиологии литературы, то есть необходимость литературы объясняется необходимостью знать литературу или писателей (положение, аналогичное объяснению существования языка потребностью писать на нем лингвистические исследования). Вот типичный случай такого рода: «Литература нужна в современном мире, чтобы помнить всю жизнь писателей, поэтов и т. д.».
Клишированность предстает порой даже во вполне узнаваемых для квалифицированного филолога формах. Например, утверждение необходимости литературы во все времена («Так было раньше, так сейчас и так будет») находит параллель в таком изначально насыщенном формулами тексте, как поэма Гомера:
Калхас восстал Фесторид, верховный птицегада-тель.
Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет (Гомер, Илиада, I, 69–70) [1, с. 6].
И наконец, главный аргумент. В 98,7% случаях предложенные ответы на поставленный вопрос содержали в себе какие-то из восьми возможных, по мнению респондентов, факторов необходимости литературы. В большинстве случаев ответы этими факторами и ограничивались. Подчеркнем, что в условии задания варианты никак заложены не были. И то, что к восьми факторам оказывается возможным свести все (довольно скудное) разнообразие ответов, лучше всего свидетельствует о формульности мышления респондентов.
Итак, по мнению студентов, литература как факт культуры и предмет их учебных занятий сводится к следующему:
-
– представление о художественной литературе как об учебнике истории (в 34,6% ответов): «Благодаря литературе можно узнать о жизни наших предков»; «Это все-равно, что история, только намного живее и ярче»;
-
– литература как источник духовного обогащения (33,4%). Иногда духовное обогащение и воспитание оказываются заключены в одну формулу: «Литература играет огромную роль в плане эстетического и духовного воспитания человека»;
-
– литература как средство расширения кругозора и развития интеллектуальных способностей (28,9%): «Повышает наш интеллект ума и образованность»;
-
– литература как учебник жизни (23,3%): «Любой современный человек должен читать классику, ведь это духовное обогащение, расширение кругозора и, наконец, даже пособие по воспитанию»;
-
– литература как образец нравственного поведения (18,9%);
-
– литература как средство обучения грамотности и развития речи (18,2%). Самый эффектный, конечно же, вариант был подан следующим образом: «Чтение художественной литературы развивает граммотность»;
-
– представление о литературе как «пище для ума», о том, что заставляет размышлять (10,7%): «Это единственное, что заставляет нас мыслить»; «Это пища для ума».
-
– наконец, литература как удовольствие или развлечение (7,5%).
В каждом из этих случаев (особенно в тех, которые касаются столь сложных материй, как «духовность») есть основания сомневаться в осмысленности употребления респондентами терминов. Конечно, нужно учитывать и специфику педагогического вуза, в программе которого большое место занимают разного рода предметы, в той или иной степени приобщающие студента к профессиональному «птичьему языку», в котором понятия «воспитание», «духовность» и подобные им давно оторвались от своего денотата и имеют устойчивую структуру симулякра. О явлениях такого рода упоминал в романе «Чапаев и Пустота» В. Пелевин: «Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно неважно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достига- ют этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую» [2, с. 90].
Все это, как мы видим, большей частью довольно явные попытки осмыслить литературу в терминах прагматической ценностной модели – тем более неудачные, что ничто из упомянутого респондентами не является специфическим свойством художественных текстов, а порою и просто противоречит реальной художественной практике. Показательна частотность формулировки «духовное обогащение», в своей внутренней форме содержащей именно идею накопительства, спроецированную на сферу нематериальных ценностей. В этом же ряду стоит довольно отчетливо проявляющая себя концепция дидактического характера литературы. По всей видимости, без учительской роли художественного произведения оправдать его существование студенту сложно.
То, что мы изложим ниже, в той или иной степени очевидно любому квалифицированному литературоведу, но, как мы видим, более чем неочевидно нашим студентам, поэтому позволим себе несколько утяжелить наш текст этими неожиданно необходимыми уточнениями.
Итак, литература, конечно же, не является учебником истории или занимательным изложением исторического материала. Об этом сказано довольно много. Литература – это всегда вымысел. «Один из основных признаков повествовательного художественного текста – это его фикциональность, т.е. то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным» [4, с. 22]. Художественная условность (fiction) – принципиальная основа литературы. Традиционное возражение, которое обычно приходит на ум неискушенному человеку, – это примеры исторических персонажей в художественном тексте: Наполеон и Александр в «Войне и мире», Петр в «Арапе Петра Великого»; можно вспомнить еще жителей Флоренции у Данте и князя Владимира в русских былинах. Однако каждым читателем интуитивно ощущается единство онтологического статуса разных явлений и героев в вымышленном мире. Непредставимо, чтобы придуманный Шерлок Холмс прохаживался по реальным улицам настоящего Лондона. Мир литературы – всегда отдельный, специально сконструированный писателем для решения художественных задач мир, который может иметь больше или меньше сходства с миром объективной действительности, но никогда не тождествен ему. Нечего и говорить про такие специфические тексты, как, к примеру, лирическая поэзия, которую и вовсе трудно представить в роли исторического источника.
Ввиду расплывчатости категории «духовного обогащения» оставим этот пункт без комментариев, радикально усомнившись при этом в понимании студентами предмета, стоящего за данным словосочетанием.
Излишне говорить, что энциклопедические словари и очерки, научно-популярные книги и обзоры гораздо лучше служат расширению эрудиции человека, чем художественная литература (что в смысле «кругозора» почерпнет для себя читатель из, к примеру, стихотворения «Я вас любил...»? Или из стихотворения Верлена «Il pleure dans mon cœur...»?). Роль художественных текстов в улучшении интеллектуальных способностей также неочевидна, но в случае принципиального признания возможности такого улучшения легко представить другие, гораздо более эффективные средства, вроде развивающих методик и обучающих книг и программ.
Учебником жизни литература также быть не может, и не только по причине, которую мы уже упоминали выше (отдельность и сконструированность фикцио-нального мира литературы), но и потому, что в художественных произведениях, за исключением, может быть, специализированного жанра басни, содержится очень много явно «лишней» информации. Скажем, объяснить читателю, что измена мужу – это зло, можно было бы гораздо короче, чем в тех объемах, которые определил Л. Толстой для романа «Анна Каренина».
Наконец, в современном мире существует впечатляющее количество развлекательных средств и услуг, среди которых литература как раз не держит пальму первенства.
Думается, можно утверждать, что восемь наиболее частотных факторов оправдания художественной литературы суть основные составляющие современного мифа о литературе, тем более репрезентативные, чем более формульна и неотрефлектированна форма его подачи. А в нашем случае мы видели максимально формульную и неотрефлектированную форму подачи.
Нарисованную картину можно дополнить несколькими штрихами. Во-первых, литература оказывается жестко противопоставлена телевидению и Интернету. Почему-то книга, содержащая художественное произведение, может существовать для опрашиваемых только в виде традиционного кодекса, форма аудиокниги или электронного издания на этой шкале уже не может быть признана полновесной. В этом же русле, очевидно, находятся частые сетования респондентов на наступление со стороны массовой культуры. Хотя из высказанных ими идей остается неясным, почему массовая литература хуже элитарной и в чем причина неудовольствия упомянутыми процессами: «В современном мире читатели увлекаются большей частью «легкой» литературой (раньше ее можно было назвать беллетристикой, а теперь это лишь детективные романы)». По всей видимости, «легкая» литература не соотносится с основным мифом и навязываемым им дидактическим характером литературы. Как можно предположить, тем же объясняется и «полоса непонимания», сопровождающая изучение истории литературы начиная с периода рубежа XIX–XX веков: эстетическая система XX века не вписывается в миф о литературе в его нынешней конфигурации, поскольку оставляет далеко в стороне все его основные составляющие, не предоставляя художественному произведению возможности быть ни
«историческим справочником», ни учебником нравственного поведения или этикета.
Здесь нужно указать на любопытное в культурологическом отношении столкновение двух в той или иной степени противоположных концепций литературы в динамике учебного процесса. Как нетрудно заметить, опрос студентов демонстрирует вульгарную вариацию отношения к литературе, господствовавшего в риторическую эпоху и особенно – в эпоху классицизма, когда дидактический характер литературных текстов был непременным требованием. Таким образом, упростив дело, можно было бы представить миф о литературе, имеющий хождение в среде современных студентов-филологов, как миф, исторически укорененный в XVII– XVIII веках. В то же время многократные наблюдения над спецификой восприятия историко-литературного материала показывают, что узус «истинной литературы» начинается для студента только с XIX века, а все предшествующее наследие носит статус своего рода «долитературы» или «предлитературы». С XIX века в художественной практике получает приоритет иная концепция, предполагающая непрагматическое, незаинтересованное удовольствие от литературного творчества. И именно эта последняя концепция оказывается чужда большинству студентов-филологов. Возникает парадоксальная ситуация внутренней анахроничности с точки зрения историко-литературного процесса: тексты XVII–XVIII веков могли бы адекватно восприниматься с позиций современного мифа о литературе, но этого не происходит, потому что эти тексты находятся за пределами поля внимания учащихся; тексты XIX– XX веков, классицистической концепции чуждые, воспринимаются студентами именно через ее призму. Нет сомнений, что именно в этом кроется большая часть непонимания между студентами и преподавателями в осмыслении историко-литературных и теоретико-литературных категорий.
Две постоянно повторяющиеся категории в «размышлениях» студентов о литературе – категория ошибки и деградации (это слово представляет для студентов особенные трудности и только однажды из всех случаев употребления было написано корректно). Как можно реконструировать, литературные произведения, главным образом, помогают проследить за неверными поступками персонажей и тем самым избежать аналогичных собственных «ошибок». Литература в воображении студентов выступает также как сила, противодействующая упадку: «В наш век диградации сознания, люди, сидя перед телевизором, даже не задумываются об этом вопросе».
Все это (в совокупности с отсутствием в ответах примеров) наводит на мысль о раздельном существовании в сознании студента образа литературы (существующей исключительно в виде бумажных книг, имеющих почти магический охранительный статус) и собственно содержания художественных произведений, которое видится как «нравственное» (неясно, как в эту модель может вписаться «Улисс» Джойса, романы Пруста или Виана, не говоря уже о поэзии сюрреалистов). Это представление, конечно же, имеет глубокие мифологические истоки и уходит своими корнями в древний культ письма как сакрального акта. Художественная форма, разумеется, в господствующем мифе не участвует вовсе никак. В лучшем случае она видится тарой, вместилищем для предельно отвлеченного «философского» смыслового наполнения: «Он извлекает из произведения маленькие кусочки мыслей». Важная для современной литературоведческой науки идея содержательности формы студенту глубоко чужда и непонятна.
Многие респонденты довольно настойчиво говорят о том, что современный мир или, что интереснее, образование, обучение, передачу знаний невозможно представить без литературы. Встречаются и более сильные утверждения: «Ведь человеком человек стал тогда, когда изобрел и написал первую книжку». Очевидно, за пределами их активной памяти остались все многочисленные бесписьменные культуры или культуры (как, к примеру, древнекельтская), в которых знания принципиально не фиксировались в письменной форме. Словом, вряд ли этот тезис, как и другие, соотносится с личным опытом респондентов.
Возможно, уходом в сторону от последовательного изложения будет следующий абзац, но от него довольно трудно удержаться в контексте разговора о литературе как о способе повышения грамотности. Один из отвечавших так прокомментировал позитивную жизненную роль литературы: «Читая книги у нас возникает свое собственное мнение на тот или иной вопрос». Употребленное здесь так называемое «самостоятельное» деепричастие, традиционно ассоциирующееся с неграмотной речью, тем не менее действительно может быть почерпнуто именно из литературной классики: «Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая...» (Толстой); «Но поравнявшись с Литвиновым, лицо генерала мгновенно изменилось» (Тургенев); «Имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках» (Пушкин) [3].
Из редких оригинальных размышлений можно упомянуть представление об авторской индивидуальности как самостоятельной ценности, оправдывающей существование литературных произведений: «Уникальность художественной литературы в том, что она несет не только информацию описательного характера, но и отпечаток автора, его настроения, его убеждений». Правда, непонятно, чем объясняется для респондента ценность сохранения авторской идентичности в такой причудливой форме, как литературное произведение.
Нечасто, но все же можно встретить и признания: «И пусть в современном мире далеко не все люди увлекаются литературой (даже мы – студенты-филологи)…». В связи с этим достоин упоминания и единственный искренний ответ, главный постулат которого гласит, что литература в современном мире не нужна вовсе, потому что «нужно учить и знать то, что можно будет применять на практике. Говорят читая литературу, люди учатся размышлять, переживать. Но к чему это, например у меня и без литературы достаточно переживаний и много размышлений». Думается, что это мнение не уникально, просто многие респонденты не решились его высказать, и нашелся единственный студент, готовый преодолеть инерцию мышления и поделиться своим скептическим отношением к основательности мифа о литературе.
Почему только один из полутора сотен? Наша гипотеза состоит в том, что резкое несоответствие между ценностными моделями, с которыми приходится иметь дело студенту-филологу, снимается своеобразной политикой социальной мимикрии. Довольно быстро студенту становится понятно, что в стенах университета и за его пределами действуют различные социальные установки, ориентированные на разные типы ценностных систем. Сосредоточенный на консервативном отношении к культуре университет требует от своих воспитанников лояльности к идеалам Просвещения и культурным ценностям. В то же время жизненная ситуация вне стен учебного заведения предъявляет совершенно иные требования, идущие вразрез с просветительской парадигмой. Из-за агрессивного навязывания своих установок через СМИ, поддерживаемая проводимой государством политикой, прагматически ориентированная ценностная модель имеет больший вес в информационном поле, репутацию прогрессивной и «современной» в отличие от реакционной, «старческой» идеи самодостаточности культурных ценностей. До конца не принимая консервативную аксиологическую шкалу, не являясь ее носителем de facto, студент оказывается способен в случае необходимости воспользоваться рядом клишированных фраз о высокой ценности литературы и культуры в целом. Но для рядового студента это чуждый культурный язык; выходя за стены университета, он становится («native») носителем прагматических аксиологических установок. Повторимся, что это гипотеза, а потому нуждается в проверке и перепроверке, однако уже тот материал, который мы представили в настоящем обзоре, как мы считаем, достаточен, чтобы со всем возможным скепсисом усомниться в искреннем и продуманном понимании положения литературы в иерархии ценностей современного социума.
Список литературы Ценностный статус художественной литературы, или зачем нужна литература современному студенту-филологу
- Гомер. Илиада. Л.: Наука, 1990. 572 с.
- Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. Желтая стрела. М.: Вагриус, 1999. 416 с.
- Ферран М. О так называемом «самостоятельном» деепричастии в современном русском языке//Славистика: синхрония и диахрония: сб. науч. ст. к 70-летию И.С. Улуханова. М.: Азбуковник, 2006. С. 34-41.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.