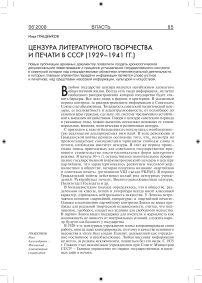Цензура литературного творчества и печати в СССР (1929-1941 гг.)
Автор: Гращенков Илья Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2008 года.
Бесплатный доступ
Новые публикации архивных документов позволили создать хронологическое документальное повествование о процессе установления государственного контроля в советской истории над специфическими областями интеллектуальной деятельности, в которых главным элементом передачи информации является слово (устное и печатное), над средствами массовой информации, культурой и искусством
Короткий адрес: https://sciup.org/170164467
IDR: 170164467
Текст обзорной статьи Цензура литературного творчества и печати в СССР (1929-1941 гг.)
С приходом к власти большевики столкнулись с необходимостью реализации декларируемых ими идей. В ходе революции и Гражданской войны пришло осознание того, что, несмотря на провозглашаемые социалистами принципы свободы слова и печати, необходим институт цензуры. В этот же период происходил поиск приемлемых для советского государственно-правового строительства институциональных форм цензурного режима. В начале 30-х гг. осуществилось окончательное превращение государственной (наркомпросовской) цензуры в цензуру партийную, что характеризовалось развитием массовой журналистики в обществе, которая получила название «партийная и советская печать» (резолюция VIII съезда Р-КП(б). В период Гражданской войны действовал целый ряд цензурных учреждений: Р-евтрибунал печати, Военно-революционная цензура, Политотдел Госиздата и др.
В большевистском подходе определялось, что в обществе, разделенном на классы, печать и литература всегда носят классовый характер, отрицалась нейтральность искусства. У Ленина встречаются понятия «партийной литературы» и «партийной печати». Однако в подчинении партийному контролю Ленин не видел преграды для реальной творческой независимости, считая, что подчинение, наоборот, создает все условия для свободного искусства. В партии Ленин видел поддержку для писателя и журналиста как возможность не зависеть от материальных условий, служить народу, будучи «на балансе» у государства.
ГРАщЕНКОВ Илья
Александрович – Московский гуманитарный университет
В 1920-е гг. цензурные учреждения плохо координировали свою работу, иногда даже конкурировали, поэтому в качестве основного ведомства в итоге был создан Главлит, задуманный как учреждение постоянное и всеобъемлющее. Любая массовая информация не могла, за редким исключением, появиться без его визы. С 1935 г. Главлит стал всесоюзным учреждением при Совете Министров СССР- – Главное управление по охране государственных и военных тайн в печати.
Р-азвитие и функционирование института цензуры в данный период отечественной истории связаны с реализацией принципа «революционной бдительности», борьба за которую получила отражение в советском законодательстве. Особая роль в системе контроля за деятелями науки и искусства принадлежала органам ОГПУ. После постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» ОГПУ осуществлял надзорные функции за едиными союзами деятелей творческой интеллигенции, в первую очередь за Союзом писателей. Положением 1931 г. о Главлите впервые в практике государства была введена одновременно и гласно как предварительная, так и последующая цензура, находившаяся под партийным контролем. На органы ОГПУ возлагались функции недопущения распространения произведений, не разрешенных Главлитом, ликвидации подпольных изданий, надзора за типографиями, таможенными и пограничными пунктами, наблюдения за продажей русской и иностранной литературы, изъятия книг. Отдел политического контроля проверял деятельность самих цензоров, осуществлял перлюстрацию почтово-телеграфной корреспонденции. Так, в 1922 г. сотрудники Отдела политконтроля вскрыли и подвергли чистке 135 тыс. из 300 тыс. поступивших в Р-СФСР- почтовых отправлений, все 285 тыс. писем, отправленных за границу. По решению Отдела политконтроля, органами ОГПУ была проведена конфискация книги рассказов Б-ориса Пильняка «Смертельное манит», пропущенной цензурой.
4-е и 5-е отделения секретно-политического отдела собирали агентурные данные и организовывали сеть осведомителей среди художественной и научной интеллигенции. «Цензура является для нас орудием противодействия растлевающему влиянию буржуазной идеологии. Главлит, организованный по инициативе ЦК Р-КП, имеет своей основной задачей осуществить такую цензурную политику, которая в данных условиях является наиболее уместной», – говорилось в одном из обращений Главлита к литераторам.
Советских интеллигентов обязывали пропагандировать «единственно верную» коммунистическую идеологию, как минимум демонстрировать лояльность к ней и оказывать всяческое содействие. В стране росло количество осведомителей. Обилие доносов и доносчиков было темой разговоров высших чекистов. Особое внимание уделялось информации, которая могла скомпрометировать высшее руководство. В доме у Горького А-гранов как-то говорил отцу: «Е-сли бы Вы только знали, какие люди на нас работают!».
В августе 1934 г., в дни работы I Всесоюзного съезда писателей, в писательской среде появилась листовка с протестом против доносительства: «...Вы должны <...> понять, что страна вот уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возможность свободного высказывания. Б-ольше того, за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам люди. Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем…». В условиях идеологического контроля характерной чертой жизни многих советских интеллигентов стало отчуждение от политической жизни, стремление заниматься лишь узкопрофессиональной деятельностью.
9 февраля 1923 г. вышло Постановление СНК СССР- об организации Главреперткома (Комитетa по контролю за репертуаром), в обязанности которого входило разрешение к постановке драматических, музыкальных, кинематографических произведений, а также составление и публикация периодических списков разрешенных и запрещенных произведений. Контроль в губерниях осуществлялся губернскими комитетами, в уездах – отделами народного образования. Создавались также органы, призванные контролировать информационные потоки, например, Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР- (ВР-К), созданный в 1933 г.
Таким образом, в 1920–1930-е гг. сложились характерные черты советского цензурного порядка: монополия власти на контроль за различными источниками информации, содержанием и направленностью их деятельности; формирование творческих союзов (писателей, композиторов и т.д.), художественных советов, подчиняющихся партийным и государственным органам власти, к функциям которых относилось, кроме всего прочего, осуществление контроля за теми или иными произведениями искусства на предварительной (доиздательской) стадии; контроль не только за качеством художественных произведений, но и за их «идеологической выдержанностью», наделение искусства, журналистики воспитательными функциями; репрессивный характер; специфическая конфигурация легальных, законодательно оформленных и «кулуарных» цензурных практик при отсутствии однозначных критериев запрета на те или иные художественные или научные произведения, распространения определенной информации.
В процессе свертывания нэпа в конце 1920-х гг. усиление контроля партийных органов в цензуре получило дальнейшее развитие. 18 января 1929 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О порядке разрешения издания новых журналов», в соответствии с которым фактически устанавливался партийный контроль над деятельностью Главлита. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О Главлите» от 3 сентября 1930 г. Наркомпросу предлагалось провести в двухнедельный срок реорганизацию Главлита. В данном партийном документе были изложены принципы реорганизации цензурного ведомства.
11 октября 1930 г. Оргбюро ЦК приняло решение, которым обязанности уполномоченных по государственным издательствам возлагались на их заведующих. В апреле 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) в своем решении определило задачи и обязанности политредакторов, подчеркнув, что они отвечают перед советским судом и соответствующим партийным контрольным органом за выпуск в печать антисоветских изданий или материалов, искажающих советскую действительность, а также за печатание сведений, носящих секретный характер. Вводилась должность политредактора в журналах. Государственный цензурный аппарат стал сменяться партийным. Основные функции сосредоточились в партийных структурах – Политбюро, партийном аппарате; функции государственных учреждений постепенно ослабевали. Партийная цензура усилила свое влияние, хотя официально Главлит продолжал функционировать. Цензурный аппарат контролировался партийными органами: сначала А-гитпропотделом, затем Отделом печати ЦК и ЦК в целом. Они же выступали в качестве арбитра, расследуя жалобы на цензуру и цензоров.
Задачи цензурного ведомства принимались при непосредственном участии генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина. В этой связи систематизированное использование документов, «личный архив Сталина» (всего около одной тысячи дел), переданных из Президентского архива на государственное хранение, позволяет выяснить роль партийного вождя в создании системы партийного контроля. Документы дают возможность осмыслить, как через интеллигенцию, писателей и СМИ строилась система цензуры. Сталинские установки по поводу организации издательской, газетно-журнальной, цензурной и художественной политики окрашивались его личными вкусами и пожеланиям как законодателя моды и стилей – непререкаемым рецептом для принятия решений во всей вертикали власти.
Создание механизма партийного контроля основывалось на взаимосвязанной системе принуждения и поощрений. Конкретное наполнение литературного текста и содержания конечного продукта оставалось предметом обсуждения и решений директивных органов. На каждом новом этапе оно могло оказаться диаметрально противоположным предыдущему содержанию, в зависимости от индивидуальных пристрастий партийных лидеров. Так, в отличие от Л. Д. Троцкого, объявившего футуризм и супрематизм главными творческими методами советского искусства, а также Н. И. Б-ухарина, отдававшего предпочтение акмеистической поэзии, И. В. Сталин сделал выбор в пользу социалистического реализма – романтической псевдоутопии, а главным из искусств он считал театр.
И. В. Сталин выдвинул и развил ряд наиболее важных установок, определивших характер и цензурный порядок в стране. В частности, на вопрос «Почему нет свободы печати в СССР-?» он ответил следующим образом: «О какой свободе печати вы говорите? Свобода печати для какого класса – для буржуазии, то ее у нас нет и не будет, пока существует диктатура пролетариата. Е-сли же речь идет о свободе для пролетариата, то я должен сказать, что вы не найдете в мире другого государства, где бы существовала такая всесторонняя и широкая свобода печати для пролета- риата, какая существует в СССР-. <...> Лучшие типографии, лучшие дома печати, целые фабрики бумаги, целые заводы красок, необходимых для печати, огромные дворцы для собраний, – все это и многое другое, необходимое для свободы печати рабочего класса, находится целиком и полностью в распоряжении рабочего класса и трудящихся масс» .
В настоящее время в систематизированном виде в научный оборот вводится переписка И.В. Сталина с поэтом Демьяном Б-едным, письма вождю одного из первых советских писателей-деревенщиков Федора Панферова, часть переписки с пролетарским драматургом и лидером Р-оссийской ассоциации пролетарских писателей Владимиром Киршоном, а также с видным интеллектуалом, большевиком Н. Осинским. Однако следует учитывать тот факт, что так называемый личный архив формировался самим Сталиным. В него не попадали нежелательные документы.
Цензура информации о реальном экономическом положении страны была одним из главных приоритетов в советс- ком государстве. Вскоре после заключения советско-германского пакта и начала советской агрессии против Польши было принято утвержденное Политбюро постановление Экономического Совета: прекратить, начиная с 11 сентября 1939 г., публикацию данных о металлургии, добыче угля, нефти, торфа, электроэнергии, химических продуктов и других подобных сведений.
Система тотального политического контроля и цензуры, вылившаяся в довоенные репрессии, нанесла значительный ущерб художественной интеллигенции, особенно в период «Б-ольшого террора». Можно лишь догадываться, какие произведения человеческого гения не увидели свет, потому что их авторы ощутили на себе разрушительное воздействие административной системы власти. Для одних трагическим результатом этого соприкосновения явились ненаписанные книги, несыгранные роли, незавершенные художественные полотна, искалеченные творческие судьбы, изломанные биографии. Другим пришлось заплатить ценой собственной жизни.