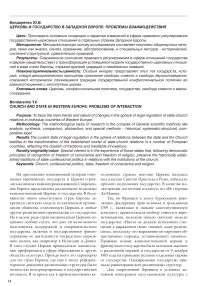Церковь и государство в Западной Европе :проблемы взаимодействия
Автор: Бондаренко Юлия Викторовна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 5 (30), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель: Проследить основные тенденции и характер изменений в сфере правового регулирования государственно-церковных отношений в отдельных странах Западной Европы. Методология: Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, и специальных методов - исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой. Результаты: Современное состояние правового регулирования в сфере отношений государства и Церкви свидетельствует о трансформации устоявшейся модели государственно-церковных отношений в ряде стран Европы, отражая дуализм традиций и неизбежных новаций. Новизна/оригинальность/ценность: Особый интерес представляет опыт тех государств, которые, следуя демократическим принципам признания свободы совести и свободы вероисповедания, сохраняют исторически сложившиеся традиции государственной конфессиональной политики во взаимоотношениях с институтами церкви.
Церковь, конфессиональная политика, государство, свобода совести и вероисповедания
Короткий адрес: https://sciup.org/140225112
IDR: 140225112
Текст научной статьи Церковь и государство в Западной Европе :проблемы взаимодействия
На протяжении многовековой истории отношения европейских государств и Церкви строились на началах взаимопроникновения. Современная Европа представлена различными моделями взаимоотношений Церкви и государства. В большинстве своем конституции стран Европы закрепили светскую модель политической организации общества, отделяющую Церковь и любые другие религиозные организации от государства. Но в целом ряде стран национальная Церковь сохраняет особый статус, что дает ей возможности пользоваться поддержкой и покровительством государства, включая и государственное финансирование ее деятельности посредством церковного налога, как например в Исландии и Дании. В этом случает Церкви принадлежат значительные преференции в сфере образования и других областях культуры. Прежде всего это характерно для тех стран Европы, где еще в эпоху реформаторского движения религиозные структуры были полностью инкорпорированы в государственный механизм. В то время как в преимущественно ка- толических странах местные Церкви, находясь под властью Святого Престола в Риме, избежали прямого подчинения государству. В качестве иллюстрации достаточно взглянуть по обе стороны Ла-Манша.
Так, во Франции в эпоху буржуазной революции Декларация прав человека и гражданина 1789 г., являющая и поныне конституционную константу, провозгласила свободу совести и вероисповедания, положив начало светской модели государства: «Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает общественного порядка, установленного законом». Правовая основа взаимоотношений церкви и французского государства была заложена законом о разделении церквей и государства от 9 декабря 1905 года на принципе полного отделения церкви от государства. Одновременно государство признало равноправие всех религиозных структур.
Для современной Франции в условиях активной интеграции мусульманской культуры с притоком населения из тех регионов, что традиционно исповедуют ислам, вопрос о состоянии правового регулирования сферы конфессиональных отношений приобретает особую остроту. Усилия современного французского законодателя направлены на разработку и определение параметров наиболее оптимальной модели взаимоотношений основных элементов системы, в рамках которой интересы индивидуума, общества, государства и различных конфессиональных объединений могут быть максимально согласованы. Однако не все правовые новеллы во французском законодательстве бесспорны с точки зрения соблюдения прав и свобод. Так, недопущение использования религиозной символики в образовательных учреждениях привело в 2004 году к запрету на ношение мусульманскими девушками хиджаба, что вызвало массовые акции протеста не только мусульманской части французского сообщества, численность которого насчитывает более 2 миллионов человек. В толерантности французского законодателя усомнились многие активные представители европейского сообщества, усматривая в этом пример ограничительной политики в отношении представителей отдельных исповеданий, так как ношение женщиной хиджаба для традиционного ислама есть неизменная составляющая ее самоидентификации в мусульманском мире.
Если во Франции светские традиции прочно укоренились как важнейшая составляющая государственной политики, то Британия являет собой яркий пример совсем иной модели государственно-церковных отношений. Провозгласив свободу совести и свободу вероисповедания и следуя данным демократическим принципам, британский престол сохраняет исторически сложившиеся традиции государственной конфессиональной политики во взаимоотношениях с Англиканской церковью.
Еще в ходе церковной реформы в правление Генриха VIII, разорвавшего отношения с Ватиканом, английский монарх обрел главенство над Церковью Англии, что юридически было оформлено с принятием парламентом в 1534 году Акта о супрематии, согласно которому Королевское Величество определялся как Верховный Глава Церкви «Supreme Head of the Church of England», сохраняющего силу и поныне [2]. В свою очередь закон содержит категорическое указание в Акте о престолонаследии 1701 года на то, что британский монарх может принадлежать только Англиканской церкви и не вправе вступать в брак с лицом, исповедующим католицизм.
Сегодня вопрос о необходимости дальнейшей модернизации конфессиональной политики все чаще поднимается и в Великобритании, где традиции устоявшийся модели государственно-церковных отношений составляют одну из констант политической действительности и конституционного порядка. Так, 30 декабря 2016 г. британский журнал «Экономист» опубликовал статью под заголовком «Продвигаясь к светскому государству» [1], автор которой отметил, что основой для подобной публикации стали данные Национального Светского Общества Британии, общественной организации, провозгласившей своей целью ликвидацию религиозных привилегий. В докладе приводится достаточно длинный список предложений для того, чтобы урезать незаконные привилегии, которыми сегодня пользуются близкие к религии официальные лица и организации.
Острая потребность в том, чтобы утвердить ценности светского общества, возрастает на фоне роста влияния и увеличивающих сегодня число своих сторонников других религий, включая ислам. Все это происходит на фоне существующих привилегий, принадлежащих когда-то завоевавшей себе особое место в истории страны, но неуклонно сейчас численно «угасающей» Англиканской церкви. Сегодня эта организация охватывает образовательные учреждения, где обучается свыше 1 миллиона английских детей. Естественно, что подобное положение вещей побуждает руководителей других религий также выступить с требованием разрешить им открыть школы под своей эгидой.
В области образования предполагается, что правительство должно сделать «решительные шаги» по направлению к всесторонней системе светской школы. Религиозные школы необходимо лишить той прерогативы, которой они обладают в области найма и допуска. Также от них потребуется преподавать религию в нейтральной форме. Такие общественные церемонии, как дни поминовения по погибшим в войнах, коронация нового главы государства, носившие всегда религиозный характер, по твердому убеждению авторов доклада, должны быть заменены светскими процедурами. В частности, вместо коронационной службы в Вестминстерском аббатстве вокруг нового монарха, где суверен обязуется «поддерживать законы Всевышнего», предлагается проводить светский ритуал в соседнем Вестминстер Холле. Если же монарх пожелает, то можно провести дополнительное богослужение в аббатстве.
В чем причина подобного проникновения составителей доклада в столь чувствительную сферу британской действительности? Ответ заключается в том, что Англиканская церковь играет весьма заметную роль в общественных и официальных церемониях. Тот факт, что 26 епископов англиканской церкви, или «духовных лордов», занимают места в Верхней палате британского парламента, можно рассматривать как своеобразный пережиток, который, тем не менее, несмотря на свое символическое значение, играет значительную роль в британской политической жизни. С другой стороны, составители указанного доклада начисто отклонили саму возможность предложения, инициированного год назад Комиссией по вопросам религии и убеждений в Британской общественной жизни, созданной в 2013 году Институтом Вульфа, согласно которому в Верхней палате британского парламента должны быть представлены и другие религии. В докладе прозвучала мысль о том, что подобное предложение является неконструктивным и внесет дезорганизацию среди неверующих.
Но такова природа англиканского религиозного истеблишмента, который, несмотря на все большую очевидность произошедших изменений в отношении к традиционной религии значительной части британского сообщества, сумел продемонстрировать исключительную силу своей устойчивости. Как монархия, так и Англиканская церковь сумела удержать некоторые из своих привилегий, при этом отдав большинство из них.
Конец прошедшего – начало XXI века повлекли за собой новый и достаточно серьезный виток секуляризации в ряде скандинавских монархических стран. Так, в 2012 году Парламентом Норвегии были внесены изменения в конституцию, согласно которой Церковь Норвегии утратила статус государственной, сохранив поддержку государства как «народная церковь», а в 2017 году окончательно отделилась от государства.
В 2000 году была отделена от государства Шведская евангелическо-лютеранская церковь согласно закону, принятому в 1995 г. С утратой ею статуса государственной все религиозные общины стали равноправными. Отныне все законы и решения, касающиеся Церкви, принимаются ее Церковным собором, а не риксдагом и правительством; назначения на все церковные должности осуществляются без участия государства; вместо церковного налога вводится членский взнос в размере 1,25 % с налогооблагаемой базы; вступление в лоно церкви совершается только путем крещения [3]. Вместе с тем отделение церкви от государства не отделило ее от сферы высокой политики. Как и прежде в общественной жизни церковь занимает активную и деятельную позицию по решению социальных задач, прибегая подчас к открыто политическим средствам борьбы. Церковь Швеции сегодня активно демонстрирует не только свою включенность в политическую жизнь страны, но и полное проникновение таковой в свою внутреннюю среду. Так, выборы Церковного собора и Церковного правления происходят по партийным спискам, состав которых отражает соотношение сил политических партий в стране, равно как и при замещении вакантных церковных должностей важную роль играет партийная принадлежность. Столь явная политизация деятельности церкви неоднозначно воспринимается самим шведским сообществом. И если одни в этом видят проявление активной позиции Церкви в жизни гражданского общества, то другие – угрозу «внутренней секуляризации» церкви.
Список литературы Церковь и государство в Западной Европе :проблемы взаимодействия
- Erasmus. Slouching towards secularism//The Economist. 2016. December, 20 th.
- The original text of Henry VIII’s 1534 Act of Supremacy . URL: http://www.britainexpress.com/History/tudor/supremacy-henry-text.htm.
- Чернышева О. Первые итоги отделения Шведской церкви от государства. 2000-2011 гг.//Грани сотрудничества: Россия и Северная Европа: сб. науч. ст./сост. и науч. ред. И.Р. Такала, И.М. Соломец. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012.