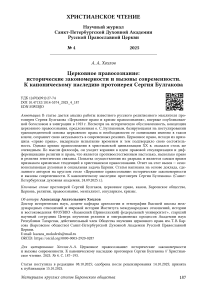Церковное правосознание: исторические закономерности и вызовы современности. К каноническому наследию протоиерея Сергия Булгакова
Автор: Александр Анатольевич Хохлов
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Материалы круглых столов Барсовского общества
Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ работы известного русского религиозного мыслителя протоиерея Сергия Булгакова «Церковное право и кризис правосознания», впервые опубликованной богословом в эмиграции в 1923 г. Несмотря на историческую обусловленность, концепция церковного правосознания, предложенная о. С. Булгаковым, базирующаяся на постулировании трансцендентной основы церковного права и необходимости ее понимания именно в таком ключе, сохраняет свою актуальность в современных реалиях. Церковное право, исходя из принципа «право права», выдержало испытание временем и тем подтвердило свою состоятельность. Однако кризис правосознания в христианской цивилизации XX в. оказался столь же очевидным. По мысли философа, он уходит корнями в идею правовой секуляризации и дифференциацию религии и права, что является противоестественным настолько, насколько право и религия генетически связаны. Попытка осуществления их разрыва и является самым ярким признаком кризисных тенденций в христианском правосознании. Ответ на этот вызов — основополагающая духовная и социальная задача Церкви. Статья написана на основе доклада, сделанного автором на круглом столе «Церковное правосознание: исторические закономерности и вызовы современности. К каноническому наследию протоиерея Сергия Булгакова» (СанктПетербургская духовная академия, 24.09.2025 г.).
Протоиерей Сергий Булгаков, церковное право, канон, Барсовское общество, Церковь, религия, правосознание, менталитет, секуляризм, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/140313077
IDR: 140313077 | УДК: 1(470)(091):27-74 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_4_187
Текст научной статьи Церковное правосознание: исторические закономерности и вызовы современности. К каноническому наследию протоиерея Сергия Булгакова
Наследие русской философской мысли 2-й пол. XIX–XX вв., в особенности той ее части, которая затрагивает вопросы канонического устройства Церкви, современным исследователям еще предстоит оценить в полном объеме. Хотя отдельные энтузиасты от науки уже неплохо преуспели в этом вопросе [Борщ, 2008, 224]. В ряду замечательных мыслителей рассматриваемой эпохи особое внимание привлекает прот. Сергий Булгаков, глубоко отрефлексировавший фундаментальные изменения в мироощущении своих современников. Философ прямо поставил вопрос об их правовом измерении в работе «Церковное право и кризис правосознания» (1923), сделав попытку осмыслить феномен религиозного права в его сложности и динамике. Как нам видится, она не только удалась, но и стала теоретически и практически значимой, претендуя на формирование оригинальной парадигмы философии церковного права и его реализации в определенных исторических условиях1.
В правовых воззрениях о. Сергия ясно читается современная ему эпоха. Она управляет ходом его мысли, определяет рассуждения и аргументацию. Собственно, это вполне естественно, поскольку любой ученый — дитя своего времени. Однако конечные выводы мыслителя ни в коем случае нельзя считать имеющими сугубо историческое значение и тем ограниченными. И даже несмотря на то, что принцип объективности побуждает нас критически относиться к любым построениям подобного плана хотя бы на том основании, что научное творение априорно предполагает ту или иную степень несогласия и, следовательно, дискуссию, в воззрениях о. Булгакова имеет место теологическая аксиоматика, едва ли предполагающая ревизию своих основных положений. В таком качестве она, вне всякого сомнения, имеет вневременной контекст, оставаясь актуальной и в наши дни, спустя целое столетие.
Едва ли кто осмелится опровергнуть утверждение, что отношение к канонике в Церкви даже в нач. XXI в. далеко не однозначно. Такова, по всей видимости, особенность природы и культуры мышления российского общества, не позволяющая окончательно превратить церковное право из фона или даже реликта науки и жизни в их полноправного актора, играющего если не определяющую, то весьма заметную роль. Наблюдая эту особенность, столь очевидную и в его время, о. Сергий отмечал:
Нельзя отрицать, что церковное право в глазах многих является скорее печальной необходимостью, нежели желанным и нужным предметом изучения в русской высшей школе, одинаково как юридической, так и богословской. Для первой этот бесполезный пережиток прошлого, которым наградила нас история, есть право, испорченное и обремененное религией, ненастоящее, нечистое право. Для второй же это — религия, иссушенная, а то и извращенная правом, порождающая церковный «юридизм», — традиционный жупел русского богословствования [Булгаков].
И если в современных реалиях церковное право не готово заявлять претензии на равноправный отраслевой статус в рамках светской юридической школы, то при этом в самой Церкви оно едва ли скоро избавится от некоего оттенка чужеродности. Интуитивный антиюридизм православной традиции в самых разнообразных его проявлениях, объективно подкрепляемый идеалом христианской свободы и соборности, предопределил радикальное сужение сферы применения церковного права. Отсюда и столь часто проявляющий себя примат «духа» над буквой, порой доходящий до исключительного пренебрежения последней.
Однако и такое положение дел не предопределено раз и навсегда. Сам о. Сергий стал свидетелем эпохальных сдвигов, когда не только вдруг исчезла двухсотлетняя синодальная система, фундировавшая монумент церковного права при помощи властного авторитета Правительствующего Синода и его духовных консисторий и тем довольствовавшаяся в деле правового просвещения клира и паствы, но и в корне изменилось само восприятие предмета под давлением внешних перемен:
Отныне правовая ответственность — дело всех и каждого [Булгаков].
Отправная точка ее — «религиозный персонализм» как необходимый элемент правового оздоровления Церкви, избавленный, впрочем, от крайностей западного индивидуализма2. Демократизация церковного духа на волне февраля 1917 г., столь явственно проявившая себя целой плеядой судьбоносных событий, прямо поставила вопрос о новой архитектуре церковного организма, ответ на который, как и следовало ожидать, стали искать в каноническом наследии прошлого. Тут церковное правосознание, освободившееся от сжимавших его бюрократических скреп, должно было проявить свою жизненную энергию. И конечно, оно ее проявило. Размышляя о направленности этих изменений, о. Сергий, в частности, писал:
Однако едва ли я ошибаюсь, полагая, что в составе всяческого русского «ревизионизма», и прежде всего церковного, которого повелительно требует от нас история, подлежит пересмотру отношение и к этой проблеме, и даже есть основания думать, что для каноники ныне наступает своеобразный исторический бенефис. Четкость церковно-правовых идей и каноническая сознательность становится долгом церковной совести и неизбывной нуждой русской церковности, и это благодаря церковным потрясениям и смуте наших дней. В результате общей русской катастрофы стала невозможной былая каноническая дрема под защитой духовной консистории и архиерейской канцелярии, а вместе с тем каноническая ответственность уже перестала быть достоянием одного только клира и епископата; к ней призывается теперь не в теории только, но и в действительности весь церковный народ. Соборное устройство Русской Церкви, восторжествовавшее в результате революции, сопровождается широким применением выборного начала и вообще участия клира и народа в управлении Церковью, и то, о чем прежде не было и помину, становится церковной повседневностью [Булгаков].
Утверждая формулу «Церковь есть Церковь не только невидимая, но видимая», о. Сергий признавал, что «эту видимую Церковь теперь приходится отыскивать и отстаивать усилием канонической мысли» [Булгаков]. Таким образом, кажется неоспоримым, что любая повседневность, даже исторически разделенная, требует не только догматических постулатов и правой веры, но и правового мышления и поведения: «Православие, конечно, не есть религия закона, но оно не узаконивает и беззакония» [Булгаков].
Отмечая набиравший в нач. XX в. силу секуляризм, философ именно в нем был склонен видеть и кризис правосознания современного ему человека, и кризис права как такового. Появление в Европе светских правовых систем, радикально отринувших любое упоминание о христианской религии, стало видимым знаком разрушения фундамента христианской цивилизации, актом скрытого (а в России — явного) богоборчества. На этом тезисе мыслитель строит свою философию права, утверждая, что только та правовая система, которая имеет в себе органическую, «природную» часть религиозного, может быть состоятельной и легитимной. При этом примечательно, что каноническое право именно в силу незыблемости своих основ избежало тотального кризиса, оказавшись устойчивым в стремительно меняющихся реалиях:
Уже то, что церковное право не современно, что в нем живет совершенно иное понимание природы права, нежели в современности, делает его значительным и поучительным для юриста, как живая древность, в которой говорят человечеству не только века христианской истории, но и тысячелетия дохристианской культуры [Булгаков].
В потоке стремительных перемен каноны сохраняют свой дидактический потенциал благодаря не тому, что внутренне ориентированы на преходящие смыслы, а тому, что преданы идее сверх- или иноприродного права. И сказанное не есть только образ и риторика. Трансцендентные основы канонического права живы и действенны, они видимым образом проявляют себя в повседневности:
Мысль зрелого юриста должна поэтому напитаться соками внешне иссохшего, но внутри живого дерева каноники. Она должна встретиться с той идеей, что только церковное право содержит в себе свое оправдание и основание, свое право, есть право права, а потому не висит в воздухе, и что только церковная власть есть власть, в себе оправданная и обоснованная, раскрывающая в себе природу всякой власти. И даже если эта мысль окажется отвергнута, она должна быть передумана и пережита, хотя бы затем, чтобы освободиться от наивности или же, что, впрочем, одно и то же, от фактопоклонства, соединяющегося с отвлеченным формализмом [Булгаков].
И все же в отношениях Церкви и права проблема противоречия не снимается окончательно. Очевидно, что Церковь — это царство духовное, строящееся не на законе, а на любви, и царство это — не от мира сего. Тогда как право в той или иной мере подразумевает принуждение, и в этом усматривается степень его насильственности. В Церкви — содержание, в праве — форма, в первой — общение личностей, во втором — отношение субъектов и объектов.
Так что не есть ли церковное право в одинаковой мере грехопадение и для права, и для Церкви, круглый квадрат или жареный лёд? — задается вопросом мыслитель, и отвечает на него через антиномию двух взаимоисключающих тезисов:
-
1. Не может быть не-церковного или вне-церковного права, поскольку право, лишенное права, перестает быть таковым и становится насилием, которое не есть право;
-
2. Не может быть церковного права, т. к. его идея противоречит сущности Церкви.
В первом случае рассуждение строится на особом понимании человеческой культуры и путей ее исторического развития. На протяжении всей истории в самых разнообразных обществах, на разных уровнях их организации культура (и право, как ее часть) была неразрывно связана с религией. Даже в самых примитивных социумах та или иная религиозность подкрепляла нормативные установления. Говоря иными словами, право и религия в сущности имеют органическое единство. Следовательно, «образование дифференцировавшегося права есть следствие разложения „культуры“», ее упадка [Булгаков]. При этом секуляризованное право, претендующее на примат в европейских культурах, еще слишком молодо; оно не доказало своей жизнеспособности в широких временных отрезках и в различных обстоятельствах, так что его претензия на главенство едва ли обоснованна. Протоиерей Сергий Булгаков считал, что «влияние иерократических идей является мерой возраста духовного в философии права», а «юриспруденции никогда не удается обрести полный покой в своей самостоятельной жизни и позабыть о материнском лоне, где она твердо знала свое родовое имя» [Булгаков]. Таким образом, попросту «не может быть ничем не освященного, не оправданного, „не-церковного“ права» [Булгаков].
Второй вопрос мыслитель рассматривает сквозь призму дискуссии с немецким юристом Рудольфом Зомом, изложившим свою точку зрения в широко известной работе кон. XIX в. «Церковное право» (см.: [Sohm, 1892, 732]). Как известно, Р. Зом придерживался позиции отрицания состоятельности канонического права как такового. В его глазах, оно принципиально противно христианской вере3. Однако о. Сергий усматривает в этом не только плохо скрываемую попытку зафиксировать безвластие в Церкви, «анархию» и аморфность христианской общины, но и очевидную методологическую капитуляцию протестантского правоведа.
И в церковном праве этот идеальный генезис права, эта его, так сказать, онтология выступает с полной очевидностью, которая ослепительно обнаруживается в построении Зома и особенно в его проблематике [Булгаков].
Таким образом, и современные правоведы радикально ошибаются в своих поисках, почему их блуждание в сущности безвыходно, ибо постулируемая ими эволюция права через дифференциацию «сакральное — секулярное» не создает принципиально ничего нового, а только «развертывает» уже существующее.
Итак, право лишь настолько право, насколько оно содержит в себе религию. Это и есть центральный постулат о. С. Булгакова. Обнажившийся же кризис правосознания — прежде всего кризис религии (веры), вынужденной противостоять экспансии секуляризма. В этой связи вопрос об одной из фундаментальных основ религии — морали, какой бы она ни была, без признания за ней права на санкцию едва ли разрешим, хотя такие попытки в истории неоднократно предпринимались. Основываясь на религиозной догматике, не предполагающей безответной ревизии догмы, мораль точно так же воспроизводит родовой принцип наказания, ибо в противном случае она бы не сохранилась. Но и каноника строится на догматике, исходя из чего данный вопрос в церковном праве, по мысли о. Сергия, должен быть решен в аналогичном ключе.
Если да, — а есть основания для утвердительного ответа, тогда, очевидно, в первую очередь должна быть заново продумана проблема церковного права, во всем ее своеобразии и принципиальной остроте. И прежде всего опять-таки потому, что оно не современно, но есть оазис истории в песках современности. И с тем же смешанным чувством смущения и любознательности, с каким мы входим под сень старинного храма, вступаем мы теперь в готическое сооружение iuris canonici [Булгаков].
Философская концепция о. Сергия кажется весьма стройной и вместе с тем не лишенной доли того романтизма, который сам философ некогда усматривал в построениях А. С. Хомякова и Ф. М. Достоевского. Признавая состоятельность и справедливость вывода, что правосознание — это в первую очередь понимание права как такового, его природы и сущности, а уже затем модели применения правовых норм в повседневности, приходится признать, что секулярное право все же выдержало испытание временем и укрепило свою методологическую базу, хотя не избежав формализации и «утраты духа». При этом религиозная природа любой из систем права есть скорее предмет веры, но не знания. Призывая Церковь перехватить у внешнего мира правовую повестку, мыслитель едва ли предполагал, что в будущем ей предстоит отступать, — в течение XX в. секулярное право многократно расширит границы своего применения. Церкви не останется иного, как превратиться в бастион или, точнее, корабль в бушующем море, команда которого далеко не безупречно справляется с правильным чтением собственной бортовой инструкции. Поэтому скрупулезная работа над ошибками кормчих и «выпрямление корабельного курса» сегодня и есть та задача, решение которой позволит в перспективе избежать кораблекрушения.
И все же базовая позиция о. С. Булгакова, выражающаяся в безусловном признании сакральной природы канонического права, может и должна стать отправной точкой для Церкви в переменчивом мире. Вторя великому мыслителю, скажем: именно церковному праву предстоит взять на себя роль маяка во тьме, который указывает этические ориентиры праву светскому. Стремление к достижению этой цели наполнило бы философскую романтику не эфемерным, а реальным содержанием.