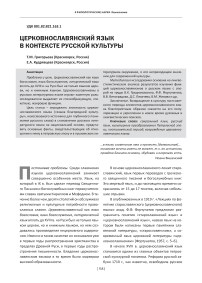Церковнославянский язык в контексте русской культуры
Автор: Григорьева Татьяна Михайловна, Кудрявцева Екатерина Александровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Церковнославянский как язык богословия, язык богослужения, литургический язык вплоть до XVIII в. на Руси был не только языком церкви, но и книжным языком. Церковнославянизмы в русском литературном языке играют заметную роль: исследователи выделяют их стилеобразующую, этикетную, жанровую функции. Цель статьи - определить значимость церковнославянского языка («языка благородной культуры», неиссякаемого источника для глубинного понимания русского слова) в становлении русского литературного языка на национальной основе, представить основные факты, свидетельствующие об отношении к нему в петровскую эпоху и в пушкинском литературном окружении, о его непреходящем значении для современной культуры. Методология исследования основана на лингвостилистическом анализе результатов изучения функций церковнославянизмов в русском языке с опорой на труды В.К. Тредиаковского, Ф.Ф. Фортунатова, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева, В.М. Живова и др. Заключение. Возвращение в культуру постсоветского периода элементов церковнославянского языка благоприятным образом скажется на его популяризации и укреплении в новое время духовных и лингвистических поисков.
Сакральный язык, русский язык, культурные преобразования петровской эпохи, постсоветский период, возрождение церковнославянского языка
Короткий адрес: https://sciup.org/144161721
IDR: 144161721 | УДК: 801.82:821.163.1
Текст научной статьи Церковнославянский язык в контексте русской культуры
…в языку словенском лжа и прелесть [дьявольская]… никакоже места имети не может, т.к. он истинною, правдою Божиею основан, збудован и огорожен есть.
Иоанн Вишенский
П остановка проблемы. Среди славянских языков церковнославянский занимает совершенно особенное место. Язык, на который в IX в. был сделан перевод Священного Писания и богослужебных книг первоучителями славян святыми Кириллом и Мефодием. В течение более чем десяти столетий он обслуживал религиозные и культурные потребности православных славян. Церковнославянский как язык богословия , язык богослужения , литургический язык вплоть до XVIII в. на Руси был не только языком церкви, но и книжным языком, на нем создавались произведения нецерковного содержания. Именно в таком качестве он сознавался уже в первые годы распространения христианства в пределах Древней Руси, в первые годы распространения письменности. Владение церковнославянским языком в то время было маркером высокой образованности.
В основе церковнославянского лежит старославянский, язык первых переводов с греческого священного писания и богослужебных книг. Это мертвый язык, и до настоящего времени сохранилось от 15 до 17 текстов, включая небольшие отрывки.
В опубликованных в 1919 г. «Лекциях по фонетике старославянского (церковнославянского) языка» акад. Ф.Ф. Фортунатов предложил разграничить понятия «старославянский язык» и «церковнославянский язык», назвав язык на котором были написаны первые памятники славянской литературы, «старославянским», а современный язык церковной литературы «церковнославянским» [Фортунатов, 1957, c. 5–6].
В начале XVIII в. церковнославянский язык становится одним из главных объектов петровской культурной политики. Реформа русской азбуки 1710 г., как известно, освободила русское письмо от кириллического наследия, которое к тому времени уже потеряло опору в живом употреблении, и этим перевела светскую литературу на новый гражданский алфавит, отделив внешне светскую литературу от церковной.
19 апреля 1724 г. Петром был издан указ Синоду о составлении кратких поучений. Он заключал в себе требование «просто писать так, чтобы и поселянин знал, или на двое: поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости, как вам удобнее покажется» [Цит. по: Якубинский, 1986, с. 63]. И это безусловно снижало незыблемый статус церковнославянского языка как языка сакрального.
Петровская эпоха стала переломным моментом в истории сосуществования церковнославянского языка и русского. В результате сознательных языковых преобразований происходит семиотизация церковнославянизмов, то есть присвоение им функции книжного характера [Живов, 1996, с. 123]. До этого времени существовали два типа текстов - на церковнославянском языке, представленные двумя регистрами, стандартным и гибридным, и на русском, в котором присутствовали нейтрализованные элементы церковнославянского языка [Там же, c. 31–34]. На русском, как известно, создавалась деловая письменность. Русской в своей основе была живая разговорная речь.
За основу нового «простого» языка, инициированного Петром, как отмечают исследователи, был взят гибридный регистр церковнославянского языка, из которого были исключены так называемые признаки книжности [Там же, c. 110–111]. К признакам книжности относились элементы, функционально соотносимые с церковнославянским языком данного периода (такие, например, как простые прошедшие времена, двойственное число, архаичные формы причастий, оборот «дательный самостоятельный» и некоторые другие).
Старорусская эпистолярная культура и история русской орфографии также отражают черты церковнославянского языка [Григорьева, 2016, с. 44; 2017, с. 67].
В.К.Тредиаковскийв предисловии «К читателю» в переводе романа Поля Тальмана «Езда в остров люби» (1730) дает характеристику церковнославянскому языку своего времени и указывает на его непонятность («язык сла-венской в нынешнем веке у нас очень темен и многие его... не разумеют») и эстетическую неполноценность («язык славенской ныне жесток моим ушам слышится»). Однако несколько лет спустя, рассуждая о формирующемся русском литературном языке, он утверждает, что «бес-мертный наш язык церковный» для русского (российского) языка есть «щит и утверждение» [Тредиаковский, 1849].
Цель статьи - определить роль церковнославянского языка («языка благородной культуры», неиссякаемого источника для глубинного понимания русского слова) в становлении русского литературного языка на национальной основе, представить основные факты, свидетельствующие об отношении к нему в Петровскую эпоху и в пушкинском литературном окружении, его непреходящее значение для современной культуры.
Можно сказать, что сложившаяся ситуация положила начало формированию славянизмов (=церковнославянизмов) как особой стилистической категории. Эта категория складывалась на протяжении последующих десятилетий XVIII в. и в XIX столетии. Как отмечает В.М. Живов, в корпус славянизмов в процессе нормализации русского литературного языка включались и единицы, генетически связанные с церковнославянским языком [Живов, 1996, с. 189-194]. Таким образом, славянизмы в эпоху становления русского литературного языка на национальной основе характеризуются многообразием стилистических функций.
Методология исследования основана на лингвостилистическом изучении результатов функционирования старославянизмов в современном русском языке с опорой на труды В.К. Тредиаковского, Ф.Ф. Фортунатова, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева, В.М. Живова и др. Среди материалов исследования древнерусские тексты и архивные документы.
Результаты исследования. Говоря о роли славянизмов в русском литературном языке, следует остановиться на их функционировании
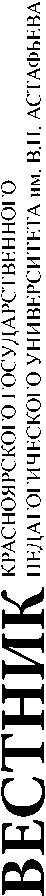
в деловой письменности. В частности отметить, что именно в XVIII столетии элементы церковнославянской традиции становятся своеобразной стилистической приметой официальноделового стиля [Майоров, 2006, c. 139–140]. А.П. Майоров выделяет несколько функциональных групп славянизмов в деловом письме указанного периода:
-
1) славянизмы, ставшие стилеобразующими средствами делового письма, сюда относятся указательные местоимения, а также местоименные слова ( сь , оной , вышеозначенный и под.);
-
2) славянизмы как жанрово-стилистические средства деловой письменности. Это такие союзы, как понеже , поелику , дабы , егда (обычно отождествляемые с приказным стилем), а также местоимения и наречия с префиксом не- ( неотменно , незабытно и под.);
-
3) славянизмы как этикетные средства канцелярского слога;
-
4) славянизмы как средства создания высокого слога в деловом письме [Там же, c. 79–139].
Наличие церковнославянизмов в деловом языке, как было отмечено, не ограничивалось стилеобразующей ролью. Памятники делового письма XVIII в. демонстрируют такие функции славянизмов, как маркирование авторства текста (например, тексты духовных лиц), актуализация коммуникативного намерения пишущего, передача «высокого» содержания [Кудрявцева, 2007, c. 18–19]1.
Иллюстрируя сказанное, можно обратиться к указу Петра из Святейшего Правительствующего Синода, изданному в 1722 г. В документе говорится о появлении в некоторых монастырях под Переяславлем-Залесским гробниц без мощей святых и о дезинформации таким образом верующих. Указ «насыщен» славянизмами, присутствие которых указывает на две из названных функций - авторство (высший орган церковной власти - Синод) и выражение сакрального содержания. Можно гово- рить даже о целых фрагментах на церковнославянском:
С(вя)тѣишіи правителствующіи Синодъ усмотря […] в нѣкоторыхъ при Переяславлѣ залеском мнстырѣхъ подозрителное не свидѣтелствованных от црквей гробов за с(вя)т(ы)ню почитаніе к тому ж увѣдав что в других многих местех […] обрѣтаются такие гробницы и раки которые над неѡбрѣтателными почитаемых от ц(е)рквеи с(вя)тых телесами поставлены и ради токмо воспоминанія ихъ праздны с накрытіем образа быт должны но не так содержатся а именно положены во ѡных вмѣсто телесъ рѣзные и издобленые (!) колоды которые і покрыты покровами аки бы самые тѣх с(вя)тых телеса (ГАКК. Ф. 594. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 10); А которые про то не свѣдомы […] приходя к тѣмъ ракамъ и гробницамъ и по невѣдению своему вмѣняя то какъ имъ видно за самыя с(вя)тых телеса приступают с великим страхом и цѣлуют положенные на тѣх колодах покровы со многимъ говѣніемъ чающе самим тѣлесамъ тут положенным быть (Там же. Л. 10–10 об).
В результате петровских преобразований церковнославянский язык постепенно замыкается в рамках церковной культовой литературы, изолируется в особый «церковный диалект».
Необходимо отметить, что вплоть до 1917 г. церковнослаянский язык изучался в общеобразовательных и воскресных школах, в гимназиях и звучал на богослужениях. На нем заучивались каноны церковной службы (молитвы, псалмы, акафисты и т.д.). По переписи 1897 г., в России было более 83 млн православных. На протяжении XIX – начала ХХ вв. на церковнославянском был создан большой корпус новых, непереводных текстов (церковных служб, акафистов, молитв). Вопрос о церковнослаянском языке периодически становился темой общественной полемики. Церковнославянизмы включались в произведения светской литературы на русском литературном языке. Академик В.В. Виноградов выделил три функции церковнославянизмов в языке А. Пушкина:
-
1) средство создания торжественного колорита художественного текста. Они представлены
в патетических произведениях («Медный всадник», гражданская лирика и др.). Меньше в художественной прозе. Причем эта функция использования церковнославянизмов традиционна и находит воплощение в творчестве Радищева, И. Крылова, декабристов;
-
2) средство создания колорита изображаемой эпохи («Борис Годунов», «Полтава», «Песнь о вещем Олеге»). И в этом случае Пушкин извлекает лишь национально-характерное и художественно ценное содержание из «музейных» сокровищ старинной культуры;
-
3) соответствует основной тенденции пушкинского языка: взаимодействие и смешение церковнославянского и русского, литературного и разговорно-бытового. Церковнославянизмы в языке Пушкина сталкиваются с русскими словами, сливаются с ними, и таким образом происходит процесс их ассимиляции в русском языке, Пушкин «подчиняет церковнославянские формы выражения особенностям живой речи» [Виноградов,1982, c. 259].
Церковнославянизмы первых двух функций использовались вполне оправданно и другими писателями пушкинского окружения и впоследствии. Последняя функция - это плод гениальной смелости Пушкина, и именно это было предметом осуждения строгой критики.
Зима!.. Крестьянин , торжествуя , /
На дровнях обновляет путь ;
Его лошадка, снег почуя, /
Плетется рысью как-нибудь.
«В первый раз, я думаю, дровни находятся в завидном соседстве с торжеством» – так оценил языковые эксперименты Пушкина критик журнала «Атеней» [Цит. по: Виноградов, 1982, c. 262].
Обращаясь к церковнославянизмам как к источнику обогащения русского языка, Пушкин вместе с тем не преувеличивал их роли. «Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что словенский язык не есть русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что многие слова, многие обороты могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего не следует, чтобы мы могли писать да лоб-жет мя лобзанием вместо цалуй меня etc.». Эти его рассуждения в «Путешествии из Москвы в Петербург (1833–1834) свидетельствуют о том, что русский язык в эпоху Пушкина уже приобрел независимость от языка церковнославянского (Т. XI, с. 226). (Все высказывания Пушкина взяты из Полного собрания сочинений в 16 т. М., 1937.)
Ирония по поводу славянофильской приверженности к церковнославянской стихии звучит в черновике его записей «Старинные пословицы и поговорки» 1825 г.: « Иже не ври же, его же не пригоже. Насмешка над книжным языком: видно и в старину острились насчет славянизмов» (Т. VII, с. 533).
В церковнославянском языке Пушкин ценит не столько христианское содержание, сколько его выразительные возможности: краткость и свободу от европейского жеманства. «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность, - сообщал он в письме к П. Вяземскому (декабрь 1823 г.). - Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали» (T. XIII, с. 80).
Принятый Пушкиным ломоносовский принцип «пользы книг церковных» в российском языке был обозначен самим временем. Он отмечен, например, в одном из высказываний А. Бестужева-Марлинского. «Язык словенский служит для нас теперь арсеналом, – писал он в статье 1822 г. “Замечания на критику журнала «Сын Отечества»”, – берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем героев своих бычачьей кожею, а в охабни рядимcя только в маскарад. Употребляем звучные слова, напр., вертоград , ланиты , десница , но оставляем червям старины само и овамо , говядо и тому подобное» [РПоЯ, 1955, c. 110].
Октябрьские события 1917 г. вслед за петровскими реформами языка и азбуки стали следующим этапом, когда церковнославянский язык (ЦСЯ) в культурном сознании занял еще более периферийное место.
Исследователи выделяют три эпохи в развитии ЦСЯ постсоветского периода:
-
1) эпоха открытых гонений на Церковь (1918–1943). Государственные репрессии и
конфискация всех церковных типографий привели к резкому сокращению числа изданий на церковнославянском языке. Проблемы языка и книжности если и обсуждались, то оставались на периферии церковного сознания. Невозможность осуществлять издания богослужебной (и вообще церковной) литературы стала причиной того, что тексты на ЦСЯ распространялись в машинописных копиях, лишь в исключительных случаях появляясь в печати;
-
2) период (1943-1987), когда в силу политических причин изменился характер взаимоотношений церкви и государства и возникла возможность, пусть в скромных размерах, осуществлять издание богослужебной литературы. На протяжении этого периода Издательский отдел Московской патриархии был единственным, кто осуществлял издание богослужебных книг на территории СССР. В Московской духовной академии в качестве курсовых работ осуществлялся перевод на церковнославянский язык греческого Служебника.
Постсоветский период: 1987 – до наших дней - новый поворот в истории церковнославянского языка, начало его новой жизни. Возникли церковные издательства, печатающие богослужебную литературу, многочисленные репринтные издания богослужебных книг [Кравец-кий, Плетнева, 2001, c. 19–24].
В постсоветский период, когда рухнула идеология коммунизма, с возрождением церкви возникла необходимость в изучении церковнославянского языка - богослужебного языка Русской православной церкви, языка веры и молитвы. Церковнославянский язык начинает изучаться в православных учебных заведениях, в гимназиях, лицеях, воскресных и общеобразовательных школах вводится как предмет изучения, в кружках. Возникает необходимость в новых учебникахв и переиздании старых, дореволюционных.
Пособие А.И. Изотова «Старославянский и церковнославянские языки в средней школе» (М., 1992.144 с.) содержит сведения о старославянском языке в сопоставлении его с церковнославянским, и понятиям «старославянский»
и «церковнославянский» дано соответствующее определение. Это очень важно, поскольку в советское время термин «старославянский язык» вбирал в себя церковнославянский. Чрезвычайно показательно, что энциклопедия «Русский язык» 1979 г. под ред. Ф.П. Филина не имеет словарной статьи «церковнославянский язык». Во 2-м издании под ред. Ю.Н. Караулова (М., 1997) идеологический запрет преодолен, и в нее включены две отдельные статьи: старославянский язык и церковно-славянский.
Учебное руководство по церковнославянскому языку для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, воскресных школ и самообразования А.А. Плетневой и А.Г. Кравецкого (М., 2001. 288 с.) учит читать и понимать тексты, по-новому осмыслить многие явления русского языка.
Свидетельством новой жизни церковнославянского языка является издание словарей. В их числе: Краткий словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка (М., 1996) и Краткий словарь церковно-богослужебный. Для толкового чтения книг, уяснения смысла богослужения и обрядов православной церкви. М.: Фонд «Благовест», 1997. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и др.
Помимо этого, существуют периодические издания, которые включают тексты на церковнославянском языке и сведения о нем: «Ученые записки Российского православного университета Иоанна Богослова»; «Мир Божий» и др.
Вывод. Сложная история церковнославянского языка в контексте русской культуры в постсоветский период переживает своеобразное возрождение в развитии основных функций – передаче христианских ценностей и реализации его выразительных возможностей.
Заключение. Такое возвращение «языка благородной культуры», как назвал церковнославянский Д.С. Лихачев, благоприятным образом скажется на его популяризации и укреплении в новое время духовных и лингвистических поисков. Начатая еще в XIX в. дис- куссия о возможности перевода богослужения на русский язык не закончена, и если ей суждено положительное решение, то церковнославянский язык займет совсем периферийное положение, и это может стать непоправимой утратой, приведет к падению культурного уровня России, поскольку церковнославянский язык – это неиссякаемый источник для «обостренного постижения эмоционального звучания русского слова» [Лихачев, 1998]. Нельзя его потерять.
Список литературы Церковнославянский язык в контексте русской культуры
- ГАКК. Ф. 594. Оп. 1. Туруханский Троицкий монастырь.
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв.: учебник. 3-е изд. М., 1982.
- Григорьева Т.М. «Движущая, раскрытая исповедь» (История русской эпистолярной культуры пунктиром) // Филология и человек. 2016. № 2. С. 43-53.
- Григорьева Т.М. Реформа русской орфографии: от «книжной искусственности к живой простоте» // Русский язык в школе. 2017. № 3. С. 67-71.
- Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.